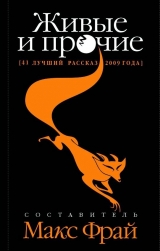
Текст книги "Живые и прочие (41 лучший рассказ 2009 года)"
Автор книги: Елена Хаецкая
Соавторы: Александр Шакилов,Алекс Гарридо,Юлия Зонис,Елена Касьян,Линор Горалик,Юлия Боровинская,Марина Воробьева,Оксана Санжарова,Лея Любомирская,Марина Богданова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
– Я конечно. Я подумаю, и завтра, конечно…
Трактир, кажется, превратился в корабль на средней волне и качался, не давая встать. В винном бокале дрожал и дробился свет свечи, и Ханс начал искать у пояса блокнот – так важно показалось зарисовать и бокал, и оплывающую свечу, и оловянную тарелку с сыром.
– Ты, Ханс, теперь наш, – хлопнул его по плечу Михель. – И даже не думай про свой Брабант. Чего тебе в этом Брабанте делать? Там небось живописцев на дюжину десять и не протолкнешься, а у нас ты один. А надумаешь удрать – так мы тебя женим. Хорошую девку найдем, цепкую, чтобы не сбежал. Не хочешь девку, так и вдову отыщем – крепкую, с хозяйством. Или… – Тут иерихонская труба его голоса ослабла. – Или она сама тебя найдет.
В дверях стояла Агнесса, и, повинуясь исходящему от нее покою, весь трактир присмирел, качка утихла.
По пути к Хансу она подобрала со столов короны старшего и младшего волхвов, надела на руку, как огромные браслеты. Третью походя сняла с головы брата:
– Поцарствовал – и будет с тебя. И чашу давай, пока в нее кто чего непотребного не сделал. Я вот что думаю, господин городской живописец, прибрать бы это все. А то будете потом свои труды по канавам собирать. Вон ангел наш уже так напраздновался, что и со звездой до дому не дойдет. Крылья снимай давай, – подергала она за плечо ангела. – Все стены ими уже обтер.
Морозный воздух обжег, но не отрезвил. Ханс пошатнулся, оперся на древко звезды. Агнесса придержала его за локоть рукой, унизанной коронами. Другой рукой она прижимала к груди ларец и чашу, под мышкой устроились стеганые ангельские крылья.
– Если заранее подумать, – сказала она, – так можно прямо сейчас перья собирать. Так и объявим: мол, кто гуся режет – хоть по десять перьев пусть тебе несут. А потом можно пришить будет. Или еще как. Но чтобы уж наш ангел самый красивый был. Ключи-то от ризницы у тебя есть? Отца Питера сейчас будить негоже – тихонько откроем, тихонько занесем. А потом уж лучше ко мне иди – куда тебе такому при церкви ночевать. Что головой мотаешь? Что говорить будут? Поговорят и перестанут. Ну как пойдешь ты ночью по храму бродить, так еще неведомо чего набродишь, а прибирать с утра кому?
– С меня сейчас можно писать блудного сына во хмелю, – сказал он непослушными губами.
– Блудного сына в трактире сейчас с кого хочешь писать можно. А с некоторых даже и Ноя упившегося. Да вот только господин художник шибко пьян, кисти не удержит. И не мое дело господину живописцу советовать, но пить помногу ему не надо. У нас тут Ноев и без него довольно.
Ханс посмотрел на нее с радостной и робкой улыбкой. Надо было сказать ей, Агнессе с крыльями, что-то очень хорошее, она поймет… Да вот это!
– Когда я был маленьким, в Брабанте представляли мистерию про потоп. Там был ковчег, и Ной, и сыновья его. Волны являли синим полотном. Голубей пускали из клетки, они летели… – У нас небось такое не представишь. Корабль целый строить – это ж кто возьмется… А Ференцу я завтра все выскажу. Нет чтобы сначала ризу снять, а потом набираться. Ничего, если не отойдет – покрасим луковой шелухой. Не сумел ходить в белых, пусть в красных представляет.
В тепле ее дома ноги отказали Хансу, и он мешком сидел в кресле, пока Агнесса доставала из сундука старую перину и стелила ее на прежнее место. Уже засыпая, он ощущал, как ловкие руки расстегивают пряжки и распутывают шнурки.
Потолок был знакомый – темный, с закопченными балками, с которых свисали пучки трав и луковые и чесночные косы. Запахи были знакомыми – мяты и валерианова корня, полыни, череды, а еще дыма и меда, и совсем немного – кота. «Наглого и черного», – уточнила память. Это от корытца, что стоит за дверью. Если не лежать на полу, то и не почуешь.
На секунду Хансу почудилось, что весь этот год привиделся ему во сне, и лишь вчера была метель, и он стоял, опираясь на мушкет, тщась разглядеть сквозь режущие лицо ледяные перья, куда в одночасье пропали все бравые парни Клааса.
Скрипнули половицы. Перекатив по перине гудящую голову, он увидел Агнессу. Она шла босиком, в мятой рубахе тонкого полотна и нижней юбке, с небрежно, для сна, заплетенной косою. Легко подняла с пола на скамью таз. Потащила за рукав из воды его рубаху, потерла побледневшее винное пятно. Плеснула в таз щелоку из горшка, долила парящего кипятка из котла над очагом и неспешно принялась за стирку.
Плеск воды, запахи, тепло утаскивали назад, в дремоту. Ханс заснул и увидел Марию на дубовом троне – тонкие девичьи персты придерживают белое покрывало. Младенец выставил из пеленок пухлый кулачок. Старший волхв, в старинном камзоле с длинными разрезными рукавами, преклоняет колени. «Осторожно, отец Питер, – хочет крикнуть Ханс, – не споткнитесь!» За спиной Девы стоит повитуха – широкое лицо спокойно, губы едва тронуты мечтательной, сонной улыбкой, светлая коса убрана под чепец, в руках обливной дельфтский кувшин и полотенце. «Ты таки сделал из меня волхва, Ханс! – улыбнулся священник. – Но у тебя я гораздо красивее, чем в жизни, – такое достоинство. И волос ты мне написал много больше, чем оставил мне Господь». – «Я что вижу, то и писал», – упорствовал господин живописец. «Если ты писал то, что видишь, где башмаки у верблюда? Я, между прочим, очень помню: передние ноги были в деревянных, а задние – в сапогах. А вот наш Теофраст вышел как живой. Что за волшебство – я хожу, а он следит за мной глазами». – «Это нет волшебство, просто трюк. Если зрачок вот так, совсем посредине, то он словно двигается. У господина лекаря весьма красивое лицо, я хотел, чтобы потом, уже совсем потом, на наших детей с картины смотрело красивое лицо. Как этот город…» – Ханс смутился и умолк.
* * *
Из каталога выставки «Золотой век немецкой живописи» (составители Феликс Либерман, Саша Эйхарт):
Настоящим открытием, помимо привезенной из Мартенбурга ранее неизвестной картины Лукаса Кранаха Старшего, можно считать мартенбургский «Алтарь волхвов». Это произведение создано творившим во второй половине XVI века мастером Хансом (так называемым Хансом Брабантским). Имя художника связано исключительно с Мартенбургом, полтора десятка сохранившихся живописных работ и более двух сотен графических листов находятся в местном соборе и в частных собраниях и ранее никогда не экспонировались.
Биография этого мастера была издана в 1730 году одним из его потомков, художником-гравером Ульрихом Нойманном (ок. 1698–1762), в собственной типографии. По преданию, Ханс Брабантский был солдатом-наемником, оставшимся при городском соборе после ранения и позже женившимся на местной уроженке Агнессе Бейль. Возможно, таким образом городские легенды трансформировали историю Ханса Мемлинга – немецкого живописца, осевшего во Фландрии. Этому мастеру также приписывали военное прошлое, жизнь при храме и даже любовь к монахине. В подтверждение истинности биографии Ульрих Нойманн приводит цитату из ныне утраченной части летописи города Мартенбурга и записи из церковно-приходской книги о браке Ханса, живописца, и Агнессы Бейль, вдовы, и крещении двух их детей.
Все три части «Алтаря волхвов» посвящены легенде о трех царях. Левая створка отведена сюжету «Волхвы у царя Ирода», правая – явлению волхвам ангела, центральная часть изображает поклонение волхвов Младенцу. Если правая и левая створки говорят о нидерландских корнях мастера, его приверженности старой фламандской школе и несомненном знакомстве с работами Ханса Мемлинга, Рогира ван дер Вейдена, а возможно, и Иеронима Босха, то центральная часть – настоящий гимн городу, ставшему новой родиной художника.
Композиция картины очень проста: три волхва и их свита направляются к находящемуся у правого края картины вертепу. «Хлев» не имеет никакого отношения к настоящему хлеву – это крошечное сооружение, построенное без передней стенки, едва вмещающее в себя ясли для младенца, Мадонну, сидящую на некотором подобии деревянного трона, Иосифа и служанку (повитуху). Из-за спин героев выглядывает вол. Осел привязан возле стены хлева.
Действие развивается линейно, горизонтально. Шествие разделено на три группы. Волхвы: первый, преклоняющий колени перед Девой; второй, склонившийся и прижимающий руку к груди; третий, протягивающий на вытянутой руке круглый сосуд. Следом за ними – свита волхвов, держащаяся слитной толпой, но различимая благодаря костюмам, – особенно выделяется фигура слуги, ведущего верблюда. Третья группа, написанная с особым вниманием, – простые люди, пришедшие поклониться Младенцу. Без сомнения, мы видим своеобразный групповой портрет города.
В целом вся картина весьма близка «Снежному поклонению» Брейгеля. Сомнительно, что Ханс Брабантец был знаком с этой картиной. Скорее всего, сходство породила близость натуры – и великий Брейгель, и практически неизвестный художник из Мартенбурга написали сцену поклонения, используя не фантазию, а память и наблюдательность. Каждый из них изображал не давнее событие в неведомом Вифлееме, а лишь несколько приукрашенную реальную мистериальную процессию. Реальность происходящего подчеркивает окружение: «хлев» выстроен на площади типичного немецкого городка, заваленные снегом дома плотно примыкают, друг к другу, снег лежит на мостовой, и всю сцену мы видим сквозь снежную пелену.
Можно предположить, что среди толпы мы видим и самого живописца: в свите первого волхва выделяется фигура красивого молодого мужчины в черном камзоле, отороченном рыжим мехом, и в большом разрезном берете – так называемом берете ландскнехта. Возможно, этот берет должен символизировать солдатское прошлое художника. Но основным аргументом является не головной убор, а взгляд второстепенного персонажа, адресованный не сцене поклонения, а зрителю. Подобный прием применялся достаточно часто. К примеру, мы можем наблюдать его в одном из «Поклонений» кисти Иеронима Босха.
Помимо «Алтаря волхвов», управа Мартенбурга предоставила восемь оригинальных картин Ханса Брабантского, одну копию и двадцать четыре рисунка (из них восемь – эскизы алтарной композиции).
* * *
– Герр Либерман, – Саша Эрхарт, подающий надежды молодой искусствовед, мрачно смотрит на репродукцию в каталоге, – герр Либерман, это ни разу не Брабантец. Это портрет одного из заказчиков, городского лекаря, я же вам говорила.
– Да-да, дорогая. Вот в следующей своей работе вы и разоблачите беспочвенные домыслы старого козла Либермана. А потом старый козел Либерман, в свою очередь… Я собираюсь заказать еще по куску торта. Каково ваше мнение, коллега, чем предпочтительней портить вашу фигуру – шоколадом или взбитыми сливками?
Отец Питер
Вволю померзнув и потоптавшись по снегу среди галдящих и хохочущих горожан, слегка утомленные праздником и большой рождественской мистерией, в тихом домике священника за столом сидели доктор Теофраст и отец Питер. Мягкое тепло топящейся печи обволакивало и убаюкивало, радостное возбуждение шумного дня постепенно сменялось вечерним тихим умиротворением, на столе сияла рубином внушительная бутыль наливки. Обоим было хорошо.
– Вы столько раз потчевали меня превосходными рассказами! Моя жизнь сами знаете какова. Но вот приключилось однажды и со мной одно… гм… чудо. Не желаете ли, дорогой друг, выслушать? Не думал, что еще хоть раз осмелюсь поведать о том, после исповеди у епископа… – Отец Питер заботливо наполнил стаканы, пододвинул блюдо с печеньем и, смущенно кашлянув, продолжил: – Уж не знаю, помните ли вы, но в тысяча пятьсот двадцать пятом году была очень холодная зима…
Зима 1525 года выдалась непривычно суровой.
Мейстер Альбрехт, прославленный художник, следовал в Саксонию по приглашению курфюрста. Земля, промерзшая до тяжелого звона, мечтала о снеге, деревья стояли, воздев узловатые черные руки, моля небеса послать им белые ризы. Карета катила по закаменевшей грязи, январь надвинулся, хмур и суров, ночью от студеного воздуха перехватывало дыхание и звезды сияли колючим недобрым блеском. В один из вечеров, после особенно лютой стужи, сердце фрау Метелицы смягчилось, серые тучи прорвались, и на дорогу, на пустые измученные поля, на человечье редкое жилье просыпался снег, да такой изобильный, словно Господь и вовсе решил спрятать землю с глаз Своих под белесой погребальной пеленой. Замерзшая вода сыпалась ночью и днем, и мейстер Альбрехт, зябко ежась в угрюмой колымаге, видел себя неким новым Ноем, зимним и одиноким среди закоченевшей природы. Нечего было и думать продолжать путешествие: колеса вязли в снегах, за ночь дороги заносит так, что и не отыщешь, где она была, эта дорога. Пришлось сворачивать в Мартенбург, переставлять тяжелую старинную карету на полозья, иначе и думать не стоит двигаться дальше, только загубишь лошадей.
Городок встал на пути, как вульгарная картинка этих хваленых голландцев. Теплые окошки, дымок над крышами, вишневые деревья в чьем-то садике, по пояс заваленные снегом, огромные слоистые сугробы нависают над краями крыш. Напишешь такую благодать, и считай, спета твоя песенка как художника: простаки-то будут в восторге, а приличные люди брезгливо сморщатся. Но что отвратительно в искусстве, вполне приемлемо в житейской буре, особенно коли сам ты устал и изможден погодой, тряской и дремлющей болезнью. Холод и сырость, ветер и снег губительны для великого живописца; если бы не высокий заказ, он предпочел бы тяготам пути уныние домашнего плена. Но теперь болезнь крепко удерживает его в Мартенбурге, точь-в-точь как назойливая опека дражайшей Анхен. Курфюст будет раздражен, правители не любят промедлений. Но нет худа без добра: покуда пребывает в ожидании курфюст Саксонии, покуда городские умельцы воюют со старым рыдваном, покуда томится в одиночестве заботливая супруга, мейстер Альбрехт проведет время не без пользы и удовольствия. Восстав с одра болезни, он, совершенно неожиданно для себя, обнаружил в городе три прелюбопытных вещи: неглупого и понимающего собеседника, отменную, в меру сладкую, в меру крепкую вишневую настойку и детскую картину своего заклятого друта-соперника, мейстера Лукаса. Четвертое благо – отсутствие милой супруги, но об этом мейстер Альбрехт не любит говорить вслух.
С отцом Питером, молодым священником Мартенбурга, они сходятся каждый вечер за бутылочкой прекрасной вишневки, и беседы их полны чинной строгости, смягченной взаимной приязнью. Давно уже мейстеру Альбрехту не случалось встретить на земле Германии человека, столь полно уважающего искусство вообще и конкретно его самого, мейстера Альбрехта.
Разумеется, кабы не зима, нездоровье и естественное его следствие – тоска и хандра, навряд ли их беседа была возможной. Все же этот отец Питер на десять лет моложе мейстера Альбрехта, некрасив, хотя и благообразен, совсем лишен придворного лоска и изощренности, провинциален и сентиментален. Но так уж рассудил Господь, и в конце января в занюханном городишке за одним столом и общей трапезой по прихотливой игре Фортуны сидели смирный священник и всесильный живописец самого императора. А этот простец, наверное, запомнит их случайные досуги навсегда. Пожалуй, еще и гордиться будет тем, что так запросто общался с живым гением. Случай уникальный, вряд ли когда-нибудь городишке так повезет еще раз! Некоторое время мейстер Альбрехт искренне забавлялся этой мыслью, конечно же не торопясь делиться ею, но каково же было его удивление, когда он узнал, кто именно писал алтарную картину для маленькой бедной церквушки этого сонного городка. Вялое благодушие как рукой сняло!
Заезжая знаменитость осматривала картину столь придирчиво и ревниво, что отцу Питеру даже стало слегка не по себе. И вот уже три дня, как мейстер Альбрехт неотступно и раздраженно думал о «Богородице с котенком», которую странствующий подмастерье написал для города по заказу некоего отца Бальтазара. За гроши, наверное, работал. Гордец мальчишка, в первый раз, наверное, поставил свою подпись – размашисто и лихо черкнул в углу: «Лукас из Кронаха». Кто же мог догадаться тогда, что пройдут годы и этот самый Лука прославится по всей Германии и далеко за ее пределами.
На столе горела свеча, комната была натоплена, и вишневая настойка в стаканах играла глубоким, благородным рубиновым огнем. Как называется этот оттенок? «Две первых капли голубиной крови»? Нет, в том больше от фиолетового, а здесь явно бьется пурпурно-красная искорка. Все же не рубин. Альмадин, пожалуй.
Мейстер Альбрехт привык, что люди подобострастно ловят каждое его слово, но не слышат, просто не желают услышать, что же он хочет сказать. Другие были еще отвратительней – перед ними приходилось заискивать самому. К счастью, таких было ничтожно мало. Ученики обожали его, но их слепая и назойливая любовь только язвила сердце.
Этот провинциальный священник, не блистая в диалоге, замечательно умел слушать: почтительно, притом не подобострастно, не прерывая течение мысли дилетантскими вопросами.
Говорили о живописи, конечно.
Постепенно мейстер Альбрехт увлекся и с неподдельным, удивительным даже для себя самого жаром стал рассуждать о благородной строгости против сусальной слезливости, говорить о недопустимости низведения небес в земную слякоть, о потакании низменному желанию черни умилиться, оскорбляющему Вечность. Отец Питер слушал с неослабевающим вниманием, ни на миг не отводя близоруких умных глаз от собеседника.
Вишневка ли или долгое изнурительное молчание, внезапная серьезность темы или близость картины соперника распаляли мейстера Альбрехта. «Мадонна» и впрямь была нехороша.
– Интересно, сам-то Лукас помнит ее? Ему стоило бы выкупить свою работу у города и спрятать подальше, от стыда и позора. Кого он рисовал, тупоголовый гордец? Христа? Молочные глазки младенчика на картине, они не могут прозреть грядущее величие. Это не Спаситель, это просто человеческое отродье, тупое и бессмысленное, как все младенцы. Мейстер Леонардо, когда писал младенца Христа, не унижал Спасителя. Святое дитя серьезно и строго смотрит на нас, провидя грядущую Голгофу. И к тому же помилуйте, ну это просто дурно нарисовано. Под плащом Марии не чувствуется скелета. Так сидят тряпичные куклы, так… – Мейстер Альбрехт внезапно зашелся резким лающим кашлем. Отец Питер грустно улыбнулся:
– Мейстер Альбрехт богато одарен не только гением, но и многими познаниями, и он черпает из бездны премудрости золотым кубком. А у моей паствы ложечки-то мелкие, оловянные, и им высоких прозрений не понять. – Голос у священника был чуть глуховатый, ласковый и печальный. – Они утешаются малым, потому что и есть сущие младенцы. Но ведь Господь не гнушается ими. Он и в земной своей жизни никогда не гнушался малыми детьми. Помните? «Не мешайте, – говорил, – пусть приходят». Да-да, сейчас вспомню! У Матфея Он сказал: «Кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном».
Мейстер Альбрехт поморщился:
– Господь наверняка имел в виду что-то другое!
Отец Питер задумчиво покачал головой:
– Что сказано, то сказано! – и поспешно добавил: – К тому же мейстер Лукас и сам был сущим ребенком, когда писал эту картину. Лет семнадцати, кажется.
– Зато теперь он зрелый протестант, этот ваш замечательный добрый Кранах, – с внезапной злостью прошипел Альбрехт. – Знаете, что он крестил детей у самого Лютера?
– Нет, этого я не знал, – опечалился священник и, немного помолчав, ни к селу ни к городу добавил: – Ну слава Богу, хоть дети крещеные.
Разговор, начавшийся было так интересно, вдруг стал каким-то дурацким, ускользнул и завертелся вокруг сущей ерунды. Дети Лютера, надо же! Какое им дело до каких-то сопливых детей Лютера? С чего вообще о них зашла речь? Говорим о картине, а она откровенно слаба и пестрит кучей огрехов.
Отец Питер, словно прочтя его мысли, разволновался:
– Хороша или плоха эта картина, но уже двадцать лет жители Мартенбурга приходят сюда и любуются ею. И видят не ошибки художника, уж простите, мейстер Альбрехт, не погрешности, а живую теплую красоту.
Мейстер Альбрехт язвительно парировал:
– Что есть красота?
Собеседник молчал, и мейстеру Альбрехту стало слегка не по себе. Неловкий, нелепый этот вопрос отозвался почти кощунством. Мейстер живописец неотвратимо и яростно пьянел. Какого черта этот святоша все время усмехается?
– Вы изволили сказать про теплую красоту. Да ведь теплое Господь изблевал из уст Своих. Или вы не помните? Он из-бле-вал! – В подтверждение своих слов живописец что есть сил ударил грубый тяжелый стол. И опомнился от резкой боли.
Священник мягко улыбнулся и предложил гостю еще вишневки, потому что стакан мейстера Альбрехта пуст. Мейстер Альбрехт так и вскинулся от внезапной и страстной обиды и абсолютно ледяным голосом потребовал уточнить, что хочет сказать отец Питер? На что он изволит намекать, утверждая… О, мейстер Альберт не опустошен… нет! И я не позволю, слышите? Никому, даже Господу, если Он вдруг захочет присчитать меня к полове, к сорной траве… Мне есть что сказать и всегда будет, я не покорюсь, и не надейтесь, что бы там… И вдруг осекся, вспомнив, с кем разговаривает. Смешно, право. И даже дико: это же попик, тихий, захолустный, да что за чертовщина такая, что же это я так? И вправду, видимо, развезло.
Отец Питер смотрел на господина живописца все теми же добрыми беспомощными глазами. Как у овцы, ей-право, только ресницы не такие пушистые.
– Отличная у вас вишневка, – нашелся он. – Право, знаете, хоть к столу курфюста подай! Может, поделитесь рецептом?
Тот опять застенчиво улыбнулся:
– Помилуйте, мейстер Альбрехт, я тут ни при чем, вся эта роскошь – дело нежных рук фрау Агнессы. Воистину, золотое сердце и небесная душа. Да вы ее видели, нашу красавицу, она как раз у картины была, как мы пришли. Если, конечно, изволили заметить.
Говоря о пастве, этот поп становится раздражающе многословен…
– Такая высокая, в бусах? И беременная? Это и есть ваша агница?
Ну конечно она. Не запомнить ее нельзя, таких еще поискать. Возле Кранаховой мазни и вправду торчала молодая баба, на редкость уродливая. Очевидно, фрау Агнесса и в девушках не блистала красой, а теперь и вовсе внушает омерзение. Безобразно вздутый живот, отекшее мужицкое лицо в каких-то пятнах, коралловые бусы, едва не врезающиеся в толстую шею. И в бабьей мерзкой плоти шевелится и вздыхает отвратительный гомункулус, будущий труп. Нарисуй такую – и готово, лучшая иллюстрация первородного греха, средство от похоти. Могу себе представить того олуха, что ее обрюхатил!
И вдруг с особенной четкостью мейстер Альбрехт понял, что эта бабенка у картины – и есть его родина, сама фрау Германия, сентиментальная телка, туша… Теплота. Куриная теплота. Не город, а перина, – и не заметил, что последние слова выплеснул наружу, в досаде и отвращении.
– Кранах написал вам ангелочка… с котиком… так мило… А хотите «Страшный суд»? А? Недорого?
Отец Питер даже не вздрогнул. Он смотрел в стол, на широкие доски. Ответил тихо и твердо:
– Нет, мейстер Альбрехт. Это слишком страшный дар для нашей церкви.
– А Мадонну, Мадонну хотите? Даже с кошкой могу. И недорого же… – Схватил отца Питера за рукав холодными пальцами и прохрипел с пьяной бравадой: – Довольно и годовых молебнов о моей душе!
– Перестаньте, мейстер Альбрехт, – прошептал священник. – Я и так буду молиться о вашей душе. Сколько нужно, столько и буду.
Они смотрели друг в друга так, словно кроме них на земле не осталось никого. За окном стояла глухая непроглядная тьма.
– Ну так я напишу для вас… для вашего храма образ. Апостола Петра. Это хоть можно?
И отец Питер в невыразимой печали и сострадании кивнул:
– Можно. Это можно.
Наутро, когда отец Питер пришел к бургомистру, слуга выносил вещи. Высокий гость отправлялся дальше, в Саксонию. Кутаясь в теплый плащ, мейстер Альбрехт вышел из дома и заметил священника. Отец Питер смущенно топтался на скрипучем снегу и держал в руках нелепую крестьянскую сумку-мешок.
– Доброго вам утра, мейстер Альбрехт. Уезжаете все-таки от нас? Я к вам с покорной просьбой. Вы же встретитесь в Саксонии с мейстером Лукасом? Не согласитесь ли вы передать ему бутылку вишневки от нашего города? В качестве скромной благодарности, за всё.
Мейстер Альбрехт усилием воли встряхнулся и принял увесистый мешок из руте отца Питера. Глухо звякнуло.
– Спасибо вам, – робко улыбнулся священник. – Там еще вторая, для вас. Храни вас Бог в пути. И вообще, храни вас Бог.
Вечером из дома бургомистра пришел слуга и принес большую холщовую папку. В ней лежала гравюра и четвертушка бумажного листа. Изящным угловатым почерком мейстер Альбрехт извещал, что сию гравюру он покорно просит принять в качестве скромной платы за гостеприимство и как дань дружбы и уважения. Отец Питер перевернул плотный желтоватый картон и вздрогнул. На гравюре в ледяном безмолвном кошмаре неслись вдаль Всадники Апокалипсиса.
Отец Питер вздохнул, рассеянно пожал плечами, как бы извиняясь, и продолжил:
– Через три года мейстер Альбрехт скончался. Господи, упокой его бессмертную душу, а я до сих пор молюсь о нем. Великий был дух. И страдающий.
Лекарь налил ему и себе, и оба выпили за мейстера Альбрехта. Страшные Всадники беззвучно мчались в бесконечном губительном полете. Вишневка рубиново сияла сквозь пламя свечи. Теофраст посмотрел на своего друга и, тщательно выговаривая каждое слово чуть заплетающимся языком, спросил:
– Отец Питер, а что, он серьезно хотел подарить городу картину?
– Думаю, да, – кивнул тот. – Он вообще был очень серьезен. Может быть, чувствовал, что недолго осталось? Сейчас я, безусловно, не оскорбил бы мейстера своим отказом. Но по молодости лет я так истово защищал покой города… Дурак был, что ж поделать.
– А… в городе знают? Знают, что вы отказались от его… подарка?
Отец Питер слегка улыбнулся и, допив вишневку, накрыл стакан ладонью.
– Да что вы, Теофраст! Добровольное самоубийство есть грех тягчайший, а бургомистр меня просто разорвал бы, аки лев. А сейчас никто и не поверит. Но вы все равно, пожалуйста, никому не говорите. Хорошо, сын мой? Просто по дружбе.







