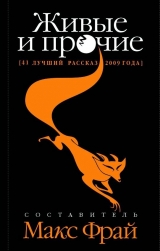
Текст книги "Живые и прочие (41 лучший рассказ 2009 года)"
Автор книги: Елена Хаецкая
Соавторы: Александр Шакилов,Алекс Гарридо,Юлия Зонис,Елена Касьян,Линор Горалик,Юлия Боровинская,Марина Воробьева,Оксана Санжарова,Лея Любомирская,Марина Богданова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
Виктор «Зверёк» Шепелев
ДНЕВНИК ДРУГОГО САНТЕХНИКА
– Нет, никаких секретов, Клавдия Клавдиевна, ничего от вас скрывать не стану. Стояк еще ничего, это он только снаружи поржавел слегка, а так крепкий, десять лет простоит. А вот краны… это, извините, труба. Надо полностью все менять. – Сложно с пенсионерами. Не верит, думает – что-то скрываю. Одним все плохо, а я скрываю, чтоб не огорчать. Другим все хорошо, «только бы прокладочку поменять, и будет как новенькое», а я скрываю, чтобы нажиться на стариках… «Прокладочку»!
И сама-то эта Клавдия Клавдиевна все лучше меня понимает – не в бутафорских железяках, ключах, прокладках, барашковых гайках и металлопластиковых трубах, а в том, чем я тут на самом деле занимаюсь. У самой, приходишь, – квартира длиннющая, комнаты не сосчитать, в конце темного коридора – не то зеркало, не то еще комната, вот где секретов накопилось, за девяносто лет-то. Но мы в чужие дела не лезем, своих не скрываем: перекроешь воду, сделаешь что полагается, поговоришь туда, потом для виду какие-нибудь гайки покрутишь или, там, прокладку ту же, резинку, заменишь – и уже понятно, что дальше говорить. «И не пью я, Клавдия Клавдиевна, ей-богу, и не предлагайте! Какой же я сантехник, раз не пью? Ну… старый».
Другой я сантехник просто. Как в техникуме и говорили: сначала без химии станешь в нужное состояние приходить, значит, водяру глушить перестанешь, а потом и особых слов не понадобится, так разбираться будешь, матюкатъся то есть не захочешь. Тогда, считай, уже настоящий другой сантехник.
– Нет, Ирина Рашидовна, никаких секретов, у меня вот на день в расписании три жильца было – у трех и побывал, никакого левака.
Зав. ЖЭКом крутит в руках негорящую электрическую лампочку, гладит ее, перекладывает из руки в руку. Говорят, давно привыкла. Говорят, из этой лампы, как Аладдин, мужей себе достает: один кончится, так она следующую лампочку потрет и…
Да черт с тем, что говорят. Все равно же она не мужей себе достает, а других электриков, с ними вон как сложно, они редкость, их в техникуме не выучить. Ну а замуж за них выходит по доброте исключительно – эти, из лампы, они же кроме электричества во всем остальном беспомощные. А уж куда она девает то, что от них остается, – это только другие сантехники знают. Потому она меня и отпустит, хоть и понимает: был, был левак, и не денежный – дала-таки в этот раз противная КлавКлавна пузыречек свежий. «Мне у нее дня три еще ошиваться. Под сотню бабуле, а она мало что краны поставить покрасивше, так еще и джакузи задумала».
– Нет, Васёк, сказал же: не-мо-гу! Никаких секретов, нормальная супружеская обязанность: Анька позарез просила, пока магазины не закрылись, – обоев, клея, плинтусов этих. И сам не рад, но вот не могу. Ну что «дядь Вась»? Жениться бы тебе, а не с дядь Васей пивко квасить. Тогда тоже каждый вечер будешь… обои покупать.
А вообще мы с ним почти ровесники, да еще и тезки, но как-то вот повелось «Васёк» и «дядь Вася» – и так пятнадцать лет уже. В разных ПТУ учились, поэтому он – один сантехник, обычный, а я другой. А разницу хрен объяснишь, не сказать чтобы обычные сантехники хуже чинили или после них ломалось, на вызовы по очереди ходим, и жалоб поровну. Ну, у них, в ПТУ-18, говорили: «Послушать большую раковину», а у нас, в ПТУ-19: «Поболтать с подземными лемурами», – разница понятна?
Самому не нравится выдумывать вот это все про обои, да еще и Аньку за глаза обидел, а она не такая. Но тем, кто из ПТУ-18, не объяснишь, что иногда надо просто походить по своему району, где трубы лежат, даже иногда вроде слышно, как там в трубах – будто маленькие лапки топ-топ-топ.
– Галочка, и не предлагай, ты же знаешь – я уже два года как завязал. Никаких секретов, просто врачи сказали: теперь после любой рюмки сразу кирдык. Сердце, сосуды – ни к черту, вся, блин, кровеносная система, я же сам сантехник, мне всю эту внутреннюю сантехнику теперь в порядке держать надо.
Это, конечно, для красного словца. В городе все наоборот: другие электрики следят за кабелями – это у города кровеносная система. Ну а мы, значит, – за движением воды. И прочих жидкостей. Это как бы нервные импульсы, нормально проходят – город правильно двигается, а если что напортачить – сразу эпилепсия.
Но Галка и сама все понимает, а водку всучить пыталась по старой привычке, у нее на ликероводочном подруга, она что-то с кое-какими бутылками делает, помечает их особо, а Галка, значит, здесь продает в минимаркете круглосуточном, они так мужиков размечают, а потом на эти бутылки наводятся и давай ночью… Не знаю что, честно говоря. И не интересуюсь.
Так что мне только хлеб и колбасу. Черт, и молоко. И сыр. И чай вроде кончался. И что там она еще говорила, черт… Самое сложное – это дома объясняться в такое время. И куда четыре часа делись?
– Анечка, солнце, никаких секретов, ей-бо, последний вызов надо было закончить – не оставлять же целый дом на ночь без воды? А потом с Васей, он тож задержался, заскочили пива выпить. – «Мда, хорошо, принял одну таки уже перед домом, с запахом нормально».
Лицо у моей Анечки сложное, но она добрая, очень старается. Во-первых, внешне как бы верит, что да, задержался, да, с Васей. Где-то поглубже изображает, что верит, как любая жена: «Завел себе кого-то, ну пусть его, сорок пять мужику, отстреляется и вернется». Ну понятно, уж моя-то Анечка непростушка, давно разгадала, что и как я делаю, и ключи мои, и гайки, и руки грязные ее не обманут.
Зато она не была бы так спокойна, если бы знала, что сон-траву прабабкину зря мне в суп сыплет, давно уже эти штучки на меня не действуют (тем более что из пузырька Клав Клавдиевны отхлебнуто для надежности), лучше бы хлороформом запаслась, раз так не терпится. Но услуга за услугу: она притворяется, что ничего в моей работе не понимает, и я тоже притворюсь, что заснул.
Только когда за ней закрывается окно, я быстро одеваюсь и отправляюсь к тем, кто меня ждет: восьмой по счету люк от начала соседней улицы. Погода так себе, конечно, и люки ржавые еще руками ворочать, в шахте этой все ржавое, мокрое, слизь… Ну не мне бы на ржавчину и сырость пенять. К тому же у других сантехников есть свои обязательства.
– Да ничего я не скрываю, никаких секретов, – говорю я на понятном тем языке, стараясь почти не двигаться и делать успокаивающий жест очень плавно, пока десятки маленьких лапок, почти человеческих, изучают меня на ощупь, а огромные лемурьи глаза – на вид. – Я бы конечно рассказал что-нибудь, да только те, наверху, так и не придумали ничего интересного.
Елена Боровицкая
ХЕЛЛОУИН ПРОФЕССОРА ПАХОМОВА
Пахомов опять попытался заснуть. Самолет мирно гудел, свет в салоне притушили, на экранах телевизоров мелькала какая-то погоня… Нет, заснуть не получится, нечего и мечтать. Не помогает даже предыдущая бессонная ночь. Последняя ночь дома. Он опять прокручивал в голове все то, что рухнуло на него и его семью за последние три месяца. Впрочем, на всю страну. Еще в июне жена ездила отдыхать в Испанию, вернулась довольная, строила планы, как они будут ремонтировать их маленькую квартирку, покупка которой ввергла их в кучу долгов. Планы так и остались планами: грянул августовский дефолт. Деньги были взяты в долг не у бандитов, у друзей. Которые сами сели на мель, а кое-кто и в минус.
Он хорошо помнил, как в середине сентября, недели через три после дефолта, жена проснулась утром в слезах, со словами: «Неужели это все та же страна, мне снилось, что мы уехали». И он понял, что выбора-то особого нет. Сколько можно? Он никогда не хотел уезжать насовсем, мотался на несколько месяцев в научные шабашки в Европу. Но насовсем – об этом даже не думал. Сын учится в институте, дочь в хорошей школе, куда им.
Тем утром он принял решение. Отъезд получился скорым, поспешным. Договорились, что жена с дочкой присоединятся к нему позже, когда он хотя бы немножко обживется. Сын продолжит учебу в институте. Пахомов схватился за первое подвернувшееся приглашение и, получив визу, взял билет на 31 октября до Нью-Йорка.
За круглым окошком самолета серел бесконечный день. Который час подряд – и все два пополудни. Стюардессы сновали по салону, разнося алкоголь, льющийся на рейсе Москва – Нью-Йорк рекой. А Пахомов старался не думать о последних минутах в аэропорту, о том, как перехватывало дыхание. Как побледнело и стало таким взрослым лицо сына.
– Ничего, ничего, – говорил он больше для себя, – не прежние времена, мир стал маленьким… Это раньше было – уехать, как в небытие кануть…
Маленький значок самолета на экранах телевизоров наконец-то достиг американского берега, загорелась лампочка «пристегнуть ремни». Когда самолет коснулся земли, Пахомов по европейской привычке захлопал в ладоши, но осекся: никто его не поддержал.
Переходы внутри аэропорта казались бесконечным лабиринтом, а длинная очередь к границе – совершенно неподвижной. Граждане Америки и носители зеленых карт споро ныряли в отведенные для них проходы и исчезали за распашными дверями, уже на территории США. Пограничник, пропускавший Пахомова, был корректен и деловит, как хорошо отлаженный автомат с газированной водой. Он произвел действия, для которых был предназначен, точно, четко, без спешки.
Распашные двери наконец-то открылись и для Пахомова. Наверное, он должен был что-то почувствовать, что-то важное. Но увы, ничего, кроме практического вопроса – где тут автобус до автовокзала в Манхэттене, – у него в голове не было. Надоело думать и переливать свои сомнения из пустого в порожнее. Хотелось последовательно выполнять простые действия, которые должны привести его в город Троя, штат Нью-Йорк. Где он сможет сначала выспаться в гостинице, а потом приступить к работе и решению мелких бытовых проблем: поиску жилья, мебели, какой-то посуды… Словом, он наконец-то займется тем, что неплохо отвлекает от дурацких мыслей о смысле жизни.
Неожиданно что-то яркое и нездешнее отвлекло Пахомова от здоровых практичных мыслей: серебристо-серый холл аэропорта неспешно пересекала стайка вампиров и ведьм. Они о чем-то весело щебетали, а одна из самых юных ведьм, встретившись взглядом с Пахомовым, приветливо пропела: «Happy Halloween!» Ну да, ведь сегодня канун Дня всех святых, праздник Хеллоуин. В России он почему-то так и не прижился. Пахомов улыбнулся и продолжил свой путь к выходу. Он не понимал смысла этого праздника: ну что за удовольствие рядится во всякую нечисть?
Автобус медленно полз по направлению к Манхэттену. Больше стоял в пробках, чем полз. А ведь еще добираться до Трои, часа три, наверное. Только к полуночи и приеду. Пахомов поглядывал в окошко. Он никогда не бывал в Америке и удивлялся тому, что совершенно не видно небоскребов, только какие-то пакгаузы и красные кирпичные здания, при виде которых в голову приходило неуместное слово «арсенал».
«Похоже, Америка действительно существует, – почему-то развеселился Пахомов. – Но нет, не поверю, пока не увижу своими глазами небоскреб». Зачем ему был нужен небоскреб, мало он, что ли, повидал их во Франкфурте? Наконец автобус вполз в низкий и душный ангар. Приехали.
Воздуха в ангаре не было, только коктейль из бензиновых паров и еще какой-то странной гари. Так пахнет Манхэттен, это знают все, кто там бывал. Но для Пахомова все было впервые. Он взял билет до Трои и вышел на улицу, до автобуса оставался еще час. Закурил, в горле запершило. Чужая страна песком набилась под веки. А может, и не страна вовсе, а обычная бессонница: пошли вторые сутки бодрствования. Вокруг, в вечерних огнях, царило людское столпотворение. Преобладали ведьмы, вампиры и летучие мыши. Но было и несколько чертей. Молоденькая нетрезвая чертовка уронила на тротуар розовый пластиковый трезубец, но даже не оглянулась, скрылась в толпе. Пахомов подобрал пустяшную безделку, повертел в руках и зачем-то решил взять себе. Сигарета противно горчила. Все вокруг противно горчило, даже эти яркие и, в общем-то, веселые вечерние огни.
«Ну и где же их хваленые небоскребы?»
Пахомов поднял глаза, вверх, выше, еще выше… Дома вокруг уходили в поднебесье, наклонялись, словно говоря: а вот мы где, небоскребы, давно надо было посмотреть вверх. Пахомов стоял, задрав голову, глядел и не мог наглядеться – сомнения рассеялись. Это был Манхэттен. Америка действительно существует.
Место в автобусе рядом с ним пустовало, и он был рад этому. Надеялся хоть немножко поспать в темном салоне и действительно задремал, пропустив выезд из Нью-Йорка. Когда проснулся, за окнами вдоль хайвея мелькали редкие, похожие на игрушки маленькие домики, золотисто освещенные изнутри. На деревьях висели фосфоресцирующие белые привидения. Пахомов вздохнул: так и испугать недолго. Впрочем, местные, наверное, привыкли.
Пока Пахомов спал, место рядом с ним занял красивый, уже седеющий негр в костюме дьявола. Или дьявол, который решил явиться Пахомову в облике красивого негра средних лет. Пахомову было все равно. Дьявол держал в руках плоскую бутылочку виски, наполовину пустую.
– Man? – Он приветливо протянул бутылку Пахомову.
– Нет, спасибо.
Еще не хватало заполировать это безумие вискарем. Пусть уж все идет, как идет, на условно ясную голову.
– Где твой костюм, man? – Дьявол указывал глазами на трезубец. – Вилка есть, а костюма нет.
– Это не мое, кто-то потерял.
– Ты нездешний, man? – Ну еще бы, с таким-то акцентом. – Едешь домой, man?
Пахомов с трудом разбирал эти распевные интонации, этот странный, сладковато-тягучий язык. Он впервые слышал акцент эбоники.
– Я еду из дома, – сказал он неожиданно для себя. – Я сегодня уехал из дома.
Но тут же спохватился: зачем он говорит это тут, случайному попутчику?
– Знаете, я не понимаю этого праздника, Хеллоуина. У нас его не отмечают. Что за радость одеваться всякой нечистью? Жуткий какой-то праздник…
– Да, ты не понимаешь, man, совсем не понимаешь, man. Этот праздник бывает осенью, да, man? Люди возвращаются домой, с полей. Летом длинные дни, man, и много работы, man. Людей часто нет дома, ведь так, man? И пока их нет дома, man, в дом набивается нечисть, man. Ведьмы и привидения, man, они чувствуют себя хозяевами, man. И главное – не бояться их, да, man! И тогда мы сами одеваемся как ведьмы и вампиры, man, мы смеемся и пляшем, man, чтобы они знали: мы не боимся их, man. И нечисть уходит, man, потому что ей нечем заняться, man! В доме, где ее не боятся, ей нечем заняться, man!
«Сегодня я уехал из дома, – думал Пахомов, пробираясь к смыслу сказанного через частокол эбоники, – я уехал из дома, навсегда. В день, когда люди изгоняют из домов нечисть… И кем это делает меня?»
Мысли, утомленные бессонным бегом, путались, хромали и спотыкались.
– А куда отправляется нечисть, когда ее не станет в доме? Так и скитается, бездомная? – Его голос дрогнул. Совсем чуть-чуть.
– Мы не звери, man. Мы не хотим им зла, man. Лично я верю, что они найдут свой дом, man. Каждый из них. В каком-то другом мире, не в нашем, но найдут, man. И им там будет даже лучше, они будут там счастливы, man.
Дьявол замолк. Автобус осторожно спускался с моста над Гудзоном. Вскоре он вздохнул и остановился на круглой площади, над которой светились большие часы. Пассажиры завозились, двинулись к выходу.
Пахомов поставил на землю тяжелую сумку, повертел в руках розовый трезубец, усмехнулся и сунул в ближайшую урну. Часы над башней начали отбивать время. Неторопливо упали двенадцать ударов. Хеллоуин кончился, нечисть изгнали из домов. Пора было начинать новую жизнь.
Марина Богданова, Оксана Санжарова
ДЕСЯТЬ АНГЕЛОВ МАРТЕНБУРГА
Ангел кошачьего молока
– Так ты говоришь, старая Тильда померла, а сыну ее ты не нужен? Ну и дурак тогда ее сын. Не пройдет и месяца, как от мышей спасу не будет, – побежит тебя на улицу искать или к Агнессе за мышьим отворотом. Что за мыший отворот? Мешочек такой, в нем хвостик да корочка, да мышья косточка, да пергамента клочок, а на нем Агнесса нацарапала что-то. Я как-то под телегу бондаря попала, целую неделю у Агнессы прожила – и шьет она эти мешки, и шьет, бойко идут. Даже из Гаммельна за ними едут. А дело знаешь в чем? Не в косточке, не в хвостике, а в мешковине. Она ее под золу в то корытце стелет, куда ее Густав ходит. Не знаешь Густава Агнессы? Да что ты вообще тогда знаешь?! Вот была я помоложе…
Постирает тряпку потом, конечно. Только мыши и того, что осталось, довольно. Так бы и нюхала эти мешки, так бы и нюхала…
Да ты не бойся, не пропадешь, город у нас хороший; вот в Гаммельне, говорят, в прошлом месяце ведьму жгли и сорок черных кошек с ней, а в Мартенбурге нет такого и в заводе. И никаких тебе перчаток из кошачьих шкурок – это оттого, что у нас бездомных мало. Ну разве что как у тебя – хозяин помер, а взять некому. Или как я – я, понимаешь ли, совсем не могу, когда детей топят, некоторые ничего, а я – не могу. Почему топят? Экий ты смешной. Право слово, что ж тебя Тильда, совсем не выпускала? Ничего – наверстаешь. Ты вот наверстаешь, а я, к примеру, ходи потом с брюхом. А потом известно что – не успела выродить, да облизать, да последы подъесть, а уже ведро тащут. Ну оставят тебе одного, много – двух, чтоб с молоком не мучилась. А я и по шесть порой рожаю. Вот и ушла. Но у меня, что ни раз – все красавцы, сама пристраивала – кого пекарю под дверь, кого – мяснику. Мало кто на улице остался. Ходят теперь гладкие. И не узнает никто. Вот там видишь, окошко горит? Там мой Мартин живет – это еще с позапозапрошлой весны. От Густава, кстати. И чудно так: я, когда еще в доме жила, Мартой была, и он – Мартин. Я тебе потом покажу – он на окне сидит часто, такой красавец.
Нет, хорошо у нас. Чокнутая Брюн с мешком объедков часто ходит: «Кити-кити-кити…» Ты только сразу к ней не кидайся, а подожди, пока мешок вытряхнет да уйдет. Нет, она ничего не сделает, но ты подожди. И каждый рыбак с улова на пристань по три рыбины кладет, а кто и пять – наша доля. А по четвергам после службы сам отец Питер идет на рынок, покупает рыбью мелочь и высыпает в корытце на паперти – и это нам. Плохо ли? Ну и Агнесса, опять же. Совсем взять не возьмет, другого кота Густав не потерпит, а покормить – покормит. Нет, не пропадешь, летом на рынке объедки, рыба та же, что мелкая и в засол не пойдет, – все нам, главное не зевать. Да умывайся, умывайся почаще: чистым дают охотнее, это как с нищими – несчастный, пусть, но чтоб чистый. И осенью до самых заморозков хорошо. И весной. Только и трудов нам – зиму пережить. Ты только не суетись, днем надо забиться, где потеплей, да спать. Сарай вот дровяной – видишь, какой лаз удобный?
Свернись, прижмись, дыханьем грейся. А хочешь, так и со мной, только, чур, не баловать, стара я уже для баловства. Главное, темноты дождись. Нет, не сумерек, а совсем темноты. А потом смотри и слушай: как услышишь вроде плеск – так вылезай. Куда бежать, покажут. У меня чутье уже не то, но тут опоздать не страшно, всегда всем хватает. Бок у Марты был костлявый и теплый. Кот («Ах ты, Рыжик, мальчик мой, рыжий черт, прорва ненасытная») привалился к ней, плотнее уткнул нос в брюхо и задремал.
Над вымерзшим городом, над заснеженной черепицей низеньких домов, над флюгером на магистрате, над колокольней церкви Девы Марии Тишайшей шорох, шелест, мягкое колебание мерзлого воздуха. Где сегодня – а вот хоть тут, у бесполезной башенки на крыше знахарки Агнессы, там под черепицей, на чердаке, летний запах от сухих трав и крылья уснувших осенью бабочек, а над печной трубой – хитро кованный козырек в завитках. Серая хламида сминается прямыми складками, как на алтарной картине, возле которой так любит стоять отец Питер, наклоняется деревянная миска, и белый, гладкий поток соединяет небо и снег. Искрящийся сугроб протаивает белой чашей, сладкий пар и запах, как от молочного супа с клецками, как от молочницы Марии, что летом приносила тяжелый кувшин, как от палево-рыжего брюха, которое надо толкать лапами, пока прямо в рот не брызнет…
Серые, рыжие, белые – так что по снегу несется лишь тень, – запретно черные, полосатые, с меткой Богородицы на пушистых лбах – бегут они к снежной чаше. Серые, рыжие, черные морды в густых и сладких молочных звездах. Розовые лепестки языков складываются крошечными ковшиками, сугроб, дом, город покачиваются в слитном ритме молочного плеска.
Звук этот заставляет сонно ворочаться дочь бургомистра. А ее толстого любимца Мартина и вовсе будит. В звездчатой прорези ставни – стылая луна, под пологом постели, на тонких нитях чуть колышутся золотые пряничные звезды, изразцы печи горячи, молоко в блюдце тепло, и только от окна тянет зимним, сахарным ветерком, в который вплетен сладкий по-иному запах. Мартин тяжело спрыгивает с окна. Подцепляет лапой дверь, вниз-вниз по лестнице, в первый раз за зиму в прорезанное в двери оконце, заботливо прикрытое кожаным фартуком, обжигая нежные подушечки непривычным для лап снегом – туда, к манящей протаянной чаше, от которой неторопливо расходятся рыжие, черные, серые, сытые. Озадаченно принюхивается. И что это с ними каждый раз? Снег как снег…







