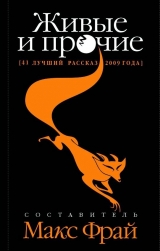
Текст книги "Живые и прочие (41 лучший рассказ 2009 года)"
Автор книги: Елена Хаецкая
Соавторы: Александр Шакилов,Алекс Гарридо,Юлия Зонис,Елена Касьян,Линор Горалик,Юлия Боровинская,Марина Воробьева,Оксана Санжарова,Лея Любомирская,Марина Богданова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
Ася Датнова
ДЕТАЛЬ ПЕЙЗАЖА
Двое вошли в квартиру и остановились на пороге, избегая глядеть друг на друга, словно вернулись после долгого отсутствия и обнаружили, что их дом тесней и хуже, чем казалось в воспоминаниях.
Он присел на продавленный диван и обвел комнату взглядом провидца, чьи худшие предположения снова сбываются.
– За эти деньги… – сказал он и закурил.
– И балкон есть, – сказала она. – Постепенно приведем в порядок.
– Кто тут раньше жил? – спросил он, привыкая к мысли, что теперь здесь будет жить он.
– Одинокая старая женщина, – сказала она.
– Причем карлик, – он чуть развеселился, – обычный человек не поместится на этом диване. Разве что подожмет колени к подбородку. Пахнет так, словно на нем она и умерла.
Ночью они спали вместе; должно быть, думала она, они еще любили друг друга, если уместились вдвоем на таком маленьком диване.
На следующее утро она принялась за уборку – самый простой из известных способов делать чужое своим. Возя веником за шкафом, она наткнулась на какой-то предмет и вытащила его. Это оказалась картина, написанная нетвердой рукой любителя, в облезшей рамке, кем-то засунутая в дальний угол. Она протерла ее от пыли. На картине был изображен мужчина на фоне пейзажа. Лицо у него было асимметричным, нездоровым, да еще и художник старался подчеркнуть все его недостатки, словно находил в этом злорадное удовольствие. Пейзаж за спиной неизвестного расстилался необычайно безрадостный: пара угрюмых елей, болотце с ряской, гнетущее небо. Мужчина стоял, задрав плечи и сунув руки в карманы, выпятив острый подбородок, с некоторым протестом по отношению неизвестно к чему. Глаза у него были коричневыми и блестящими, как муравьи, и смотрели прямо на нее. Она знала, есть такой прием, когда зрачок рисуют по центру глаза, и, в какой угол комнаты ни отойди, будет казаться, что портрет следит за тобой взглядом.
Внезапно он пришел в себя. Еще прежде чем очнуться, он вдруг понял: он есть. Это было не мыслью, а болезненным толчком изнутри – одним стремительным рывком выдернуло его из глубин. Долгие годы он плыл в нигде, о котором ничего не помнил, сейчас ему представилось, что оно было похоже на абсолютное ничто с пузырями, носящимися в серой тьме с мягким шорохом. Давно никто не смотрел на него. Когда на него не смотрели, его не было.
Он ухватился за это ощущение, как водолаз за трос, вынырнул и ослеп. А потом увидел близко внимательный серый глаз с расставленными в глубине рыжими точками, как веснушками, темную линию, очертившую радужку, зрачок, в который, как в черную дыру, уносилась его душа. Он жадно впился в него. Сперва было больно, словно сунуть обмороженную руку в горячую воду. Но она смотрела, и это прошло. Звон в ушах исчез, распадаясь на отдельные звуки. Ветер коснулся лица, повисла на плечах тяжесть отсыревшего пальто, в кармане пальцы нащупали крошки табака. Он был.
Она рассматривала картину, и ей отчего-то стало печально и захотелось плакать. «Какая красота», – сказала она, хотя ничего не понимала в живописи, и, поискав глазами подходящий гвоздик, водрузила картину на стену – прямо напротив дивана.
– Черт знает, – сказал он, хлебая суп, – что за мазню ты повесила.
– Пусть повисит, – просительно сказала она. – Не знаю, как это нарисовано, но мне нравится.
Он был известный в узких кругах художник, и при нем она стеснялась говорить, что ей нравится в картинах, а что нет.
– Все-таки, – объяснила она, – кто-то старался.
– «Неизвестный художник». И правильно, что неизвестный, ценности не представляет. Не поленюсь и сам снесу на помойку.
В последнее время он стал часто раздражаться на нее по пустякам.
Во сне она шла по незнакомой местности. Дул осенний ветер, земля была сырой, с каждым шагом из земли сочилась черная вода. Вились в воздухе комары с тонким писком. Болото огибала дорога. Ей хотелось идти и идти по этой дороге и навсегда скрыться за поворотом.
Сначала он наслаждался ощущениями. Если она смотрела на него, мир распахивался и писк комара гремел, как труба, зелень травы резала глаза, он глох и слеп, и казалось, еще немного – и он не вынесет, не сможет вместить в себя все это. Когда она отворачивалась, еще долго стоял в нем неслышный звон, постепенно затихая, он расходовал запас бережно. Все время хотелось еще. Когда она давала ему есть себя, он исполнялся благодарности, истончающейся до нежности. Он понял: те, кто смотрит на него, отдают ему вот это тонкое, мерцающее, теплое, вытекающее через глаза. И он праздновал насыщение.
Мужчина ему не нравился. Он никогда не смотрел на него: он смотрел сквозь.
Она варила кофе и удивлялась, отчего ее вдруг снова одолели те мысли. Они были вместе долго, и все было правильно. Были свои печали, и радости, и небольшие события, ссоры, болезни, но ведь это и была жизнь, во всяком случае вполне реальная, без фантазий.
Она машинально взглянула на портрет, как иной раз смотрят в зеркало, в поисках ответного взгляда. Карие глаза были теплыми, тающими, как смола в жаркий день, словно мужчина смотрел на что-то хорошее. Видимо, картина была нарисована все же неплохо, что бы он там ни говорил, иначе почему казалось, что глаза все время меняют выражение. Она наклонилась и прочла надпись в углу картины. Там стоял год – судя по нему, ни мужчины, изображенного на портрете, ни самого художника, скорее всего, давно не было в живых – и какая-то закорючка. Вчера она не могла ее разобрать, а сегодня сама удивилась этому, потому что в углу явно было написано: «Женя».
Она смотрела, распахнув глаза, не сопротивляясь. Бессловесность отпускала его. На смену ощущениям пришли общие понятия, сперва смутные, большие. Странно. Вроде как это было стыдно – жить за счет другого существа. Он спрашивал себя и честно отвечал себе, что не может иначе. Таким он создан, значит, это не может быть плохо, иначе откуда такая радость. Но теперь к радости примешивалась горечь, он не хотел горечь. Женя. Это он – Женя. Он понял это вчера, когда она готовила кофе и посматривала на него. Правда, он не знал, что такое «Женя». Но в этом было что-то нехорошее, неприятное, оно ползло, шевеля ножками, он не хотел знать, что оно такое.
– Знаешь, – сказала она, – наверное, это автопортрет.
– С чего ты взяла?
– Не знаю. Только себя человек может изображать так зло.
Он дернул плечами, словно ему жал пиджак. Он терпеть не мог, когда она пускалась в эти мутные разговоры про сны и ощущения, в эти моменты ему казалось, что она – дура, а жить с дурой невозможно.
– Я чувствую себя усталой, – пожаловалась она. – Целыми днями сплю.
– Поезжай за город, – сказал он, – подыши воздухом. Мне как раз вчера Гриша рассказывал про любовь клеща. Тебе понравится. Представь, клещ сидит на травинке, – он воздел к небу руки молитвенным жестом, – и ждет; день, другой, месяц, другой. Ждет свою любовь. – Он пошевелил пальцами. – А ведь может так за всю жизнь и не дождаться и помереть с голоду.
Она смотрела на то, как он приседает и поднимает руки, и думала, что последнее время он стал казаться ей несимпатичным.
Сперва он считал, что безволен и обречен смотреть, существуя за ее счет. Она становилась всем вокруг – небом, землей, воздухом, им самим, перетекала и курилась вокруг, и дышала. Стало хуже, раньше он был сыт, а теперь никак не мог насытиться. Теперь он поневоле все знал о ней, даже то, о чем она не хотела знать сама: что будет дальше. Это была обычная и глупая история. Любовь клеща: мужчина нуждался в ней.
Но разве он сам не поступал так же?
Потом ему открылось, что, глядя на него, она могла бы различить все свои печали (отраженные в болоте ели), и забытые мечты (мелкие цветы), и саму себя. Он думал, она существует, чтобы смотреть на него, а это он существовал, чтобы она могла посмотреть на себя.
Было и еще что-то, крохотное, далекое, принадлежавшее только ему. Он боялся себя узнавать. Откуда-то он знал, что это было бы больно. Но теперь он уже не мог сопротивляться. Быть может, оттуда он сможет позвать ее.
И тогда он согласился понять, кто он. И вспомнил.
И тот год, и ту женщину. И то, что он – ничто, кроме как переливы пигмента и игра отражений.
Диван надо выкинуть и купить нормальную тахту. А то так и будут сниться кошмары. Какой-то смутно знакомый человек, все путалось, сон хотелось сразу забыть, он увядал разом, блёк, как вытащенный на поверхность камень, в воде сокровище, на ладони – галька; вроде бы почему-то надо было умирать и заранее знаешь это, и одиноко, и дурно, и мучает запах краски, и никак нельзя объясниться в любви, даже теперь. И вроде бы этот сон подсказывал ей еще… Да нет, не то.
Про эту мазню он совсем забыл, надо же, ведь все уничтожил. А портрет подарил ей, и очень глупо. Каков кретин; я думал, что я в нем весь как на ладони и все понятно. Стыдно. Тоже мне Аполлон, рассматривать тебя… Только не говорите мне, что это был шедевр, ха-ха. Вот это ад так ад, а я тогда думал, хуже не будет. Неважно. Если мир устроен так глупо, черт с ним, если я, который сдох, должен теперь почти жить на старой картонке, под чужим взглядом, если… Но неужели просто смотреть на все это день за днем? Дай я хоть скажу тебе то, что знаю. Посмотри на меня, посмотри на меня, посмотринаменя!
Она лежала в темноте, слушая, как он похрапывает, и не могла понять, что ее беспокоит. Все было хорошо. А потом поняла. Она встала, обернувшись простыней, и прошлепала к портрету. Нечего на нее так смотреть.
Пустота забивалась в нос, в рот. Было страшно. Он успел удивиться тому, что забыл, как это бывает. И умер еще раз.
– Что ты там шуруешь? – спросил он, пошевелившись.
– Прячу эту мазню за шкаф, – ответила она. – Раз она тебе не нравится.
– Честно сказать, – пробормотал он, – не знаю, почему она всегда меня ужас как раздражала.
Елена Касьян
СО СТОРОНЫ УЛИЦЫ
Владек сидит в кресле, вытянув длинные ноги в клетчатых пантуфлях, барабанит пальцами по подлокотнику и злится. Не проходит и дня, чтобы Ружена не попрекнула его хоть чем-то, хоть чашкой кофе, хоть куском мыла. Она думает, что сидеть весь день в кресле – это так приятно?
Да, допустим, ничего не делаю. Да, допустим, ни копейки в дом. Да, допустим, прирос, представь себе…
Владек поплотнее запахивает халат и закидывает ногу на ногу. Очень хочется курить.
Ружена стремительно проходит мимо него в спальню, потом обратно в ванную, нарочито громко хлопает дверцами шкафчиков, что-то роняет, ругается сквозь зубы, идет на кухню, звенит посудой…
Собирается на работу. Так каждое утро. Истеричка!
* * *
– Да нет, это не выход, – говорит Ружена и отодвигает от себя пустую чашку. – Ну позвоню я ей, и что я скажу?
– Так и скажешь, – говорит Зося, – образумьте, мол, вашего сына, сил никаких нет!
– Ага, ты не знаешь его мать! – Ружена машет официанту и пальцем показывает на пустую чашку. – Проще сразу развестись!
Официант кивает и скрывается за стойкой. Через секунду он появляется с маленьким чайничком на подносе.
Зося ждет, когда официант подольет горячего кофе и отойдет обратно к барной стойке, потом наклоняется и что-то шепчет Ружене прямо в ухо.
– Да ну тебя! – говорит Ружена, краснеет и с любопытством смотрит на официанта. – Да ну тебя! – еще раз говорит она, придвигает к себе чашку и сосредоточенно кладет в нее поочередно три кусочка сахара.
* * *
«Очень хочется курить, – думает Владек. – Очень хочется курить, а нечего!»
Он встает с кресла, медленно потягивается, запахивает халат и идет на кухню. Там он забирается на табурет и долго шарит рукой между банок, стоящих на полке под самым потолком. Ничего не найдя, он слезает с табурета, чихает от посыпавшейся пыли, злится, отряхивает рукав халата.
– Истеричка! – говорит Владек вслух.
Он открывает холодильник, достает кусок краковской колбасы и быстро ест, откусывая большими кусками. Продолжая есть, подходит к окну, опирается свободной рукой о подоконник и стоит так какое-то время.
Вдруг плечи его начинают как-то странно подергиваться. И если бы кто-то посмотрел в окно со стороны улицы, то увидел бы худого заросшего мужчину, который стоит, упершись лбом в стекло, и давится рыданиями пополам с колбасой, поминутно всхлипывая и содрогаясь всем телом.
* * *
– Это сколько, получается, Владек не работает? – спрашивает Зося.
Они идут под руку вниз по улице, и Ружена пытается иоправить волосы, но сумочка каждый раз сползает с плеча и повисает на локте. Они останавливаются, Зося терпеливо ждет, пока Ружена поправит сумочку и уложит локон за ухо. Тогда они продолжают идти, чтобы через несколько шагав все повторилось.
– Шесть месяцев уже, – говорит Ружена, поправляя волосы. – Полгода, представляешь? Да ладно бы не работал. Ему лень даже из дому выйти! Он даже не бреется уже, представляешь?
– С трудом, – улыбается Зося, – хотела бы я на это посмотреть.
– Вот и посмотрела бы! Улыбается она! – Ружена высвобождает руку и демонстративно прячет ее в карман. – Я скоро с ума сойду вообхце!
– Ну хочешь, я с ним поговорю? – Зося снова настойчиво берет ее под руку, и они продолжают идти вниз по улице. – Ну хочешь, прямо сейчас?
Ружена пожимает плечами и какое-то время идет молча, глядя себе под ноги.
– И что? Ну вот что ты ему скажешь? – неуверенно спрашивает она.
– Ну хотя бы пристыжу! Знаешь, иногда на мужчин это действует. Ой, вот был у меня один случай…
* * *
Владек слышит, как открываются дверцы лифта и кто-то разговаривает на лестничной площадке. Какой-то шум, звяканье ключей, смешки…
Владек быстро кладет колбасу в холодильник и большими прыжками несется в комнату. Там он усаживается в кресло, вытягивает ноги, скрещивает руки на груди и старается дышать ровнее.
Ружена включает в коридоре свет и тут же обнаруживает разбросанные клетчатые пантуфли.
– Так-так, – громко говорит она, глазами показывая Зосе на пантуфли, – проходи, Зосенька, проходи!
Она ведет Зоею прямо в комнату, попутно поправляя сумочку на плече. Они останавливаются перед креслом:
– Вот, Зосенька, полюбуйся!
И обращаясь к Владеку:
– Хоть поднялся бы, что ли! У нас гости, между прочим!
Зося смотрит на пустое кресло и чувствует, как вниз по позвоночнику скатывается холодная капля. Она оглядывается в надежде увидеть Владека на диване, или у окна, или хотя бы у двери, но в комнате никого нет. Ни-ко-го!
Зося стоит и смотрит, как Ружена разговаривает с пустым креслом, и думает: «Всё. Ружка помешалась. Какой ужас. Какой кошмар…»
* * *
Владек закидывает ногу на ногу и понимает, что потерял пантуфли по дороге из кухни. Он расстраивается и злится еще больше.
Ружена заходит а комнату, встает прямо перед креслом, и снова начинаются обычные претензии. А, нет, сегодня что-то новенькое.
Гости? Какие такие гости? Владек вжимается в спинку и смотрит на дверь с раздражением, хотя и не без любопытства.
В коридоре как-то очень тихо. Владек смотрит на дверь и ждет.
– Вот, Зосенька, полюбуйся! – говорит вдруг Ружена и улыбается в воздух.
Владеку становится не по себе. Он быстро оглядывает комнату. Да ну, он же не идиот, в самом деле. Никого нет! Никого и не может быть!
Владек смотрит, как Ружена разговаривает с воздухом, помогая себе жестами и ужимками, и у него сдают нервы.
– Ты дура??? – кричит он и страшно пучит глаза. – Ты что, полная дура?
Ружена от неожиданности роняет на пол сумочку, бледнеет и бежит на кухню. Владек идет следом, задерживаясь в коридоре, чтобы надеть пантуфли. Ружена быстро забирается на подоконник, открывает форточку, высовывает голову и кричит:
– Помогите! На помощь!!! Кто-нибудь, помогите!
И если бы кто-то посмотрел в окно со стороны улицы, то увидел бы лишь битые стекла заброшенного дома и кусок грязной занавески, колышимой сквозняками.
Татьяна Замировская
ПРИБАВЛЕНИЕ
– В некоторых ситуациях человеку нужно помогать, – сказал папа, когда привел домой тетю Гулю и троих ее детей, двух потемнее и одного посветлее, вообще белокурого, ясного, как солнце.
Это будут мои братья, понял я. Самый маленький из тех, кто потемнее, мялся в коридоре, боялся поднять глаза, он был весь укутанный в какую-то синюю ветошь; чтобы казаться выше, он встал на папин парадный ботинок и так балансировал, угрожающе стреляя черными глазами по сторонам. Маленький брат, придется заботиться. Из-под ветоши выбивались черные локоны. Может быть, и девочка, подумал я, придется возиться. В любом случае теперь дома будет много возни.
Мама сказала:
– Максим Максимович! – (Это мне.)
И папа сказал:
– Сын! Вот ты всегда хотел, чтобы у тебя были братья!
Мама произнесла небольшую речь: тетя Гуля была папина первая тетя, в смысле первая тетя, которую он встретил в жизни, у них была любовь, у тети Гули родилась девочка (тут передо мной вытолкнули того, белокурого и светлого, как альбинос, – выяснилось, что он-то и есть девочка, причем выше меня на две папины головы, придется повозиться), потом по каким-то непонятным причинам тетя Гуля вышла замуж за дядю Арама (его вообще никто не видел), но он недавно ее зарезал, убил и повесил ее внутренности на белую березу, что во дворе стояла, почему зарезал, непонятно, привиделось что-то. Разумеется, в таком подвешенном состоянии оставаться небезопасно, поэтому тетя Гуля взяла своих детей, двоих уже от этого дяди Арама, собственно, и решила пойти к нам, а куда ей еще идти.
– Куда ей еще идти? – позавчера кричал папа на маму, а она смешно бегала по кухне и размахивала чугунной сахарницей. – Ей не к кому пойти вообще, а он уголовник! Она его фактически прямо с зоны забрала, он в ее квартире жил, съедал все, на деньги ее жил, а теперь с ножом бросается – теперь ей умирать? Умирать ей, что ли?
– Да, теперь умирать мне, – радостно говорила мама и для увесистости каждого слова ставила сахарницу ненадолго на стол или на собственное запястье (четыре раза и один чистый, неоконченный размах – это была запятая).
– Что у нас может быть! – кричат папа. – Что нас может связывать! У нее трое детей! Я не представляю, зачем мне связываться с многодетной пожилой женщиной, которую трижды пыряли ножом!
Я решил, что от каждого удара ножом у тети Гули рождался ребенок. Только непонятно: первый раз ее пырял, получается, мой папа? Это совершенно нереально: он даже рыбу зарезать не мог, переживал, метался, пришлось цыгана с пятого этажа просить (он, кстати, вернул только полрыбы – так отрезал, так нож лег, бывает), он всегда из-за всех переживает, он скорей себя всего изрежет, чем другого человека, даже если этот человек – рыба.
Мама даже встречать тетю Гулю вышла с этой самой чугунной сахарницей. Я испугался, что она метнет сахарницу в кого-нибудь из гостей, но она только ритуально посыпала всех сахаром – щепотку на каждого – и сказала: «Дорогая Гульнара Леонидовна, добро пожаловать в наш гостеприимный дом, извините, что у нас на вас есть только одна комната, но сами понимаете, мы не совсем были готовы (тут папа метнул на маму нехороший взгляд), чувствуйте себя как дома, а где ваши вещи, это всё?»
Тут тетя Гуля сказала, что во дворе еще два чемодана, раскладушка и старая собака Лиличка. Папа прослезился и побежал во двор: оказывается, Лиличка была еще при нем, он сам, собственноручно покупал ее тете Гуле, когда думал, что она бездетная и что обязательно нужен в дом кто-то маленький и беззащитный, чтобы отвлекал и радовал.
Лиличка была спаниель, у нее на обоих глазах топорщились бельма, она ничего не видела. Отца она не узнала: извивалась у него в руках и стонала.
Мама заглянула Лиличке в искривленное страданиями лицо и сказала, что в бельма полезно вдувать сахарную пудру. Вот, собственно, и нашлось кого посыпать сахаром так, чтобы от этого была польза.
Я повел детей в их комнату: надо было показать им, где они будут жить. Раньше это была моя комната. Дети скинули балахоны, представились: одного, кажется, звали Аппарат, второго Недостаточно. Нашего, который девочка, звали Миша.
Но это женское имя, Мишель, объяснил он и тонкой, потерянной рукой взъерошил кудри у себя на затылке.
Это мой папа придумал такое имя, потому что они с тетей Гулей в те времена слушали «Битлз».
Еще они слушали древние блюзы, какие-то плясовые цыганские ансамбли, шумную электрическую музыку и старинные заунывные русские романсы, которые записывались будто бы у костра, сквозь вечерний треск. Все это стало понятно очень скоро, когда папа с тетей Гулей начали вспоминать молодость и переслушивать все это барахло (оно было в том, втором чемодане со двора – старые грампластинки, кассеты, большие пластмассовые колонки). Собака Лиличка выла, из ее глаз текли пустые, ничего не сознающие сахарные слезы, оставляя жестковатые сиропные бороздки на щеках. Мама сидела на кухне и варила компот из слив, потому что во втором чемодане тети Гули было три ведра слив, она успела заехать на дачу перед тем, как уйти от дяди Арама, дача-то ее собственная, нельзя отдавать вообще все сразу, урожай.
Детей, которые не папины, я для удобства называл Чужой и Хищник, потому что так и не понял, как их зовут на самом деле, они очень неразборчиво говорили. Хищник был помладше и вечно тырил мои карандаши. Чужой был старше и спокойнее, но я его вообще не понимал. Тетя Гуля говорила, что Чужой будет писатель – он постоянно сидел в углу с блокнотом и что-то в него записывал карандашами, которые украл для него Хищник. Вообще, всех этих детей связывала какая-то нехорошая круговая порука. Даже бледнолицый Мишель, который на самом деле был моей сестрой, вел себя как-то странно – однажды даже сел маме на колени за завтраком, мама жутко заорала, а Чужой и Хищник переглянулись и начали хохотать на своем непонятном инопланетном языке, поди разбери, хохот ли это вообще.
– Я недолюбленный ребенок, – объяснил Мишель, поправляя бретельку на платье. Мама сунула ему в руки сахарницу, спихнула его с колен (Мишель выше меня на две папины головы – хотя за две недели, пока тетя Гуля у нас жила, папина голова немного высохла и стала чуть-чуть меньше, поэтому Мишель от меня стремительно отдалялась – и как сестра, и как человек, и как возможный враг, отнимающий у меня далекие мамины колени) и убежала в ванную комнату – плакать. Вообще, мама часто плакала. Я засыпал в родительской комнате, мама плакала, а папа вылавливал ложкой из компота сливы и говорил: не на улицу же им идти, она мой близкий человек, она мне друг, куда им сейчас, ночевать на вокзалах, что ли, у людей несчастье, людям надо помогать всегда, вдруг они и тебе помогут.
Они помогли и мне, в самом деле: когда Мишель привела в дом хохочущего художника из театра, в котором тетя Гуля работала костюмером (оказалось, тетя Гуля – человек искусства, маме потом было жутко стыдно – она в ту самую первую ночь, когда ей в руки попалась сахарница, беспрестанно повторяла: уборщица, уборщица!), они мне сказали – поможем тебе с книжками, которые тебе в школе на лето задали, и заперли меня с книжками в ванной на три часа, действительно, помощь. Потом вытолкали меня из ванной и уже сами там закрылись с моими книжками. Потом я пытался их перечитывать, но там уже совсем другое было написано, вероятно, это надо будет читать в следующем году уже, литература для взрослых.
Тетя Гуля пару раз помогла маме: принесла ей несколько костюмов из театра поносить. Один – на корпоративный летний утренник (мама даже заняла первое место – она была там Пчелкой Майей, а остальные сотрудники просто были офисными сотрудниками, скучные люди из будней), другой – чтобы пойти на день рождения к подруге (это был костюм Царевны-Лягушки, да такой классный, что мама вернулась домой с подругиным мужем Валерой, он от нас до утра уходить не хотел, сидел на кухне, слушал радио, папа ему водки наливал).
Мама с тетей Гулей скоро подружились. Маме было неудобно из-за «уборщица, уборщица», поэтому она вечно носилась перед тетей Гулей с ведром, полным сероватой жижи (мыла гараж, объясняла она, а там ливень был, ну натекло!), – мол, она не считает, что мыть пол – стыдно, а тем более, если не моет пол, а в театре костюмером, вообще, при чем тут пол, не надо, я сама помою, вы что, мой дом – мои комнаты – мне их и мыть – а собака что, собака старенькая, невозможно приучать старую собаку не гадить на пол. Собака тем более была почти что наша. Она со временем начала узнавать отца, а потом узнала его окончательно —у нее, видимо, был как раз такой старческий возраст, когда очень хорошо помнишь детство, но почти не осознаешь всего, что происходит сейчас. Она спала на родительской кровати и угром вылизывала отцу лицо, он смешно орал: «Лиличка, иди к маме!», но Лиличка мучилась и не понимала, к кому именно идти – к тете Гуле? Или к маме в смысле «маме» – но мама же вот тут, рядом, лежит и плачет? Мама иногда плакала еще и по утрам. Но тетя Гуля подыскала ей театрального психотерапевта, очень хорошего профессионала, он работал с актерами-заиками, они у него в таких говорунов превращались! Один даже на телевидение потом пошел работать – оказалось, что он может говорить только тогда, когда читает прогноз погоды, а в остальных ситуациях только робкое «э-э-э» и «т-т-т», как неисправный моторчик. Так этот психотерапевт, представляете, придумал, чтобы он всегда – даже в бытовых разговорах каких-то – вставлял в свою речь небольшой прогноз погоды (лучше правдивый – в интернете можно вычитать, например, с утра), и тогда проблем не будет. Хотя мне кажется, это выглядело странно. «Привет, как дела, завтра штормовое предупреждение, моя жизнь не удалась» или, допустим: «По радио сказали – урагана не будет. Подпишите, пожалуйста, вот этот документ и принесите ксерокопию свидетельства о браке, лучше нотариально заверенную, потому что подделать сейчас можно вообще что угодно». В общем, этот театральный психотерапевт иногда приходил вместе с тем хмырем, который помогал мне с книжками на лето, они вроде были то ли друзья, то ли коллеги, вообще – люди театра. Хмырь ждал, пока Мишель оденется, брал его за руку, и они вдвоем шли играть в футбол на луг, но мяча с собой не брали (но иногда возвращались с мячом – тогда за мяч со звериным визгом цеплялись маленькие Хищник и Чужой и куда-то его тащили, разрывая на лоскутки, у них была целая коллекция этих лоскутных прогулочных мячей). Психотерапевт из театра шел на кухню и сидел там с мамой, выкладывая из сахара у нее на ладони мягкие, сыпучие дорожки.
– Вам кажется, что муж вас больше не любит, – говорил психотерапевт. – Это нормально. Теперь всем так кажется.
А мама отвечала:
– Максим Максимович! – (Это я.) – Выйди из кухни сейчас же!
– Я за пирожками, – объяснял я, хватал блюдо с пирожками и по инерции бежал с ним в свою комнату. Там пирожки, конечно, есть невозможно – там Чужой беспрестанно хнычет, выводя что-то фломастерами в моей тетради (роман о любви, понимаю я, он уже в таком возрасте, наверное, – когда там у них наступает возраст, когда можно размножаться?), а Хищник хищно смотрит на пирожки, и я понимаю – надо их отдать, потому что их испекла его мать, это их пирожки вообще-то. Хотя раз они теперь живут с нами, пирожки отчасти и мои, выпеченные из нашей муки. Я беру один пирожок и иду в родительскую спальню, где слепая Лиличка с засахаренными глазами спит на отцовском незастеленном месте: во всяком случае, собака-то практически наша, потому что ее покупал мой папа.
Мой папа очень добрый. Поэтому его любят собаки, тети, дети тети, дяди тети (мама рассказывала, что какие-то ранние претенденты на сердце молодой тети Гули очень быстро переключались на папу, восхищались им, переставали тетю Гулю вообще замечать, на фоне папы она начинала казаться им злобной и жестокой – ни за портьерой похохотать, ни помочь перевезти вещи на новую квартиру). Папа никогда никого не бросал в беде, честно. Когда цыган с пятого этажа пришел и сказал, что у него жена утонула, папа сразу с ним ушел, они вместе ныряли где-то в Подмосковье, искали жену – месяц или два, нашли в конце концов, она потом приходила к нам попросить воды, и у мамы жемчужные сережки, что от бабушки остались, пропали, и коронки золотые бабушкины тоже.
– Коронки – это даже правильно, – сказала тогда мама. – Если честно, я думала долго, что с ними делать после смерти бабушки. Положить к ней в гроб коронки – как-то страшно. Хранить дома – но это ведь зубы моей мертвой мамы, она ими жевала, это чудовищно – такое хранить, и с какой же целью я буду это хранить? Люди ведь не хранят черепа своих мертвых родителей, не хранят фаланги пальцев, не хранят ногти – а тут зубы.
– Мой двоюродный старший брат, – сказал папа, – получил на свое пятидесятилетие подарок от жены и сына: цепочку из зубов своей умершей матери. Она от рака сгорела, мама его, тетка моя, Валентина. Так он очень радовался. Носит на шее ее теперь, и как бы мама всегда с ним рядом.
– Какой ужас, – сказала мама. – Мертвые зубы мертвой матери носить, переплавленные, на шее. Она ими жевала двадцать лет, а теперь они цепочкой по его волосатой груди змеятся. Это варварство какое-то, честно. Вообще представить тяжело. Я вот, правда, думала эти золотые коронки, что у меня от мамы остались, выбросить в мусорный бак просто. На помойку отнести. Это утиль. Отработанный материал. Душа отлетела, тело умерло. Все, что имеет отношение к телу, все эти артефакты тела – не нужны больше, они уже отжевали, отжили свое, им место на помойке, это уже не живой человек, просто куски металла.
– Ты жестокий человек! – ужасался папа. – Ты не понимаешь! Он так страдал, когда мать умерла, – а тут ее частичка будет с ним рядом, у него на сердце!
– Ожерелье из зубов мертвой матери! – отвечала мама. – Чудовищно! Какой-то дикарский обычай! В общем, я очень рада, что эта цыганка твоя их забрала, зубы эти, они меня очень тревожили все эти годы, и я теперь знаю почему – в один прекрасный момент ты бы мог переплавить их в цепочку и подарить мне на пятидесятилетие, до которого я не доживу, к счастью, потому что ты еще раньше меня угробишь этой своей добротой!
Папа – очень добрый человек, я именно это имею в виду. Если кто-нибудь просит его о помощи – он никогда не отказывает. Когда его лучший друг разошелся с женой, папа пил с ним целый месяц; мы потом искали ему через агентство новую работу, на старой его стали принимать за чужого и даже замки в офисе все поменяли, и двери тоже. «Я не мог оставить друга в такой ситуации», – разводил папа руками, и мы не узнавали его руки: когда человек пьет целый месяц, его руки меняются намного сильнее, чем лицо. Когда секретарша с новой папиной работы ушла в декрет, а потом выяснилось, что ее некому встречать из роддома, так уж получилось, на какие-то северные тяжелые заработки уехал отец ребеночка, папа поехал ее встречать – потому что на видеокамеру все записывали ее родители, обязательно должен был быть кто-нибудь статный, красивый, кто бы встретил в больничном парадном сверточек и помахал им триумфально в воздухе: эге! это мой! Папа даже не думал о том, чтобы отказаться. «А как же они без меня? Я помню эту девочку – сидела вечно там одна около факса, маленькая, с такими грустными глазами!» – вздыхал он. Девочка на прощанье расцеловала его, мы видели на видеокассете (копию подарили и ему, тем более что у папы нет, например, видеозаписи того, как он забирал меня из роддома, тогда еще видеокамеры были не у всех, наверное, во всяком случае, у нас точно не было, у нас ее и сейчас нет), и мама потом даже немного поплакала – говорит, себя вспомнила, говорит, не так все было. Лучше было? – спрашивал папа. Нет, отвечала она, не лучше, просто было не так.







