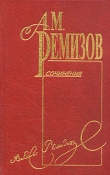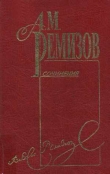Текст книги "Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя"
Автор книги: Елена Обатнина
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
В эмиграции «Обезьянья Палата» стала еще более популярной, чем в России; число ее членов стремительно преумножалось. Возведение в «обезьяньи кавалеры» оказалось опосредованным уже не только авторским произволом Ремизова, но и встречным горячим желанием многих претендентов на это звание. Вряд ли стоит утверждать, что все «новообращенные» осознавали игру как некий братский союз, хотя именно такое отношение к «Палате» все же превалировало – ведь грамоты выдавались как своеобразная награда за вклад в культуру и за человеческое участие, расцениваемое как едва ли не самое драгоценное достоинство. Кроме того, в эмигрантской среде «Обезвелволпал» стал показателем некоего престижа, символом принадлежности к творческой элите. По-видимому, этими обстоятельствами можно объяснить целый ряд «челобитных» царю Асыке, сохранившихся среди писем к Ремизову, с нижайшими просьбами принять в лоно Обезьяньего общества. С появлением в печати обезьяньего Манифеста и Конституции, книг «Кукха» и «Взвихренная Русь» игра стала еще привлекательнее. Конечно, существовали и более прозаические мотивы. Ремизовское графическое искусство постепенно признали не только близкие друзья, но и профессиональные художники. О его рисунках высоко отзывались М. Добужинский, В. Кандинский, П. Пикассо, И. Пуни, Н. Гончарова, М. Ларионов и другие. Искусно выполненные грамоты стали привлекать внимание коллекционеров и вообще ценителей его авангардной рисовальной манеры.
Уже в 1920-е годы появляются поклонники Обезьяньего общества, которые придают шуточной на первый взгляд затее Ремизова достаточно серьезное значение. Петербургский знакомый Ремизова М. А. Дьяконов в письме 1924 года спрашивал у писателя: «Нет ли у Вас случайно списка членов Обезьяньей Великой и Вольной Палаты? Думаю, что у Вас он имеется, а мне ужас как хочется иметь» [354]354
Amherst Center for Russian Culture, USA. The A. Remizov and S. Dovgello-Remizova papers.
[Закрыть]. В январе 1925 года молодой английский переводчик А. Браун, желая представить ремизовскую игру англоязычным читателям, поделился своими планами с ее автором: «По-моему хорошо бы написать и напечатать по-английски (для англичан нарочно) историю Обезвелволпала. Дайте мне данные (даты, записки первых заседаний и т. п.). Янапишу и найду журнал, чтобы поместить <…> переводчик и управляющий обезпропаганды Alec Brown». Уже через месяц он сообщал о работе над вступительной статьей к сборнику повестей Ремизова, готовившемуся к изданию отдельной книгой на английском языке [355]355
Brown A.[Preface] // The Fifth Pestilence together with The History of The Tinkling Cymbal and Sounding Brass Ivan Semyonovitch Stratilatov by Alexei Remizov / Transl. from Russian with a preface by Alec Brown. London, 1927. P. XIII–XV.
[Закрыть]: «Сегодня отправляю предисловие. Пишу о Вас, и о палатке, и о том, как надо писать русские слова через английские буквы <…>. Крокхвост Al. Brown» [356]356
Amherst Center for Russian Culture, USA. The A. Remizov and S. Dovgello-Remizova Papers. Крокхвост – прозвище А. Брауна, употреблявшееся в его эпистолярном общении с Ремизовым. Примечательно здесь и характерное розановское слово «палатка», и то, что письма Брауна начинались с глаголической надписи – Обезвелволпал.
[Закрыть]. В конце 1926 года А. Седых предложил Ремизову (по-видимому, мысленно представляя себе грандиозное зрелище): «А вот у меня мысль: так как вы уже многих пожаловали знаком обезьяньего ордена, то не мешало бы устроить общее собрание всех кавалеров в каком-нибудь кафе: „О рандеву де шоффер“, например» [357]357
Amherst Center for Russian Culture, USA. The A. Remizov and S. Dovgello-Remizova papers.
[Закрыть].
Когда в начале 1939 года советское правительство наградило большую группу писателей орденами за их лояльность к власти, Мих. Осоргин откликнулся едким памфлетом «Колокольчики и бубенчики», где среди прочего вспомнил и о нравах, основоположенных в «Обезвелволпале»: «Да не посетует на меня А. М. Ремизов, если я перепечатаю здесь манифест его „Обезьяньей – великой – и – вольной – палаты“, потому что это очень нужно. Потому что сейчас это уже не манифест, а реквием былой литературной России, и „чудачество“ звучит страшным приговором: <…> Кончилась – рассыпалась вольная палата…» [358]358
Осоргин M.65. Колокольчики и бубенчики // Последние новости. 1939. 20 февраля. № 6538.
[Закрыть]Спустя многие годы, когда «Обезьянья Палата» вошла в сознание современников как литературный и художественный памятник эмиграции, Ремизов в письме к А. Седых, напечатавшему весной 1952 года статью об «Обезвелволпале», подвел итоги своей многолетней игры: «Спасибо за память: вспомнили „Обезволпал“ / Открыта 45 лет тому назад в Москве. Сколько великих прошло через эту виноградную Палату, а я остаюсь несменяемым канцеляристом, теперь заштатный, так под грамотами и подписываюсь. / Обезьяньи грамоты вносили и в самую темь нашей жизни только веселость, и никто никогда не оскалился схватить меня себе на зуб» [359]359
Седых А.Далекие, близкие. С. 111.
[Закрыть].
Конечно, игра как внутренняя пружина творческого таланта писателя и его «Я» воспринималась современниками с разных, не всегда однозначных позиций. Кавалер обезьяньего знака философ Ф. А. Степун после выхода в свет очередного романа Ремизова писал: «Для среднего эмигрантского читателя Ремизов прежде всего „чудак“, автор с выкрутасами, „штукарь“ с хитрыми словесными ходами, со странными выражениями, с причудливой грамматикой. Многих это отпугивает, а некоторые называют стиль Ремизова „кривляниями“ и „ужимками“. Личные знакомые писателя, разнесшие слухи о фигурках в его кабинете, об его „Обезьяньей Палате“ и всевозможных шутках над друзьями, только способствовали ложному представлению об авторе „Мышкиной дудочки“ как об эксцентрике, играющем в колдуна и волшебника. Почему-то не хотят понять, что Ремизов обладает исключительным и блестящим чувством игры, тем самым инстинктом театральности, который является одним из основных и сильных человеческих потребностей. Недаром Шиллер видел именно в этом инстинкте источник искусства вообще и в частности литературного творчества» [360]360
Степун Ф.А. М. Ремизову // Новое Русское Слово. 1957. 23 июня.
[Закрыть].
«Обезьянья Великая и Вольная Палата» была самым большим и самым необычным произведением Ремизова, в котором проявилось главное его стремление как художника – подражать и преображать. В «Обезвелволпале» реальность легко соединялась с воображением и импровизацией, а игровая условность ничуть не умаляла серьезности и конкретности самой жизни. За пятьдесят лет своего существования «Обезьянья Палата» стала элементом повседневной жизни многих представителей отечественной литературы и в то же время уникальной формой самовыражения ее инициатора. В ее игровом пространстве осуществлялась идея дружеского союза творческих индивидуальностей, построенного на независимости и самоценности каждого художественного таланта. Являясь выражением творческой личности, ремизовская литературная игра преследовала коммуникативные цели, создавая общность людей, преображенную игрой и мифом. Здесь провозглашались фантастические «законы» – однако многие, вовлеченные в игру, применяли их в реальной жизни. Здесь парадоксально сочетались принципы взаимоуважения, доброжелательности, абсолютной свободы без обязанностей – и анархии, основанной на порядке и осознанных самоограничениях. «Обезвелволпал» аккумулировал в себе мифотворческий и символотворческий потенциал Серебряного века и реализовался как игровое осмысление идеологических и эстетических концептов дореволюционной России и русской эмиграции.
Глава IV. МИФОТВОРЧЕСТВО
Творимый образ
Центральный принцип творчества А. М. Ремизова – интерсубъективность – не следует воспринимать как солипсизм – замкнутое и самодостаточное существование «Я» в собственных пределах. Еще в 1904 году Ремизов определился в разрешении дилеммы «индивидуализма» и «общественности», которая вскоре активно стала обсуждаться в среде символистов: «Человеческие души разные и разными проходят жизнь. Какое же может быть общее „служение“? Надо победить свою отдельность и не замечать, но и другие должны забыть тебя и соединиться с тобою в игре „не твое и не мое“. А это над тобой – миф. Миф – то сверхвозможное, сверхмогучее – на что смотришь снизу верх» [361]361
На вечерней заре. Переписка А. Ремизова с С. Ремизовой-Довгелло // Europa Orientalis. 1987. VI. С. 272. Письмо от 26 июня 1904 г.
[Закрыть]. В этих рассуждениях наглядно отразились фундаментальные основы самосознания писателя: «отдельность» и «игра» как формы экзистенции, с одной стороны, и «служение» и «миф» как формы коммуникации – с другой.
На тему ремизовского мифотворчества написано множество работ. Практически все, пишущие о так называемом «автобиографизме» писателя, указывают на непривычное смешение в его произведениях реального и вымышленного, жанров биографии и фольклорных обработок, событийного и мифологического [362]362
См.: Аверин Б., Данилова И.Автобиографическая проза А. М. Ремизова // А. М. Ремизов.Взвихренная Русь. М., 1991. С. 3–21.
[Закрыть]. Как считает О. Раевская-Хьюз, «автобиографическая проза» Ремизова, – «это и не мемуары, не воспоминания, не автобиография в принятом смысле слова» [363]363
Раевская-Хьюз О.Последняя автобиографическая книга А. Ремизова // А. М. Ремизов. Иверень. Berkeley, 1986. С. 283.
[Закрыть]. По мнению А. д’Амелия, своеобразное «автобиографическое пространство» ремизовского творчества включает в себя «не только тексты, привычно определяемые как „автобиографические“, но также и те, в которых автор с помощью самых разнообразных форм и приемов» стремился «создать образсамого себя» [364]364
д’Амелия А.«Автобиографическое пространство» Алексея Михайловича Ремизова // А. М. Ремизов. Учитель музыки. Paris, 1983. С. V.
[Закрыть].
Несмотря на единодушную констатацию факта мифотворчества писателя, непроясненным остается вопрос о генезисе этой практики. Одна из существующих точек зрения представляет ремизовский «автобиографизм», отождествляемый с мистификацией и мифологизацией, как «конструктивный принцип» или «установку» его творчества [365]365
См.: Доценко С.Проблемы поэтики А. М. Ремизова. С. 19.
[Закрыть]. Нелишним будет отметить, что оба термина «заимствованы» у Ю. Н. Тынянова, в контексте рассуждений которого несут в себе очевидный антисубъективистский характер. «Конструктивный принцип» интерпретируется одним из ведущих теоретиков формальной школы как соотношение «„новой формы“ в новом принципе конструкции» и «материала» [366]366
Тынянов Ю. Н.Поэтика. История литературы. Кино. С. 262.
[Закрыть]и воспринимается как литературный (то есть объективный) факт. «Установка» в его интерпретации также исключает какое-либо влияние личности («психологии») писателя на творческий процесс: «Вычеркнем телеологический, целевой оттенок, „намерение“ из слова „установка“. Что получится? „Установка“ литературного произведения (ряда) окажется его речевойфункцией, его соотнесенностью с бытом» [367]367
Там же. С. 278.
[Закрыть]. Не считая необходимым полемизировать со взглядами Тынянова, подчеркнем, что и сама терминология, и ее концептуальная основа мало что объясняют непосредственно в природе творчества А. М. Ремизова.
С другой точки зрения, исследователи, полагающие ремизовское мифотворчество типичным продуктом эпохи символизма и модернизма, объявляют, что «своеобразное мифологическое мышление, лежащее в основе художественного метода писателя», сформировалось «под влиянием возникшего в начале XX в. литературно-философского комплекса символистских теорий о мифе и мифотворчестве» [368]368
См.: Блищ Н. Л.Автобиографическая проза А. М. Ремизова (проблема мифотворчества). Минск, 2002. С. 9.
[Закрыть]. Безусловно, эпоха литературного модернизма отличалась особым интересом к мифологии. Причины этого лежали и в индивидуальном разочаровании в позитивистском рационализме и эволюционизме, и в романтическом бунте бессознательного начала в человеке, и в общем стремлении человечества выйти за диктуемые действительностью социально-исторические и пространственно-временные рамки, с тем чтобы обрести универсальные формы духовной экзистенции. Однако тенденцию редуцировать личность писателя к внеположенным ей социокультурным факторам (в данном случае – к неким «символистским теориям») нельзя признать продуктивной.
Ремизов сам в известной степени был одним из основоположниковсимволистского мифотворчества, не испытывая прямых влияний и ничего не заимствуя у кого-либо из символистов. После «Пруда» он обратился в «Посолони» (1907) к сказке, легенде, народному обряду. Андрей Белый, рецензируя книгу, отнес ее автора к группе тех русских писателей, которые пытаются «найти в глубочайших переживаниях современных индивидуалистов связь с мифотворчеством народа» [369]369
Критическое обозрение. 1907. № 1. С. 35.
[Закрыть]. Некоторое время спустя Ремизов сформулировал центральную для своего творчества задачу по «воссозданию» «народного мифа», подобного «мировым великим храмам» и «мировым великим картинам», «бессмертной „Божественной комедии“ и „Фаусту“» [370]370
Ремизов А.Письмо в редакцию // Русские ведомости. 1909. 6 сентября. № 205. С. 5.
[Закрыть]. Глубоко закономерно, что ремизовское «письмо в редакцию» получило поддержку признанного мэтра символизма – Вяч. Иванова, который назвал его «статьей – о мифотворчестве, с очень широкими горизонтами» [371]371
Иванов Вяч.Собр. соч. II. Брюссель, 1974. С. 803.
[Закрыть].
Исследователям мифологического сознания хорошо известно, что «мифотворчество содержит лишь бессознательно-поэтическое начало, и потому применительно к мифу нельзя говорить о собственно художественных приемах, средствах выразительности, стиле и тому подобных объектах поэтики» [372]372
Мелетинский Е. М.Поэтика мифа. М., 2000. С. 7.
[Закрыть]. Означает ли это, что современное индивидуальное мифосложение вообще невозможно и что субъектом подобного действия может быть только (в лучшем случае) даровитый имитатор? На самом деле носителем мифологического сознания является каждый человек, по крайней мере, в том раннем возрасте, когда «Я» продуцирует собственный жизненный мир. Мифомышление – самая ранняя стадия онтогенеза человека, свойство «наивного», «примитивного», «детского» сознания, у подавляющего большинства людей впоследствии исчезающее навсегда. Другое дело, что художник способен сознательно активизировать в себе подобные качества, со временем усиливая и развивая их, превращая это индивидуальное начало в творческий принцип. В отношении Ремизова параллель с «детским» мышлением (кстати говоря, отмеченная и самим писателем в рассказе «Дикие») не покажется неуместной, если иметь в виду опорный автобиографический мотив «подстриженных глаз». До 14 лет, то есть до обретения очков, Алексей Ремизов – полуслепой ребенок – жил совершенно особыми образами и представлениями о мире, и, как у первобытного человека, его сознание существовало один на один со всем миром. Смысл индивидуального существования Ремизов неизменно связывал с темой враждебности мира, куда человек «вытолкнут» жить, чувствуя «себя кругом заброшенным на земле» [373]373
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 8. С. 6.
[Закрыть]. В многочисленных авторефлексиях, зафиксированных в его произведениях, объективирован «внутренний человек», испытывающий неодолимый страх перед жизнью: «весь живой мир для меня страшен» [374]374
Там же. С. 10.
[Закрыть].
Мифологичность детских представлений Ремизова красноречиво подтверждается его впечатлениями от живописных и литературных памятников: «…когда в первый раз я увидел „натуру“ Босха и Брейгеля, меня нисколько не поразили фантастические чудовища: глядя на картины, я почувствовал какой-то сладкий вкус, как от мороженого, и легкость – дышать легко, как на Океане, или так еще: как в знакомой обстановке. И при чтении средневековых хроник – в повестях о неведомых странах и одноногих, пупкоглазых и людях с песьими головами и людях-кентаврах, но не с коньим, а со свиным хвостиком; во всех чудесных и волшебных „Александриях“ у меня не было чувства, как от чего-то чужого, странного, „уродливого“, чудовищного, внушавшего когда-то страх или внушающего беспокойство» [375]375
Там же. С. 50.
[Закрыть]. Преодолевая границу между реальностью и фантазией, молодой человек устремился к такому творческому самовыражению, при котором жизнь раскрывается в своем подлинном «чудесном блеске», недоступном «простому глазу», видящему лишь в пределах «ограниченного поля зрения» [376]376
Там же. С. 62.
[Закрыть].
Современная наука разделяет, с одной стороны, линейное и прогнозируемое научное сознание, а с другой – неожиданное и действующее по своим особым законам, мифологическое. Мифологическое сознание – конкретно-чувственно, а потому предметы, не утрачивая своей определенности, могут символически заменять другие предметы и явления, то есть становиться их знаками. Оно обращено к единичному; одним из основных его принципов является принцип pars pro toto: целое не имеет частей, но часть является целым. В этой системе означаемое превращается в означающее и наоборот. Заполняя ментальное пространство символическими образами, сознание достигает своей основной цели – пресуществления мира. С научной точки зрения результаты мифологического мышления слишком непредсказуемы. Мифолог-бриколер создает вечный круговорот знаков и предметов в культуре для того, чтобы поразить «случайную цель» и вовлечь ее в мир значений-смыслов. Все эти рассуждения с точки зрения современных представлений о мифологическом сознании указывают на то, что разгадку ремизовского мифотворчества следует искать в личностиписателя.
Интерсубъективность писателя и его мифотворчество прямо связаны между собой. Для трансцендентального «Я» миф, очевидно, единственно возможная форма коммуникации с внешним миром. Не случайно свой интерес к мифотворчеству Ремизов соотносил со стремлением «объяснить(курсив мой. – Е.О.) существо человека» [377]377
Кодрянская Н.Алексей Ремизов. С. 89.
[Закрыть], представить самого себя другим людям: «и стал я сочинять легенду о себе или, по вашему, „сказывать сказку“» [378]378
Там же. С. 125.
[Закрыть]. Писателя вполне можно назвать «мифическим субъектом» [379]379
См.: Лосев А. Ф.Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 160–161.
[Закрыть], – в том смысле, как понимал это выражение А. Ф. Лосев: «Миф есть не субстанциальное, но энергийноесамоутверждение личности. Это – не утверждение личности в ее глубинном и последнем корне, но утверждение в ее выявителъныхи выразительныхфункциях. Это – образ, картина, смысловое явление личности, а не ее субстанция. Это <…> лик личности. <…> Миф есть разрисовкаличности, картинное излучение личности, образ личности» [380]380
Там же. С. 94.
[Закрыть]. Подчеркнем, что в «мифическом субъекте» не существует различий между «внутренним» и «внешним», между «субъектом» и «объектом», и в то же самое время миф всегда представляет собой «первообраз» личности, картину существования трансцендентального «Я». В этом смысле мифотворчество – не психологическая «установка» и нелитературная данность; это – modus vivendi всякой живой личности: постоянное создание человеком самого себя из самых разнообразных внеположенных «вещей», абсолютное самоутверждение личности в мире, основанное на восприятии жизни как чуда.
Мифотворчество начинается с особой формы редукции, которую Э. Гуссерль именует «трансцендентальной»: с очищения сознания до области «абсолютной» субъективности, конституирующей мир. Объяснение конкретной процедуры этого действа требует дополнительных сложных философских рассуждений. Вместе с тем у самого Ремизова практика трансцендентальной редукции наглядна и проста: это не что иное, как знаменитые «безобрáзия» [381]381
Ремизов А.О происхождении моей книги о Табаке. Paris, 1983. С. 34.
[Закрыть], или, по его собственному выражению, – состояния «без-óбразия». Бессознательное, имманентное «без-образие» связывалось писателем с полным отказом от предустановленных смыслов: «Оно приходит – назовите, как я говорю: „без-образие“ или по-вашему „безобразием“ – всегда без подготовки, никакого замысла, а лишь по наитию и осенению, вдруг. <…> С „без-образием“ жизнь несравненно богаче – это заключение из всей моей жизни» [382]382
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 8. С. 362–363.
[Закрыть].
О том, что «без-óбразие» может служить целью творчества, было хорошо известно в начале века – в частности, после работ популярного в то время немецкого философа Б. Христиансена, который прямо заявлял, что «целью изображения предметного в искусстве является не чувственный образ объекта, но безóбразное впечатление предмета» [383]383
Христиансен Б.Философия искусства. СПб., 1911. С. 90. Книга вышла в издательстве «Шиповник» в переводе Г. П. Федотова и под редакцией одного из знакомых Ремизова, историка литературы, фольклориста и критика Е. В. Аничкова.
[Закрыть]. Далее Христиансен описывал процесс «субъективации» этого состояния (весьма близко к тому, как впоследствии опишет свое понимание «без-óбразия» Ремизов): «Если напряженное внимание устраняет всякое вторжение извне и, несмотря на это, искомое всплывает не сразу, тогда безóбразное представление объекта, „ищущее“ в нас, приобретает такую широту и интенсивность, что всецело заполняет нас, – это как раз тот момент, когда быстрое вмешательство анализа может уловить его…» [384]384
Там же. С. 89.
[Закрыть]Реализация этой цели (достижение состояния «без-óбразия)» возможна только в том случае, если субъект совпадает с объектом, познающий с познаваемым, явление (предмет) с его свойствами, что как раз и является важнейшими признаками мифомышления.
Все, что Ремизов вкладывал в свои так называемые «безобразия», можно считать своеобразным аналогом авангардного творческого поведения. В воспоминаниях писателя рассказы о подобных «выходках» звучат неоднократно. «„Когда ты прекратишь свои безобразия“ – эти слова, по-другому сказанные, я слышал от моих одиноких доброжелателей. Но, что делать, видно, такая моя природа. Умышленно – нарочито я ничего не делал – не вытворял – мои книги из души, исповедь, мои слова и строй слов не выдумка» [385]385
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 10. С. 180.
[Закрыть]. «Я выдумывал всякие „без-образия“. Это мое – и при всяких обстоятельствах – засушенный, сурьезный или трезвый, но не мудрый, непременно остановит меня и даже может обидеться» [386]386
Там же. С. 54.
[Закрыть]. Не надеясь на ремизовскую серьезность, В. Розанову иногда приходилось предупреждать выходки приятеля просьбой: «только, пожалуйста, <…> оставь свои безобразия» [387]387
Ремизов А.О происхождении моей книги о Табаке. С. 34.
[Закрыть]. Действительно, как еще можно назвать странные действия Ремизова, о которых упоминается в его дневниковой записи: «4. 12. [1905] Именины Варвары Дмитриевны Розановой. – Сыт, пьян и нос в табаке! – вот как полагается. Вымазал я нос табаком Вяч. Иванову. А после ужина перевернул с помощью именинницы качалку с Н. А. Бердяевым. Бердяев ничего, только кашлянул, а Андрей Белый от неожиданности финик проглотил» [388]388
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 56.
[Закрыть]. Конст. Эрберг (К. А. Сюннерберг) воспоминал: «Ремизов вообще и в письмах, и в разговоре любил „шутоваться“ (его выражение) и чудить. В общении с другими он всегда играл какую-то роль. <…> Ремизов был с хитрецой, „шутовался“ он всегда не без расчета, не без задней мысли» [389]389
ИРЛИ. Ф. 474. № 53. Л. 87.
[Закрыть]. На взгляд извне – поведение нарочитое и неприличное – одним словом, безобрáзие.
Окружающая действительность («взбалмошный мир без начала и конца» [390]390
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 9. С. 433.
[Закрыть]) открыта равнопотенциальным возможностям. Без-óбразное со всей силой творческой энергии стремится воплотить себя в образе – через подражание и преображение. «В широком контексте или – лучше – на должной глубине „подражание“ и „преображение“ принадлежат чему-то общему и единому как разные по интенсивности, по захвату, по глубине степени его, подобно тому как русск. под-раж-аниеи пре-об-ражениесодержат единый общий корень раж– / раз, – но разнятся своими префиксами: в первом случае (под-) – некое приспособление, подстраивание, подделывание, не предполагающее разрыва со своей исходной природой (отсюда – частичность, промежуточность, всего лишь ориентированность на иное, вовне находящееся); во втором случае – полная, всецелостная и органическая трансформация того, что было до этого ( пре-/ пере-как образ идеи перехода, проницания насквозь и до предела и об-,подчеркивающее „всецелостную“ завершенность), коренной разрыв с прежним состоянием и обретение новой, принципиально иной и более высокой природы, в которой исходная растворяется без остатка. Подражание и преобразование объединены общим выходом на образ: в одном случае частичным и относительным, в другом полным и абсолютным» [391]391
Топоров В. Н.Древнеиндийская драма Шудраки «Глиняная повозка»: Приглашение к медленному чтению. М., 1998. С.14.
[Закрыть]. Однако на первых порах образца как центра ориентации не существует, точнее, он еще не найден, и потому игровое (поисковое) поведение может восприниматься извне как безобразие.
Даже близкие друзья, признавая ум и талант начинающего писателя, больше реагировали на провокативный, как им казалось, характер ремизовских поступков и разговоров, примером чему может служить, например, следующая пояснительная запись Розанова: «Ремизов А. М. Один из умнейших и талантливейших в России людей. По существу, он чертенок-монашенок из монастыря XVII в. Весь полон до того похабного – в мыслях, намеках, что после него всегда хочется принять ванну» [392]392
Розанов В. В.Сахарна. М., 1998. С. 119–120.
[Закрыть]. Именно такое поведение Ремизова позволяет соотнести игровой рисунок его поведения с субкультурой юродства, получившей развитие на Руси в XV–XVII веках. С. Н. Доценко высказывает точку зрения, согласно которой Ремизов намеренновыставлял вовне свою юродивость: даже «свои физические недостатки» писатель «подчеркивал и гипертрофировал», оттого что юродство понимал буквально – как «уродство». Оправдание же такой «эстетике безобразия» Доценко находит в идейном замысле писателя: «„Похабничая“ и „кощунствуя“, Ремизов преследует ту же душеспасительную цель, что и юродивый в своем мнимом или действительном безобразии. <…> он не оставляет надежды на нравственное спасение и возрождение иных, святых и светлых черт русского народа…» [393]393
Доценко С. Н.Нарочитое безобразие. Эротические мотивы в творчестве А. Ремизова //Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 74.
[Закрыть]Из этого следует, что намеренность безобразного поведения писателя вызвана ни больше ни меньше, как желанием… «спасти русский народ» – своего рода миссией, с вызовом демонстрируемой недостойному окружению. Между тем ремизовское поведение соотносилось не с пошлым, низким и похабным, но с без-óбразным, то есть – спонтанным, неумышленным, вненормативным.
Мемуарная литература дает обширный материал, подтверждающий, что образ юродивого активно эксплуатировался писателем, особенно в бытовых ситуациях. З. Гиппиус как-то разъясняла недоумевающему московскому гостю (Андрею Белому): «Алексей-то Михайлыч? Да это – умнейший, честнейший, серьезнейший человек, видящий насквозь каждого; коли он „юродит“ – так из ума» [394]394
Белый А.Между двух революций. М., 1990. С. 65. См. также: Устами Буниных / Под ред. М. Грин. Франкфурт-на-Майне, 1981. Т. 2. С. 298; Зайцев Б. К.Голубая звезда. М., 1989. С. 508.
[Закрыть]. В этой связи уместно провести параллель с традицией эстетики безобразного в даосизме и дзен-буддизме, в рамках которых личность безумного (юродивого) неразрывно соединяла мудрость и неконвенциональное поведение [395]395
Ср.: «Дзен Икюо носил явственные черты юродства. Некоторые проявления [его] характера <…> трудно расценить иначе, как травестийное осмеяние <…>. Скоморошья личина временами слишком плотно прирастала к лику, который „он имел еще до рождения“, так что во многих случаях невозможно отделить обличительный пафос, юмор, эпатаж от просто паранормального хабитуса» ( Штейнер Е. С.Иккю Содзюн. М., 1987. С. 112).
[Закрыть]. Сравнение ремизовских интуиций с менталитетом древних восточных мудрецов не покажется неуместным, если обратиться к его собственному позднейшему признанию о годах юности: «В наш дом приходил китаец – в Москве всегда ходили по домам разносчики-китайцы – он был весь в синем <…>. Может быть, образ этого китайца – „синий, страшный Китай“, канув с чудовищами моего чудовищного мира, когда через очки мне представился общечеловеческий нормальный мир, вызвал во мне без всяких „зачем“ и „почему“ интерес к истории Китая, и я принялся за чтение мудреных книг. <…> Может быть, этот „синий, страшный Китай“ вошел так глубоко в мой мир с когда-то зримыми и только скрывшимися призраками – ведь не только мысли, а и намеки на мысль живут с человеком и доживают век человека!..» [396]396
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 8. С. 69–70. См. также: Письма А. М. Ремизова к В. В. Перемиловскому / Подг. текста Т. С. Царьковой; вступ. статья и прим. А. М. Грачевой // Русская литература. 1990. № 2. С. 203. Письмо от 26 июля 1927 г.
[Закрыть]
«Восточные» параллели могут быть дополнены еще одной автохарактеристикой писателя, который считал, что к концу 1920-х годов он стал походить на китайца даже внешностью. Комментируя собственное фотографическое изображение, он писал: «Я совсем как китаец – так меня тут и считают». Наличие традиции «гениального безумия» и юродства в принципиально различных культурах убеждает нас в том, что литературные, житейские «маски» Ремизова – это результат свободного поведения «естественного человека», который не притворяется и не дурачится ради какой-либо высокой или же прагматической цели, но в ничем не сдерживаемой игре воображения ведет поиск своего образа и потому – всегда остается самим собой. Соответственно, и его «безобразия», как факт безоценочного бытового поведения, предполагают разновекторную оценку, а не окончательный приговор морального или идеологического ригоризма.
В течение всей жизни А. М. Ремизов – уникальный тип творческой личности – создавал образ самого себя, «лепил» миф собственной жизни, который выступал универсальной и единой точкой зрения индивидуального сознания на мир. Дискурс писателя, движимый силой творческого воображения, соединял в себе многоуровневые культурные традиции, и поэтому для каждого содержащегося в нем функционально значимого художественного или историко-литературного объекта найдется не один прототип. Такой мир образов принципиально вариативен, а фигура автора в нем многолика. Она не отражает направленного движения к единому образу; скорее, это калейдоскоп перевоплощений, которые меняются в соответствии с поэтикой каждого конкретного произведения, каждой конкретной житейской ситуации. Ремизовское автоописание распространялось на все его творчество, проявлялось во всех произведениях и полностью соответствовало внутренней природе писателя, которого определенно можно назвать «человеком образа» [397]397
В отличие от канонического – древнего, миф нового времени поставил во главу угла индивидуального человека. Более того, секуляризованная культура нового времени породила такое специфическое явление, как автомифологию, наиболее значительные примеры которой в русской культуре были созданы, в частности, Пушкиным, Гоголем, В. Соловьевым, Андреем Белым и Блоком. «Среди тех, кто оставляет свое имя в мировой истории, встречаются „люди образа“ и „люди пути“ <…>. „Люди образа“ сами создают миф о себе и сами этот миф представляют» ( Виролайнен М. Н.Культурный герой нового времени (Пушкинский миф в контексте секуляризованной культуры) // Russian studies. 1994. № 1. С. 41).
[Закрыть].
Н. В. Резникова в главе своих воспоминаний под примечательным названием «Образ Ремизова, им самим создаваемый» утверждала, что широкое признание его как писателя «шло вразрез с тем образом, который Ремизов создавал в течение всего своего писательского пути: образ непризнанного, отталкиваемого, гонимого жизнью и людьми человека» [398]398
Резникова Н. В.Огненная память: Воспоминания о Алексее Ремизове. Berkeley, 1980. С. 133.
[Закрыть]. Артистически умаляя свой талант, значение и роль, он сознательно творил образ «слабоголосого писателя» [399]399
Кодрянская Н.Алексей Ремизов. С. 91.
[Закрыть], сравнивая себя с маленькой птичкой ремез (известной по одной малороссийской колядке), наделенной сильным голосом, но наказанной Богом за озорство и своеволие [400]400
См. сказку «Ремез-птица», вошедшую в сборник Ремизова «Николины притчи» (Пг., 1917).
[Закрыть]. Вместе с тем у Даля ремез охарактеризован совсем иначе: «пташка… из рода синичек, которая вьет гнездо кошелем; за искусство это ее зовут первой пташкой у Бога» [401]401
Милашевский В. А.Вчера, позавчера…: Воспоминания художника. С. 91.
[Закрыть]. Еще одним свидетельством двусмысленности творимого Ремизовым собственного образа являются тексты обезьяньих грамот. Все они обязательно обрамлялись глаголическими надписями, а рисованные изображения на них, как, впрочем, и вся графика Ремизова, подписывались его личным знаком – глаголической буквой: «  ». В письме к В. Ф. Маркову (1955) Ремизов приоткрыл значение важного для себя символа: «…этот глаголический знак ставлю под моими рисунками – славянское „ч“, латинское „р“» [402]402
». В письме к В. Ф. Маркову (1955) Ремизов приоткрыл значение важного для себя символа: «…этот глаголический знак ставлю под моими рисунками – славянское „ч“, латинское „р“» [402]402
Письма А. М. Ремизова к В. Ф. Маркову / Публ. В. Ф. Маркова // Wiener Slawistischer Almanach. 1982. Bd. 10. S. 431.
[Закрыть]. Комментируя это письмо, Марков высказывал недоумение, зачем, собственно, писателю понадобилось соотносить кириллический и латинский эквивалент с глаголическим знаком [403]403
Ibid. S. 443.
[Закрыть].
Ремизовская криптография подтверждает его собственную установку на многослойность смыслов. Замена именной подписи глаголической литерой была не простым графическим жестом, но желанием семиотически соединить мир Обезьяньей Палаты с мифом собственной личности. Эти два творческих построения Ремизова основывались на мировоззрении, принципиальным образом отрицающем односторонность явлений жизни. Беспрестанная игра значениями и внешними обликами слов (и даже букв) открывает автомифологический мотив объединения в одно целое букв-близнецов, также связанный с историей происхождения фамилии «Ремизов» от имени маленькой птички. Прописная латинская буква «г» ассоциировалась им как с ремезом, так и с собственной фамилией: «Фамилия моя происходит от колядной птицы ремеза, а не от глагола. <…> Назвали меня Алексеем именем Алексея Божия человека – странника римского» [404]404
Алексей Ремизов о себе // Россия. М.; Пг. 1923. Февраль, № 6. С. 25. Чтобы избежать ассоциаций своей фамилии с карточным глаголом, Ремизов в письмах к малознакомым людям нередко проставлял ударение на первом слоге. Историю изменения написания фамилии «Ремизов» через «и» (от карточного глагола «ремизить», т. е. вводить в ремиз, подсиживать), а не через «е» (от названия птицы «ремез») см.: Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 8. С. 65. Писатель смог так убедительно обосновать «птичью» этимологию своей фамилии, что М. Горький, например, всегда писал «Ремезов», указывая на точность такого правописания и другим. См. его письмо к М. Э. Козакову от 28 декабря 1932 г. ( Крюкова А.А. М. Горький и А. М. Ремизов. (Переписка и вокруг нее) // Вопросы литературы. 1987. № 8. С. 198; 205).
[Закрыть]. Благодаря значку глаголического алфавита (священного славянского письма, созданного в конце IX – начале X века [405]405
Интерпретацию эзотерического значения глаголицы и кириллицы см. в книге А. Зиновьева «Тайнопись кириллицы» (Владимир, 1998. С. 211), который относит время возникновения глаголицы к 886–893 гг.
[Закрыть]) писатель символически соединил два полярных, антиномических начала. С одной стороны, кириллическая «ч», соответствующая глаголической букве, с древнейших времен имела универсальное название – «червь», с другой – та же самая литера указывала на эзотерический смысл слова «человек», являющегося опорным в формуле имени преподобного Алексия человека Божия.
Забавный значок на ремизовских обезьяньих письменах и рисунках вмещает в себя символический макрокосм, существующий в необъятном диапазоне – от самой нижайшей, земной (буквально: земляной) твари до высочайшего творения Бога. Подобная экзистенциальная самоидентификация выражена в известных державинских строках из оды «Бог» (1784): «Я связь миров повсюду сущих, / Я крайня степень существа; / Я средоточие живущих, / Черта начальна Божества; / Я телом в прахе истлеваю, / Умом громам повелеваю, / Я царь, – я раб, – я червь, – Я Бог! / Но, будучи я столь чудесен, / Отколь произошел? – безвестен; / А сам собой я быть не мог».
В проекции на игровую маску Ремизова, проявлявшуюся одновременно как в самоумалении ( канцелярист«Обезьяньей Палаты»; б. канцелярист, забеглый политком; буфетчик«Обезвелволпала» [406]406
Такая «должность» Ремизова значится в составленной С. Я. Осиповым «Разрядной росписи людям Обезьяньей Великой и Вольной Палаты»: графа служилыелюди (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. № 13).
[Закрыть]), так и в объективной власти над всем ходом игры, хотя и скрытой за фантомной фигурой царя Асыки, обнаруживается еще одна самоидентификация Ремизова, восходящая к его тезке – царю Алексею Михайловичу. Тень «тишайшего» самодержца стоит за отдельными мотивами мифа «Обезьяньей Палаты» и ассоциируется со многими характерными особенностями личности ее канцеляриуса.Образ «тишайшего» царя подразумевает самые разнообразные модели поведения: Царь – как человек, наделенный неограниченной властью, но не пользующийся ею; Царь – не демонстрирующий свое превосходство; Царь – человек, обуреваемый непомерной гордыней и смиряющий этот грех; Царь – в котором борются сознание собственного превосходства и признание своей ничтожности перед Богом, и так далее. В известном смысле схожая амплитуда самосознания была характерна и для Ремизова, который не раз удивлял своих ближайших друзей немотивированной мнительностью, самоуничижением и юродством (в бытовом значении этого слова). Свои соображения о глубинных и поистине трагических причинах такого перевоплощения однажды высказал преданно любящий его поэт В. А. Мамченко: «Разве не бесовское действо его озорство – самоумаление – все это испытующе показное, внешнее, действующее из глубины гордости, безбоязненное! И значительно – когда прольется и утечет по какому-то назначению его самоумаление, как с кровью и гноем все его бесноватые, – в нем вновь легким светом горят скромность, проницательность, внимательная простота, как жажда гармонии и мира. Но смотришь на Алексея Михайловича такого и думаешь: вот так кора земли сжимает в себе стихийное наваждение» [407]407
Кодрянская Н.Алексей Ремизов. С. 104.
[Закрыть].