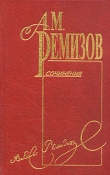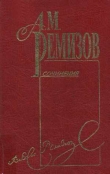Текст книги "Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя"
Автор книги: Елена Обатнина
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
Глава II. ТВОРЧЕСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Странствия души
Субъективность своей авторской позиции А. М. Ремизов декларировал на протяжении всей творческой жизни. Однако способы выражения этой субъективности претерпели очевидную эволюцию – от привычных форм использования литературных образов (в терминологии Бахтина – «я-для-других») в произведениях дореволюционного периода до предельной манифестации собственного «Я» в текстах, написанных в эмиграции («я-для-себя»). Перелом в способе выражения авторского «Я» произошел в год революции, оказавший решающее влияние на творческое самосознание писателя. В 1917–1918 годах возникает корпус текстов, образующий собой (использую выражение Андрея Белого) «историю самосознающей души». «Слово о погибели Русской Земли», «Слово к матери-земли», «Заповедное слово Русскому народу», «Вонючая торжествующая обезьяна…» демонстрируют тождество авторского и индивидуального «Я».
Написанные от первого лица воззвания, послания к родине, народу и даже ко всему враждебному и «торжествующему» отражают стремление писателя личнообратиться к urbis et orbis. Ремизов прямо высказывает здесь все, что накопилось в его душе за год революции. Такую модель авторской позиции можно назвать центробежной,поскольку интенциональный вектор направлен от «Я» к миру. В других текстах, относящихся к этому же периоду, реализуется иная, центростремительная,модель. К ним можно отнести поэмы «О судьбе огненной. Предание от Гераклита Эфесского», «Золотое подорожие. Электрумовые пластинки», книгу «Электрон». Здесь авторское «Я» выходит далеко за пределы индивидуального «Я», а последнее само становится объектом и предметом художественного осмысления, главным и единственным героем этих произведений.
Примечательно, что с начала 1917 года и до октября Ремизов практически не писал новых произведений, лишь фиксируя в дневнике свои эмоциональные переживания по поводу текущих политических событий. Творческий кризис завершился после тяжелого заболевания – крупозного воспаления легких, протекавшего с 24 сентября по 4 октября 1917 года [142]142
См.: Дневник 1917–1921 гг. // Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 5. С. 466–482. Дневник писателя дает основания полагать, что внезапная болезнь возникла на почве глубокого и трагического переживания разгрома Корниловского мятежа, хотя в первой печатной редакции поэмы имя одного из организаторов восстания Б. Савинкова – скрывалось под многоточием. Ср. редакцию «Огневицы», включенную в книгу «Взвихренная Русь» (1927) (Там же. С. 165–166).
[Закрыть]. Испытание, которое в буквальном смысле поставило писателя на грань жизни и смерти, привело к созданию поэмы «Огневица» (датированной 10 октября 1917 года) [143]143
Текст поэмы впервые появился на страницах газеты «Дело народа» (1917. № 187. 22 октября), в рамках литературного приложения к газете «Литература и революция» (№ 10. С. 5), формированием и редактированием которого занимался Иванов-Разумник. Спустя два месяца поэма вновь была напечатана в «Деле народа» (с примечанием о републикации из № 187), однако уже помещалась в ряду основных колонок этого издания (1917. 24 декабря. № 241. С. 3–4). Далее текст поэмы цитируется по этой публикации.
[Закрыть]. Центральным героем этого произведения впервые у Ремизова стало «Я», отвлеченное от личностных оценочных категорий и растворенное в окружающем мире, обретающее статус трансцендентальности.
Уже самое первое видение, описанное в «Огневице», определяет содержание всей поэмы – это «страсти» по родине, «сораспятие» с истязаемой Русью: «Распростертый крестом, брошен лежал я на великом поле во тьме кромешной, на земле родной». Все драматическое развитие истории души в поэме построено на противоречии между стремлением «окрылиться», то есть окончательно отрешиться от всего земного, и личным чувством вины перед Россией за всеобщий грех русского народа. Даже само возвращение к жизни Ремизов расценивает как личную вину – «крест», который он должен нести: «Один виновен – один и должен нести».
Заявленная в «Огневице» тема «индивидуальной вины» человека своим глубинным смыслом обращена к учению древнегреческой секты орфиков (VI век до н. э.), известному по различным переложениям и интерпретациям [144]144
См.: Трубецкой С. Н.Метафизика в Древней Греции. М., 2003. С 75–80; Глаголев С.Греческая религия. Ч. 1. Верования. Сергиев Посад, 1909. С. 241–259; Брикнер М.Страдающий бог в религиях Древнего мира. СПб., 1909; Гомперц Т.Греческие мыслители. Т. 1. СПб., 1911. С. 75, ИЗ; РеинакС. Орфей. Всеобщая история религии. Кн. 1. СПб., 1913; Пфлейдерер О.Подготовка христианства в греческой философии. СПб., 1908. С. 5; Иванов Вяч.О Дионисе Орфическом // Русская мысль. 1913. Кн. 11. Ноябрь. Разд. II. С. 70–98.
[Закрыть]. В орфических рапсодиях грешная душа стремится очиститься от скверны земной жизни, многократно проходя путь нисхождения и восхождения, поскольку она оказывается неспособной вырваться из круга перерождений и обречена постоянно возвращаться в человеческое тело-гроб. Сторонники этого мистического движения объясняли греховность человеческой души двойственностью ее происхождения – от страдающего бога Диониса-Загрея, с одной стороны, и титанов, воплотивших в себе идею богоборчества, с другой [145]145
Ср.: «Судьба человека – та же, что участь бога страдающего. Только человек не весь от Диониса: его низшая природа – „титаническая“, хаотически богоборствующая. Восстав против божественного всеединства, он утверждает свою отчужденную самость и постольку противится дионисийскому пробуждению к самоотдаче жертвенной. Он замыкается на своей индивидуальности, „хочет спасти свою душу“. Так задерживает он себя в „узах“ <…> или „гробнице“ тела» ( Иванов Вяч. ОДионисе Орфическом. С. 77). Ср. мотив мольбы о спасении в «Огневице»: «Лежу под огненным покровом. – Матерь Божия, спаси, спаси! – слышу неотступно и жарко!»; «– Спасите! – Спасите! Меня! – простер я руки мои к белой серой стене. И сорвался».
[Закрыть]. Разъясняя смысл орфической идеи, Вяч. Иванов писал: «Вина эта очевидна: она – в обособленном, эгоистическом, „титаническом“ самоутверждении человеческого я(„тело – организованный эгоизм“, утверждает Вл. Соловьев вполне в духе орфиков и Анаксимандра), в метафизическом свободном приятии душою „принципа индивидуации“, в воле к отдельному бытию; этою волею она продолжает грехопадение „предков законопреступных“, т. е. титанов. <…> Грех души по орфикам, – ее личное самоопределение» [146]146
Иванов Вяч.О Дионисе Орфическом. С. 93.
[Закрыть].
Таким же образом – как абсолютное проявление индивидуальной воли – описывает Ремизов свое восхождение на «вершину». По существу это самый патетический момент путешествия души в высших сферах потустороннего мира: «Я знаю, я прошел через землю, сквозь самые недра, через огонь, я был в царстве звезд и от звезд в звездном вихре за звезды на небесах. Я прошел все мытарства, я сгорел на огне моей боли и смертной тоски, я взойду на вершину». Однако представленная в «Огневице» мистерия перерождения души завершается трагедией: «И вот, как от удара, сшибло, и я упал». Душа, воспарившая к высотам истины, так и не смогла отрешиться от земного греха. Словно натолкнувшись на нечто твердое [147]147
Ср.: «Будучи совершенной и окрыленной, она парит в вышине и правит миром, если же она теряет крылья, то носится, пока не натолкнется на что-нибудь твердое, – тогда она вселяется туда, получив земное тело, которое благодаря ее силе кажется движущимся само собой; а все вместе, то есть сопряжение души и тела, получило прозвание смертного» ( Платон.Федр // Платон. Соч.: В 3 т. Т. 2. С. 182).
[Закрыть], она окончательно изменяет траекторию восхождения к бессмертию на траекторию нисхождения. Путь на землю сопровождается видением, которое на мгновение переносит ее на «пустынный остров»: «я лежу на жарине в бруснике и правое крыло мое висит разбито». Отметим мифологическую коннотацию с так называемыми «блаженными островами», где, согласно учению орфиков, душа, очистившаяся от земных грехов, живет беззаботно и счастливо, не испытывая ни физических, ни душевных мук [148]148
См.: Глаголев С.Греческая религия. Ч. 1. Верования. С. 241.
[Закрыть].
Новое воплощение души [149]149
Ср.: «Так раскрывает перед нами – закон воплощенияи развоплощенияистинный смысл жизни и смерти. Он составляет основную базу в эволюции души и позволяет нам следить за нею в обоих направлениях до самых глубин природы и божества» ( Шюре Э.Великие посвященные. Очерк эзотеризма религий. Калуга, 1914. С. 77).
[Закрыть]происходит постепенно – через отмирание крыльев. В конце концов, когда душа возвращается в тело-темницу, происходит рождение нового тела («я лежу на земле, обтянутый сырой перепонкой»), однако теперь это уродливое и несчастное хтоническое (земляное) существо. О свершившейся трагедии падения крылатой души осталось лишь горькое напоминание – «и не разбитое крыло, прячу я за спиной мою переломанную лягушиную лапку». Высокая мистерия завершается травестией: в историю перерождения души вмешивается Баба-Яга. По своей мифологической функции эта известная представительница русского фольклора является проводником в царство мертвых: она способна «оборачивать» людей в животных и обратно, а ее костяная нога, которой она пожертвовала, подменив лягушачью лапку героя, считается признаком мертвеца [150]150
См.: Пропп В. Я.Исторические корни волшебной сказки. СПб., 1986. С. 69–71.
[Закрыть]. Эта деталь дополнительно подчеркивает «полуживое» состояние души, вернувшейся на землю: «Белый свет – благословен ты, белый свет! – а мне больно смотреть».
«Огневица» вся наполнена изображением земного, телесного, физического состояния. Тема «земляного» разворачивается писателем через образ «мать сыра-земля», вбирающий в себя обобщенное представление о родине. Ремизов начинает поэму с утверждения: «я – кость от кости, плоть от плоти матери нашей бесчастной, погибшей Руси». Полет собственной души он описывает не как воспарение над земным, а, напротив, как прохождение через недра земли: «вниз головой лечу в земле через земляную кору – кости и черепа, куски тела, персть и прах – чую состав земляной, сырь, чую запах земли. Мать сыра-земля! Прорезаю земляную кору, недра земли – песок и камень, камень пробил, сквозь камень лечу в огонь. <…> И вдруг вижу: над головой синее небо, и сквозь небесную синь светят звезды». Даже на самой «вершине» – на пике восхождения – все помыслы души обращены к «окровавленному миру»: «Станьте! Остановитесь! – на четыре стороны кричал я с вершины, и голос мой рассекал свист ветра, – вы, братья, пробудитесь к жизни от смерти, откройте глаза, залепленные братскою кровью, переведите дух ваш ожесточенный! <…> Вы, братья, в мире есть правда, не кровава и не алчна, она, как звезда, кротко светит на крестную землю. <…> И со словами я выплевывал мою кровь и огонь и камень в жестокую долину, где решали судьбу бездушный нож да безразличная пуля. А над моей головой ломалось небо и свистел ветер ужасно».
Являясь в высшей степени глубоко личностным произведением, «Огневица» корреспондируется с другим аналогичным «документом сознания» [151]151
О специфике этого определения, которым Андрей Белый охарактеризовал собственную повесть «Котик Летаев» см.: Аверин Б.Дар Мнемозины: Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. С. 97–127.
[Закрыть]– романом Андрея Белого «Котик Летаев» – и даже в известном смысле является его прямой рецепцией [152]152
Начало публикации «Котика Летаева» было положено в первом сборнике «Скифы», который вышел в свет 1 августа 1917 г. Очевидно, Ремизов познакомился с ним в начале сентября, после возвращения в Петроград из летней поездки на Украину. Поэма «Огневица», как и многие другие произведения Ремизова, в пору ее опубликования была рассчитана на реакцию друзей и знакомых из литературного окружения. Именно этим обстоятельством можно объяснить присутствие в тексте некоторых тропов, интерпретация которых оказывается весьма спорной или неоднозначной. К таким «закрытым» местам текста, в частности, относится фраза из заключительной части поэмы: «Все прошу ухи – „демьяновой“», которая, являясь устойчивым идиоматическим выражением, хотя и восходит к басне Крылова, как кажется, на самом деле является указанием на автора романа «Котик Летаев», поскольку Андрей Белый весну и лето 1917 г. провел, в Демьяново (имение В. И. Танеева в Клинском уезде Московской губ.).
[Закрыть]. В «Огневице» история души – как эманации трансцендентального «Я» – раскрывается в череде горячечных видений, взрывающих изнутри охваченное лихорадкой сознание. Белый воссоздает зарождение «духа» самосознания (пресуществление «Я» из монады души) также через передачу ощущений «окрыленного трепещущего роста» индивидуальности: «Мои детские первые трепеты: трепеты ощущаемых мысле-чувствийсознания; трепеты образованья текучих миров, пламенных объятий вселенной (огонь Гераклита); трепеты развивались, как… крылья: думаю я, что „крылья“– подобия пульсов; окрыленный, трепещущий рост – существо человека; ангелоподобно оно; и мы все – крылоноги; и мы – крылоруки. Конечности– отложения крыльев» [153]153
Андрей Белый.Котик Летаев (Первая часть романа «Моя жизнь») // Скифы. Сб. 1. Пг., 1917. С. 36.
[Закрыть]. Первые признаки экзистенциальной самоидентификации, происходящие на пороге жизни, переданы в «Котике Летаеве» через растущее чувство «огненной крылатости»: «…что-то мучилось красным пожаром, в мучении вспыхнуло „я“ – мое „я“, исходя в окрыленных огнях, как в крылах…» [154]154
Андрей Белый.Котик Летаев (Первая часть романа «Моя жизнь») // Скифы. Сб. 2. Пг., 1918. С. 102.
[Закрыть]Ремизовское стихийное кружение «мыслей-вихрей» перекликается с изображенными Андреем Белым катаклизмами новорожденного сознания: «пучинны все мысли: океан бьется в каждой; и проливается в тело – космической бурею» [155]155
Андрей Белый.Котик Летаев (Первая часть романа «Моя жизнь») // Скифы. Сб. 1. С. 16.
[Закрыть].
Оба произведения объединяют субъект повествования (человеческая душа), а также место действия, расположенное на границе человеческого бытия – у врат, открывающихся как для новопреставленных, так и для новорожденных. Вместе с тем, если Андрей Белый, полагаясь на «память о памяти» [156]156
Там же. С. 25.
[Закрыть], вспоминает процесс вхождения души в тело, то Ремизов описывает обратный круг перерождения – отделение собственной души от тела, ее мытарства в воздушном пространстве потустороннего мира, мучительные попытки обрести крылья, стать бессмертной, заканчивающиеся трагическим возвращением к жизни. Как и в «Котике Летаеве», метафизический план поэмы, соединяя земное и небесное, напластовывается на реальные события. Андрей Белый изображает самосознание младенца Котика как память о мистериях собственного воплощения и только в эпилоге приходит к теме «России, истории и мира». Ремизов объединяет проблему реинкарнации с переживанием революционной катастрофы, полностью связывая свою мистерию восхождения и нисхождения души с переживанием темы гибели и возрождения России. Даже образ Бабы-Яги в «Огневице» напоминает зловещий персонаж потустороннего мира из «Котика Летаева»: «дотелесная жизнь обнажена ужасно и мрачно; за вами несется старуха; и ураганом красного мира она протянула свои гигантские руки…» [157]157
Там же. С. 24.
[Закрыть]
Кульминационное событие, произошедшее с душой в метафизическом пространстве – вне тела, связано в поэме с горами, которые отнесены к ряду возможных мифологических локусов: «Я стою в горной долине, не то Шварцвальде, не то в диком Урале, не то на Алтае». Из названных вариантов именно «Шварцвальд» содержит в себе целый клубок смыслов и образов. С одной стороны, он определенно коррелирует с началом романа Андрея Белого: «Я стою здесь в горах: меня ждет – нисхождение; путь нисхождения страшен» [158]158
Андрей Белый.Котик Летаев (Первая часть романа «Моя жизнь») // Скифы. Сб. 1. С. 12.
[Закрыть]. Отличие заключается в том, что Ремизов, находясь в «горной долине», смотрит ввысь перед восхождением («Я знаю: <…> я взойду на вершину. А там шум, свист, грохот, там буря ломает небо…»), а у Белого, наоборот, предвосхищается «путь нисхождения».
С другой стороны, шварцвальдский локус объединяет «Огневицу» и «Котика Летаева» указанием на Ф. Ницше. Д. Галеви – автор известного и популярного в 1910-х годах жизнеописания философа – писал о терапевтической станции Штейнбад, «затерявшейся в долине Шварцвальда» [159]159
Галеви Д.Жизнь Фридриха Ницше. СПб., 1911. С. 130.
[Закрыть]как о месте, где Ницше, узнав о необратимости своей болезни, тем не менее, «не переживал реально впечатления этой угрозы, а созерцал ее со стороны и с полным мужеством смотрел в лицо своему будущему» [160]160
Там же. С. 132.
[Закрыть]. Несколькими годами позже, после выхода в свет «Котика Летаева», Белый ассоциативно свяжет собственный опыт духовного рождения в швейцарском Базеле, расположенном в долине между вершинами Юры и Шварцвальда, и трагедию Ницше: «…острие моей жизни есть Базель: здесь так же страдал, как Ницше, осознанием глубины вырожденья в себе <…>. В этом Базеле, может быть, похоронил я навеки себя; но, может быть, здесь именно я духовно родился; воспоминанья о детстве мои, „моя жизнь“ есть рассказ о моем отдаленнейшем будущем…» [161]161
Андрей Белый.На перевале. Берлин; Пб.; М., 1923. С. 149.
[Закрыть]
Ницшеанский код сообщает «Огневице» дополнительный смысл. У Ремизова видение Шварцвальда и связанный с ним кошмар, начинающийся с рассказа о чудесах Фиандры, совпадает с кризисом болезни и новым духовным рождением. Горячка отступает, и душа возвращается в тело: «И мне горько до слез, что упал я и не вернуться, что нет ни крыльев, ни золотых стрел и тех слов не повторить уж…» Именно на этой границе, где смешивается реальное и ирреальное, особенно четко обозначена антитеза «небесного» и «земляного». Вместо «небесной» души вновь возникает земное тело, вместо крыльев – «лягушиная» лапка. Мотив нисхождения души обращается, таким образом, в мотив возвращения на круги своя. Ключ к ремизовскому тексту содержит одна из притч о Заратустре, название которой подсказывает сама логика развития сюжета поэмы, – «Выздоравливающий». Описанная здесь болезнь «отвращения» («великое отвращение к человеку – оно душило меня и заползло мне в глотку» [162]162
Ницше Ф.Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого / Пер. Ю. М. Антоновского. СПб., 1911. С. 193.
[Закрыть]) являлась той последней «бездной», которой Заратустра дал выход из своей души, после чего он «упал замертво и долго оставался как мертвый». Когда же он пришел в себя, то, бледный и дрожащий, «продолжал лежать и долго не хотел ни есть, ни пить. Такое состояние продолжалось в нем семь дней: звери его не покидали его ни днем, ни ночью…» [163]163
Там же. С. 191.
[Закрыть]. Собственно, та же схема повторяется и в «Огневице»: отчаянное, непримиримое возмущение против людей приводит автора к смертельной болезни, которая изображается как удушение кашлем («ржавь меня душит») и разворачивается в хронотопе поэмы в течение семи дней.
Философское содержание главы «Выздоравливающий» сконцентрировано на мысли об истинном и ложном содержании жизни, трагический смысл которой человек стремится раскрасить соблазнами чарующих образов. Так мыслят звери Заратустры, которых учитель упрекает в самообмане («О вы, проказники и шарманки!») [164]164
Там же. С. 192.
[Закрыть]. Иллюзорное видение жизни Ремизов воплощает в образе Фиандры. С этим именем связано автобиографическое воспоминание о пребывании в 1913 году в Швейцарии, в местечке Фунэ, расположенном неподалеку от Коппе, где жил в это время Лев Шестов, а также о хозяине гостиницы Фиандре [165]165
В Фунэ Ремизов поселился в пансионе Эдуарда Фиандра (Eduard Fiandra). См.: ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. № 6. Л. 1.
[Закрыть], который в поэме всплывает в образе «содержателя веселого дома в Александрии». Одновременно тема поддержана образом «медведчика с гнусавой волынкой», вызывающим ассоциации со швейцарским национальным символом – медведем и национальным инструментом – альпийским рогом. Вместо шарманки, символизирующей у Ницше повторяемость и неизменность жизни («той же самой жизни в большом и малом») [166]166
Ницше Ф.Так говорил Заратустра. С. 195. Ср. также интерпретацию главы «Выздоравливающий» в книге М. Хайдеггера «Ницше» (СПб., 2006. Т. 1. С. 261–275).
[Закрыть], он реализует идиому «тянуть волынку»: «Фиандра чего не придумает! – завел медведчик свою гнусавую волынку – огоньки замелькали, завыла волынка, и все задвигалось, зашевелилось, как в первый день творения. И пошла другая жизнь». Однако фата-моргана жизни, расцвеченной, как веселый балаган Фиандры, в ремизовском видении сменяется комнатой-карцером, похожей на погреб (соответственно: тело – гроб), пребывание в котором тоской заливает душу.
Ремизовское описание пути в иной мир почти дословно соотносится и с другой главкой «Заратустры» – «О мечтающих о другом мире»: «Тело, отчаявшееся в теле, – ощупывало пальцами обманутого духа последние стены. <…> Тело, отчаявшееся в земле, – слышало, как говорили недра бытия. И тогда захотело оно пробиться головою сквозь последние стены, и не только головою, – перейти в „другой мир“» [167]167
Ницше Ф.Так говорил Заратустра. С. 22.
[Закрыть]. У Ремизова: «…не могу я подняться, лежу пригвожденный под горящим покровом, жестким <…>, не могу стать с огненного креста моего, из костра палящего, стать на ноги и в последний раз поклониться до самой земли сердцу человеческому, изнывавшему от обиды, утраты, раскаянья, сердцу <…>, надрывающемуся в смертной тоске. <…> Пробил я черепом до моего досчатого гроба, полетел сквозь землю…» Выздоровление Заратустры происходит после того, как он, будто сумасшедший, «стал кричать ужасным голосом», пробуждая в себе свою «бездну», а затем откусил голову чудовища болезни и «отплюнул ее далеко от себя» [168]168
Там же. С. 192.
[Закрыть]. Схожим образом и Ремизов описывает свое обращение к миру: «Я собрал весь мой голос и крикнул окровавленному миру <…>. Я кричал <…>. И со словами я выплевывал свою кровь и огонь и камень…»
В поэме у постели больного неотлучно дежурят звери: «…в ногах у меня по стене длинная повисла змея: голова змеева, а рот человечий – внимательно так смотрит, надолго повисла, крепко. И я понял: – это страж мой, и будет со мной неизменно. И за шкапом показались две морды: уши ослиные, борода козья, а глаза умные песьи – кланяются». Для Ремизова мотив зверя, помощника и друга, – абсолютно естественный элемент в его, по сути, мифологическом мировосприятии. Даже в бытовой обстановке писателя окружали различные тотемы, персонажи из сказок и легенд. Среди этих «волшебных помощников», составлявших ремизовскую прославленную коллекцию игрушек, были и таки экземпляры, как «змейка из материи с головой из граненого камня» и «Баба-Яга Костяная (одетая кукла)» [169]169
«Опись зверюшек и чудищ музея А. М. Ремизова», составленную писателем для передачи своей коллекции игрушек в музей Пушкинского дома, см.: Грачева А. М.Алексей Ремизов и Пушкинский дом (Статья первая. Судьба ремизовского «Музея игрушек» // Русская литература. 1997. № 1. С. 209.
[Закрыть]. Образ змеи и еще двух звериных «морд» в поэме воспринимается как проявление эзотерических параллелей между «Огневицей» и главами из книги «Так говорил Заратустра». Верные друзья Заратустры – его «животные»: орел и змея. Заметим, что Ремизов обходит вниманием образ орла («крылатого»), выбирая близкое для своей хтонической природы пресмыкающееся, «земляное» существо – змею, и называет ее здесь своим «неизменным стражем».
В контексте поэмы, повествующей о перерождении души, змея, действительно, является «стражем» мира мертвых: она исчезает только после окончательного выздоровления, когда душа возвращается в тело («осмотрел я на стену, а змеи нет, – залила огонь и уползла»). С другой стороны, символ змеи в мистических учениях тесно связан с концепцией самой жизни, являясь воплощением духовной силы [170]170
В контексте книги «Так говорил Заратустра» змея у Ницше символизирует вечное возвращение. См.: Хайдеггер М.Ницше. Т. 1. С. 257–261.
[Закрыть]. К тому же притяжательное местоимение, сопутствующее определению «страж», подчеркивает взаимосвязь этого концепта и субъекта повествования. Так довольно неожиданно в «Огневице» проявляется пласт антропософской эзотерики, именно через символ «страж». Согласно Р. Штейнеру, внутреннее, исконное существо человека «выступает из личности только в момент смерти» благодаря встрече посвященного с астральным «Малым Стражем порога». Посвященному в тайное знание «Страж порога» открывает новый опыт: «ученик» переживает смерть при жизни, дабы пережить возрождение к бессмертию. Но едва ли не самым главным в этой встрече является рождение нового самосознания: «Он (человек. – Е.О.) пробился к восприятию своего высшего Я и понял, как ему надо работать дальше, чтобы приобрести господство над своим двойником – „стражем порога“» [171]171
Штейнер Р.Очерк тайноведения. Л., 1991. С. 243.
[Закрыть]. Слова Заратустры «новой гордости научило меня мое я, которой учу я людей: не прятать больше головы в песок небесных вещей, а гордо держать ее, земную голову, которая создает смысл земли!» [172]172
Ницше Ф.Так говорил Заратустра. С. 23.
[Закрыть]получают у Ремизова, оригинальное выражение.
Упоминание Аландских островов символически обусловлено не только ницшеанской темой. Возникающее в сознании Ремизова видение райского (блаженного) по своим природным богатствам «пустынного острова» («Крупная брусника ковром устилает остров») напоминает начало главы «На блаженных островах» из книги «Так говорил Заратустра»: «Плоды падают со смоковниц, они сочны и сладки; и пока они падают, сдирается красная кожа их» [173]173
Там же. С. 71.
[Закрыть]. На «блаженном острове» душа героя «Огневицы» испытывает перерождение. Душа здесь предстает в двойственном образе: с одной стороны, мы видим мученика, пронзенного стрелами, белые одежды которого напоминают о культе орфических посвящений [174]174
Ср.: «У орфиков была регламентация и одежды. Посвященные носили белые одежды в знак чистоты и целомудрия» ( Глаголев С.Греческая религия. Ч. 1. С. 251).
[Закрыть], а стрелы создают коннотации с образом святого Себастьяна [175]175
Об изображениях Св. Себастьяна в произведениях искусства см.: Ressouni-Demigneux К.Saint-Sébastien, Milan, 2000.
[Закрыть]; с другой – обнаруживается поломанное крыло перевоплощающейся души: «Я лежу на жарине в бруснике и правое крыло мое висит разбито». Интересно уточнение – разбито именно правоекрыло, соотносящееся с правой рукой пишущего человека.
Если прочитывать образ крыла в платоновском ключе, в соответствии с которым крылатые души вселяются в творческих людей, то разбитое крыло символизирует в поэме сознание краха собственного творчества. Вместе с тем образ мученика за веру наделен важными атрибутами («три гвоздя вбиты мне в голову и лучами торчат поверх головы, как корона»), которые позволяют раздвинуть границы этого образа до более абстрактной темы расширяющегося самосознания, мыслящего себя за гранью человеческого. В главе «На блаженных островах» Ницше открывает основы мировоззрения «сверхчеловека», которое связано прежде всего с испытанием страданиями: «…чтобы быть созидающим, надо подвергнуться страданиям и многим превращениям. Да, много горького умирания должно быть в вашей жизни, вы, созидающие. <…> чтобы сам созидающий стал новорожденным, – для этого должен он хотеть быть роженицей и пережить родильные муки» [176]176
Ницше Ф.Так говорил Заратустра. С. 73.
[Закрыть].
Поэма «Огневица» является отражением принципиально нового экзистенциального опыта, благодаря которому Ремизов – герой собственного произведения – через болезнь и тяжелейшие нравственные терзания познает суть собственной природы и, в конечном счете, смысл человеческого назначения. «Огневица» возникает на «крутосекущей черте» [177]177
Андрей Белый.Котик Летаев (Первая часть романа «Моя жизнь») // Скифы. Сб. 1. С. 11.
[Закрыть]: в масштабе эпохи начинается новая жизнь; в масштабе одной творческой личности, сораспявшей себя с Россией, происходит воскресение «Я»: «В воскресенье поднялся я, робко пошел на своей костяной ноге. Белый свет – благословен ты, белый свет! – а мне больно смотреть». Поэма является поворотной точкой творчества и мировоззрения Ремизова: в последующих произведениях его собственное «Я» соразмерно огромным темам, позволяющим сказать «Я» – это Россия, «Я» – это весь мир.
Описывая собственный мистериальный опыт преображения «Я», Ремизов, следуя за Ницше, открывает новый путь индивидуализма. Основой для возникновения такого мировоззренческого ракурса может служить глава из «Заратустры» «О мечтающих о другом мире», где утверждается единственная «мера и ценность вещей», «самое верное бытие» – «Я». Это «я – говорит о теле и стремится к телу, даже когда оно творит и предается мечтам и бьется разбитыми крыльями» [178]178
Ницше Ф.Так говорил Заратустра. С. 23.
[Закрыть]. В конце поэмы на «белый свет» выходит возрожденная личность, человек, готовый принять мир, каким бы чужим и страшным он ни являлся. Именно это решение содержится и в ницшеанской притче «Выздоравливающий», где Заратустра обретает самого себя, переборов болезнь «отвращения».
В отличие от явных или даже очевидных проекций в поэме и на архетипические мифологические символы (например, модель восхождения и нисхождения души, выраженная через орфическое учение), и на реальные события жизни, коннотации с ницшеанской темой в символических образах поэмы носят имплицитный характер. Этот код «Огневицы» присоединяется к основной семантике текста по принципу дизъюнкции, привнося дополнительные или даже самостоятельные значения. Такое «разделение» оправданно, поскольку именно ницшеанское символическое содержание некоторых образов более всего обращено к важным нравственным выводам, вынесенным за скобки конкретного повествования, и имеет отношение к созревшей к октябрю 1917 года личностной позиции Ремизова.