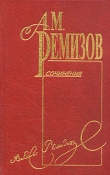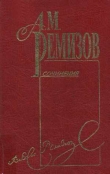Текст книги "Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя"
Автор книги: Елена Обатнина
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
«Распаленными глазами я взглянул на мир – „все как будто умерло <…>“. За какое преступление выгнали меня на землю? Пожалел ли кого уж не за „шинель“ ли Акакия Акакиевича? за ясную панночку русалку? – или за то, что мое мятежное сердце не покорилось и живая душа захотела воли? Какой лысый черт или тот, хромой, голова на выдумки и озорство, позавидовал мне?
А эти – все эти рожи, вымазанные сажей, черти, <…> все это хвостатое племя, рогатые копытчики и оплешники, обрадовались!
Да, как собаку мужик выгоняет из хаты, так выгнали меня из пекла.
Один – под звездами – белая звезда в алом шумном сиянии моя первая встреча».
В целом смена регистров повествования в гоголевских главах книги спонтанна и алогична: иногда слышен монолог героя, который в оригинальном тексте являлся всего лишь объектом описания (Ноздрев, Чичиков), иногда разворачивается диалог классиков, возможный исключительно в реальности сна: «И Гоголь заплакал. „Боже, как грустна наша Россия!“ отозвался Пушкин голосом тоски. Гоголь поднял глаза и сквозь слезы видит: за его столом кто-то согнувшись пишет. „Кто это?“ – „Достоевский“, ответил Пушкин. „Бедные люди!“ сказал Гоголь и подумал: „растянуто, писатель легкомысленный, но у которого бывают зернистые мысли“ заглянув в рукопись, с любопытством прочитал заглавие: „Сон смешного человека“. И проснулся» [623]623
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 145.
[Закрыть].
Нередко хрестоматийный текст словно выходит из повиновения и существует помимо авторской воли; или неожиданно проявляется ремизовский голос, который высказывает острые замечания по поводу поэтики и художественных приемов в классических текстах: «Толстой следует Гоголю: под его глазом все вылезает на свет Божий в смешном виде. У обоих изощренность зрения: мир явлений – пестрота Майи, непроницаемая простому глазу, для них сквозная» [624]624
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 162.
[Закрыть]. Свое толкование знаменитой поэмы Ремизов осуществлял, двигаясь «кругами»: «…начал круговое построение „Мертвых душ“: круг Ноздрева. Надо закончить к февралю 1952 г. (сто лет со смерти Гоголя)» [625]625
Кодрянская Н.Ремизов в своих письмах. С. 185–186. Письмо от 29 июня 1951 г.
[Закрыть]. Гоголевские герои разделены по типологическим признакам на трехчастные группы: «воздушную тройку», состоящую из Ноздрева, Чичикова и Манилова, и «хозяйственную тройку», включающую Коробочку, Плюшкина и Собакевича – «Гоголь богатый: не одна, а две тройки» [626]626
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 164.
[Закрыть]. Причем Ремизов прорабатывал линию каждого героя в отдельности, в результате чего образы оказывались самоценными, не зависящими ни от фабульной канвы, ни от соотнесения с главным персонажем поэмы – Чичиковым.
Рукописные варианты «Огня вещей» отражают процесс освобождения произведения от примет гладкого, литературного повествования. В частности, при сравнении черновых автографов и наборной рукописи обращает на себя внимание тенденция к эллиптическому построению фразы. В черновом варианте главы «Райская тайна» было: «…я слышу <…> глас из рая и глас из ада: „Бог не попустит!“ У Пульхерии Ивановны <…> на жестокое замечание Афанасия Ивановича о пожаре: „их дом сгорит“. И у Сони из ее жертвенного сердца на „каторжное“ (по-другому Достоевский не может) отчаяние Раскольникова, что „она захворает….“». В окончательном тексте исчезает существительное «отчаянье», а «книжная» пунктуация изменяется под мелодику и логику произносимой речи: «…я слышу <…> глас из рая и глас из ада: „Бог не попустит!“ У Пульхерии Ивановны <…> на жестокое замечание Афанасия Ивановича о пожаре: „их дом сгорит“; и у Сони из ее жертвенного сердца на каторжное (по другому Достоевский не может) Раскольникова, что „она захворает….“» [627]627
Собрание Резниковых, Париж.
[Закрыть].
От редакции к редакции не только изменялся сам строй повествования, но и пунктуация приобретала сугубо индивидуальную манеру, весьма условно соотносившуюся с общепринятыми нормами и правилами. Окончательная доработка текста проходила довольно мучительно для автора, который жаловался в письме к Н. В. Кодрянской от 18–19 февраля 1954 года: «Жду корректора из типографии от Резникова – придет обличать меня за мою „безграмотность“ и я терпеливо буду слушать, а все будет так, как написано» [628]628
Кодрянская Н.Ремизов в своих письмах. С. 350. Письмо от 18–19 февраля 1954 г.
[Закрыть]. Писатель упорно работал над созданием «неписанного» языка, передающего речевой жест: «Надо научиться говорить двумя голосами 1) к кому обращаетесь 2) и тот отвечает» [629]629
Ремизов А.Как научиться писать / Публ. и примеч. А. М. Грачевой // Алексей Ремизов: Исследования и материалы. С. 278.
[Закрыть].
Постоянная смена стилей и методов диктовалась также и эмоциональным отношением Ремизова к материалу. «Пушкинские» главы, в отличие от «гоголевских», наполнены логическими рассуждениями. Обращение с чужим текстом здесь более «правильно»: цитируемые слова не только заключены в обязательные кавычки, но и представлены максимально аутентично источнику. Даже столь незначительные детали обнаруживают совсем иной градус взаимодействия автора с материалом и совсем другой – более рационалистичный и аналитический – художественный интерес. Отдельные литературные сновидения, присутствующие в классических текстах Пушкина и Тургенева, автор «Огня вещей» систематизировал и классифицировал по всем законам историко-литературного жанра: у читателя даже может возникнуть иллюзия своеобразной «научности» в связи с тезисными рассуждениями («Дар Пушкина») или же пронумерованной типологией снов («Тридцать снов»). Однако и здесь – самой выборкой цитат, систематизацией снов по темам, оригинальным комментированием – Ремизов так расставлял акценты и воспроизводил приемы, что его собственный текст сохранял общие ирреальные свойства, присущие остальным главам книги.
Творческий процесс, связанный у Ремизова, как правило, с проговариванием текста и его наглядной репрезентацией, является художественным пересказомеще и в буквальном смысле слова, поскольку – «с памятью зрение, а с глазом слух» [630]630
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 158.
[Закрыть]. «Только голосом можно передать всю глубину словесных знаков смутных и безразличных при чтении непоющими глазами. Только с голоса слышно, что Днепр не Днепр, а библейский Геон, Фиссон, Тигр и Ефрат, а Черное море не Черное, а Тивериадское, прародина всего живого на земле. И только через голос звучен обрекающий приговор судьбы и предостережение: глас человеческой мудрости» [631]631
Там же. С. 218.
[Закрыть]. Аналогичное признание содержит и следующий комментарий Ремизова: «Пишущие стихами уже по самому способу своего словесного выражения вынуждены особенно внимательно подходить к слову, выбирать слова – слышать слово, а у китайцев все равно, что и видеть, слышать и видеть отдельные слова и соотношения слов…» [632]632
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 251.
[Закрыть]
Сохранилось немало свидетельств, запечатлевших уникальную ремизовскую манеру чтения вслух произведений русской классики. Один из мемуаристов вспоминал: «В Берлине А. М. Ремизова я в первый раз увидел и услышал в ателье художника Н. Зарецкого, где изредка устраивались литературные вечера. <…> В тот вечер в ателье Зарецкого я увидел Блока, услышал голос Достоевского – настолько была велика сила ремизовского чтения» [633]633
Андреев В.История одного путешествия. М., 1974. С. 300–301.
[Закрыть]. Особенно примечательны в этом плане воспоминания Н. В. Резниковой: «Все кому посчастливилось слышать чтение А.М. с эстрады, никогда его не забудут. <…> Его искусство чтения было несравненно: очень выразительное, без внешних эффектов, подчеркиваний и усилений – он скорее прибегал к понижениям и паузам. Чтение Ремизова производило огромное впечатление и заставляло присутствующих слушать, затаив дыхание. Даже те, кому искусство Ремизова было непонятно и скорее враждебно, слушали с восхищением. Известные всем отрывки из русских классиков слушались, как в первый раз. Каждое слово оживало, получало новый смысл. А.М. любил русскую литературу и с радостью „открывал“ своим слушателям Пушкина („Сказка о рыбаке и рыбке“, „Цыганы“), прозу Лермонтова, Толстого, Тургенева, Лескова и менее известных или забытых – Погорельского, Вельтмана, Слепцова. И „самое проникновенное“ – Достоевского и Гоголя – это было его любимое. <…> При чтении А.М. сильно переживал „Вия“ и свое волнение сообщал слушателям. Холод проходил по спине, когда голосом своим Ремизов вызвал образ старухи-ведьмы. <…> Своим голосом и ритмом чтения Ремизов передавал всю поэзию Гоголя и чары ее колдовства. Я думаю, никто никогда не читал Гоголя, как Ремизов; слушатели бывали околдованы. Слушали жадно: морской ветер, старцы бегут по морю, спросить выпавшее слово молитвы: „Трое вас, трое нас…“ („Три старца“ Л. Толстого). Глубокий поклон матери сыну, под медленные удары колокола („Подросток“ Достоевского). Из Тургенева Ремизов выбирал сон Лукерьи („Живые мощи“): она жнет, а в руке ее серебрится вместо серпа месяц. А.М. читал свои любимые произведения. Он уверял, что не трудно читать громко: совсем не нужно повышать голос, стараясь из себя выдавить звук, а надо как бы дышать в себя» [634]634
Резникова Н. В.Огненная память. С. 79–81.
[Закрыть].
Мемуаристка, описывая публичные выступления писателя как творческий процесс, зафиксировала немало важных деталей. Чтение вслух немногим отличалось от чтения «про себя» – в этом, собственно, и состояла принципиальная разница между выступлениями Ремизова на публике и художественным чтением какого-либо профессионального актера: «От моего актерства – мое чтение. Но „чтение“, не „игра“. Профессиональные актеры при своих дарованиях голосовых и мимических читать не могут, не в состоянии отказаться от игры, „Игра“ нарушает ритм – от произведения ничего не остается» [635]635
Ремизов А.Пляшущий демон. Танец и слово. Париж, 1949. С. 56.
[Закрыть]. В то время как артист стремится отображать текст, Ремизов скорее его конгениально воображал. Выразительность чтения обеспечивалась не театральными – искусственноигровыми – приемами, а исключительно художественными достоинствами текста как такового. Отсюда же проистекало и недоверие Ремизова к театральному исполнению многих текстов русской классики – в частности, к постановке на сцене знаменитой комедии: «„Ревизора“ только и можно читать, а не смотреть. <…> При игре ритм рассказа нарушен: слово только матерьял; в игре свой ритм. И то, что видишь, читая, никогда не увидишь, глядя на сцену. Книга одно, театр другое» [636]636
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 231.
[Закрыть].
Противопоставление книга – театросновывается на едином для всех видов искусства понятии представления (репрезентации), которое Ремизов в каждом отдельном случае наполнял различным содержанием. В театре исполнение, диктуемое конкретным, заданным в тексте художественным образом, несомненно, ограничивает зрительское восприятие. Чтение, особенно чтение вслух, раскрепощает воображение, дает полную свободу умозрительно представлять образы, примеривать их к себе и домысливать. Сохраняя абсолютную значимость слова, чтение не заслоняет его лицедейством. И хотя образы, возникающие в сознании читателя, отличаются от авторских, однако именно озвученное слово позволяет наиболее полно сохранить приметы исходного инварианта.
Существуют разные степени восприятия, обусловленные личностью реципиента. Процесс чтения предполагает определенную предуготовленность; читая, мы можем примерять к постигаемому тексту смыслы, рождающиеся в нашем сознании. «Когда говорю о читателе „пошляк“, – рассуждал Ремизов о двух типах читателей, – слово „пошляк“ употребляется не в бранном, а в старинном значении слова. Это слово „пошлый“ (привычный) – проторенный путь. Так я делю критикующих читателей на „пошляков“ и необыкновенных – пытливых. Необыкновенные – редкая встреча меня радовала, а к пошлякам был терпелив» [637]637
Кодрянская Н.Алексей Ремизов. С. 100.
[Закрыть]. О том, что для такого уникального искусства, как чтение, требуется особый талант, писатель заговорил именно в последние годы работы над «Огнем вещей»: «Я чувствовал вокруг себя беспредельность и глубину мне заказанную. Перейти за положенную грань, набраться чужого ума и любопытство к людям – вот чем пристрастила меня к себе книга. Книга – моя вторая земля, и сколько раз говорил себе: пускай меня загонят в щелку, все отступятся, книга останется со мной. Я никак не мог представить, что в конце моих дней сумрак покроет мои глаза. А какие встречи! За ученические годы, с начала моей жизни до тюрьмы и первой ссылки в Пензу, я прочитал столько, как никогда потом: ни в ссылке, ни в скитаниях, ни в Петербурге. Пожалуй, можно только сравнить со временем заграничной жизни. А теперь я выпрашиваю, как милостыню: „почитайте“» [638]638
Там же.
[Закрыть].
Ремизов-чтец погружался в пространство произведения и увлекал этим своих слушателей. «Декламатор» не отводил себе никакой внешней роли; напротив, он как будто становился вместе с литературными героями в одну плоскость художественного повествования и, не прибегая к лицедейству, оставался в пределах вербальной оболочки текста, тогда как слушатель становился зрителем собственных представлений, рождавшихся параллельно и одновременно со звучащим словом. Сила впечатления определялась не внешними эффектами, а познавательной направленностью чтения. Ремизов не просто воспроизводил текст, он «пробуждал» и «одушевлял» его, оттого озвученный образ получал художественно-пластическое воплощение. Подобный «театр теней» возникал благодаря последовательному процессу перевода текста с письменного языка на устную речь и с озвученного на изобразительный.
Неудивительно, что художественная ткань классики заменяла Ремизову повседневную действительность, становилась контекстом личной жизни. «Как бы превращая себя в другого» (согласно этому герменевтическому правилу, сформулированному еще Шлейермахером, индивидуальность автора следует постигать в непосредственном восприятии с целью понять писателя лучше, чем он сам себя понимал [639]639
См.: Гадамер Х.-Г.Истина и метод. С. 237.
[Закрыть]), Ремизов ощущал в себе подлинную способность изъясняться языком классических героев, ощущать их мысли, видеть их сны, быть участником мистических коллизий и магических метаморфоз, устремляясь к тем замыслам, которые возникали в сознании их великих творцов. «Весь охваченный жгучим вийным веем я вдруг увидел себя, забившимся за иконостас алтаря, невидимым для подземных чудовищ с отвратительными залупленными хвостами. Я различаю из-за своей засады в трепещущей от свечей, облитой светом трутовой ветхой церкви в третью и последнюю ночь Хомы Брута» [640]640
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 148.
[Закрыть]. Ремизов-чтец открывал слушателю магию литературного творчества как такового, заключавшуюся не столько в озвучивании текста, сколько в его осуществлении, – текст буквально воплощался в слове и, воплощаясь, наполнялся новыми смыслами. По сути такое восприятие чтения приближалось к процессу посттворчества, которое подразумевает раскрытие нового содержания пусть даже и хрестоматийно известного литературного текста уже в самом индивидуальном сознании читателя, зрителя, слушателя.
Суть пушкинского феномена писатель, как и в случае с Гоголем, раскрывал через сближение собственного представления о поэте с неким мифологическим образом. Гоголь для Ремизова – «озорная кикимора», мятущаяся между человеческим и демоническим, в то время как творчество его органично и нераздельно, подобно стихийной силе: он – «весь кипь и хлыв слов» [641]641
Там же. С. 160.
[Закрыть]; Пушкин в некотором смысле его антипод: демон. Он – «…один из тех, кто выведал тайну воплощения Света; с лилией, поднявшись со дна моря и, пройдя небесные круги, <…> явился на землю…» Обнаруживая антитетические взаимодействия между великими мастерами слова, Ремизов постепенно выстраивал оригинальную систему соотношений между произведениями русской прозы, в которых сон оказывался не столько литературным приемом, сколько первостепенным, определяющим признаком, характеризующим инфернальную природу самого литературного дара, открывающего дорогу в мир вечных сущностей.
В представлении Ремизова словесная материя Пушкина соединяла два противоположных типа художественного воспроизведения жизни – поэзию и прозу. Пушкинская поэзия казалась отображением подлинного и вечного, открывала сознанию путь к свободной фантазии и игре воображения. «…Мой слух, – делился идущими еще из детства впечатлениями Ремизов, – был и моим воплощением – я чувствовал себя Татьяной, Марией, Самозванцем, Лебедью, Белкой – веретенным ритмом сказки; и я не только чувствовал, я вдыхал и ту природу – землю этих образов и ритма: Россия, русская речь. А еще позднее я сказал себе: я слушал и чувствовал, я воплощался в Татьяну, Марию, Самозванца, Лебедь, Белку под чарами слова…» [642]642
Там же. С. 251.
[Закрыть]Проза, напротив, ассоциировалась в его творческом восприятии лишь с искусной подделкой жизни. Как музыкант, не терпящий фальши, Ремизов выверял пушкинские тексты на звучание и не находил в них того очарования, каким блистала поэзия: «…занимаясь словесным ремеслом, я взялся читать по-своему: я следил словами, выговаривая и прислушиваясь; и у меня осталось: читаю „стилизованные рассказы“. <…> Традиция пушкинской прозы не в словесном материале – я не нашел ничего от пушкинской поэзии, и слух не Пушкина» [643]643
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 252.
[Закрыть].
Другой очерк о Пушкине, посвященный свободной русской речи (в «Огонь вещей» он вошел под названием «Живой воды»), открывался энигматической сентенцией: «С Пушкина все началось, а пошло от Гоголя». Язык Пушкина – Альфа и Омега русского литературного языка, его прекрасный эталон. Поэт первым задал тревожный вопрос: «Заговорит ли Россия по-русски?» Однако, по Ремизову, «проза Пушкина <…> – думано по-французски и лада не русского» [644]644
Ремизов А.Пляшущий демон. Танец и слово. С. 24.
[Закрыть], в то время как Гоголя природа наделила величайшим даром – «владеть, как никто, словом» [645]645
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 267.
[Закрыть]. Работая над очерком, Ремизов вполне отдавал себе отчет в том, насколько многогранна и значима затронутая тема, вероятно, высокая степень ответственности заставила его обронить в письме к А. Ф. Рязановской 20 мая 1949 года, сразу после завершения работы над статьей к 150-летию Пушкина, следующее признание: «Мне так трудно такое писать, я не ученый» [646]646
Remizov A.Unpublished Letters to N. V. Reznikova and A. F. Ryazanovskaya / Preface and notes by S. Aronian // Russian literature triquarterly. 1986. № 19. P. 296.
[Закрыть].
Бесспорно, оригинальная мысль Ремизова плохо уживалась с общепринятым научным дискурсом. На эту особенность художественного дарования писателя впоследствии обратила внимание и критика: «…настанет время, – писал Г. Адамович, – когда во всеоружии исторических и лингвистических знаний, подлинный ученый, наделенный при этом подлинным чутьем к слову, установит к ремизовским призывам и обличениям единственно верное решение: как к любопытной, курьезной, очень талантливой причуде, как к занимательной и даже соблазнительной ереси, – в соответствии, впрочем, со всем творческим обликом Ремизова, где причуды, затеи, игра, капризы и странности чувствуются за каждой чертой» [647]647
Адамович Г.Одиночество и свобода. СПб., 2002. С. 175–176.
[Закрыть]. Когда Ремизов еще только приступал к своему «странствию по душам» (выражение Льва Шестова) русской классики, он осознавал несомненное превосходство художественного мышления над методологией профессиональных историков литературы. Его суждения о литературных произведениях являлись результатом не столько строго логического анализа, сколько итогом личных, глубоко интимных душевных переживаний.
Пушкинская тема открыла простор рассуждениям писателя о словесном материале русской классики. Находясь большую часть своей творческой жизни в чужой языковой среде, Ремизов был чрезвычайно озабочен проблемой сохранения индивидуальности русской речи, как в ее общенациональном звучании, так и в авторской неповторимости. Страстно желая, чтобы его собственные произведения издавались не только по-русски или по-французски, но и на других языках, писатель, казалось бы, сам создавал препятствия для их перевода. «Мне очень трудно писать и из-за глаз и еще, я теперь понял, во мне постоянная борьба двух грамматик: иностранная с природной русской (неписаной), – делился он своими сомнениями с Г. П. Струве 5 февраля 1946 года. – Когда пишут о двух направлениях в русской прозе: пушкинской и гоголевской – это не верно: надо делить на иностранную и русскую (едва-едва пробивается). А Гоголь – какой же он русский? Гоголь – польский (я говорю о стиле). Гоголь-Марлинский и его учитель польскому Сенковский. Переписываю по 5–6 раз! Все мне кажется литературным, что переводится на иностранный язык. А добиваюсь я своего, нашего природного – непереводимого» [648]648
Архив Гуверовского института, USA Фонд. Г. Струве.
[Закрыть].
В конце 1944 – начале 1945 годов Ремизову самому пришлось решать непростую задачу перевода русской классики, когда французское издательство «Quatre Vents» по рекомендации художника Ю. Анненкова обратилось к нему с двойной просьбой – перевести рассказ Достоевского «Скверный анекдот» и написать предисловие к готовящемуся изданию. Если в Гоголе Ремизова всегда привлекало волшебство слов, создающих яркий цветной мир, то Достоевский открыл для него духовную силу материализующейся мысли. Анненков вспоминал, с какой серьезностью и вместе с тем с иронией Ремизов относился к этой теме, открывавшейся вместе с проникновением в поэтику и языковую структуру произведения Достоевского: «Однажды, в этот период, я забежал к Ремизову осведомиться – как и что? Стоял ясный и солнечный день, а в комнате были закрыты оконные ставни и горела электрическая лампа. Заметив удивление на моем лице, Ремизов пояснил: – Комнатенка крохотульная, махонькая, а работище огромная, места для нее недостаточно: выпирает в окно. Вот и приходится запирать наглухо ставни» [649]649
Анненков Ю.Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Т. 1. М., 1991. С. 226.
[Закрыть]. В печати появился лишь перевод рассказа, сделанный Ремизовым (в этой работе писателю помогал французский литератор и переводчик Ж. Чузевиль), а предисловие (вошедшее в «Огонь вещей» под названием «Потайная мысль») вместе с историко-литературным комментарием (так никогда и неопубликованным [650]650
Текст комментария сохранился в рукописи (Собрание Резниковых, Париж).
[Закрыть]) издательство, по свидетельству мемуариста, отвергло, сочтя его «не отвечающим требованиям французского читателя». Анненков, очевидно, был недалек от истины, когда предположил, что «ремизовское предисловие показалось издателям недостаточно академичным» [651]651
Анненков Ю.Дневник моих встреч. Т. 1. С. 226–227.
[Закрыть]. Бесспорно, такое исследование было противопоказано приверженцам хрестоматийного знания, поскольку основным поводом к созданию очерка вновь стало желание писателя раскрыть «неочевидные очевидности», обратить внимание на волшебный строй классической прозы Достоевского, восходящей к поэтике Гоголя.
Приступая к работе над очерком, посвященным «Скверному анекдоту», Ремизов спрашивал библиофила В. В. Бутчика – своего постоянного консультанта по истории русской литературы XIX века в письме от 16 ноября 1944 года: «…хотелось бы мне узнать историю этого рассказа. У Бэма нет ничего. Нет ли в „Литерат[урном] наследстве“ там, где о Достоевском. М. б., кто-нибудь писал специально? (я не встречал)» [652]652
Lettres d’Aleksej Remizov a Vladimir Butčik / Publ. d’H. Sinany-Mac Leod // Revue Des Études Slaves. 1981. Paris. LIII/2. P. 304.
[Закрыть]. Уже закончив статью, Ремизов написал своему корреспонденту: «Я вам очень благодарен за все указания. Поминаю о вас и в моих „Наблюдениях“ о Ск[верном] Анекдоте» [653]653
Ibid. P. 309.
[Закрыть]. Действительно, эссе начинается, как «принято» – с обзора критической литературы: «как возникло литературное произведение, и что о нем думали и думают». Однако тут же научный анализ обрывается весьма резким заключением: «Все это уже сказано и пересказано, – „обносившееся“, но я подхожу к Достоевскому и хочу всеми словами сказать: Достоевский так, общими мерками, неизобразим».
Писатель смело берется за разоблачение всего комплекса предвзятых суждений, касающихся художественного мира Достоевского. Он выдвигает контраргументы, ставящие под сомнение поверхностное мнение о Достоевском как о писателе, живописующем лишь мрачные стороны человеческой натуры: «О Достоевском пошла слава: „достоевщина“ – чад и мрак». Наиболее важным пунктом своего несогласия Ремизов объявляет общераспространенное убеждение в скупости и невыразительности художественных средств языка Достоевского: «И это тоже не правда. Достоевский ученик Гоголя, а стало быть, на слово – глаз». «Скверный анекдот» – единственный в своем роде фантастический рассказ Достоевского, написанный, как указывает Ремизов, по аналогии с одним из сказочных повествований «Тысячи и одной ночи». Автор предисловия находится под глубоким впечатлением от ирреальности повествования, представляя его как «обоюдный» сон двух героев – Пралинского и Пселдонимова и перемещая действие в сновидческую реальность. Происхождение этого загадочного рассказа Ремизов объясняет «каторжной памятью» его создателя: «„Скверным анекдотом“ Достоевский начинает свой путь туда» («Потайная мысль»). Судьба, поставившая Достоевского на Семеновском плаце перед лицом смерти, открывает будущему писателю «потайное» знание о запредельном, нездешнем мире, что, собственно, и объединяет Достоевского и Гоголя.
Помимо владения своим ремеслом, для литератора важен и такой источник творчества, как высокое эмоциональное переживание: у одних это то, что можно определить чувством – будто «схватило за сердце», у других – «веселостью духа». Собственный творческий импульс Ремизов черпал из двух стихий: «Моя душа, обжигаясь, плачет тяжелыми слезами. Огонь и влага. Я заметил, только в таком состоянии у меня возникает желание слова» [654]654
Ibid. P. 309.
[Закрыть]. Даже свои творческие состояния Ремизов определял в категориях сновидческой поэтики. Письмо к Н. В. Кодрянской, написанное им 21 августа 1949 года, явилось своего рода выражением творческого кредо, сформировавшегося благодаря темам Гоголя и Достоевского: «Думал, как судят о человеке. Как Мочульский о Гоголе и Достоевском. Трафареты, шаблоны-штампы, или по-русски, с набитого глаза. И Гоголь, и Достоевский выходят коротенькие. Мочульский доброжелательный, сердечный и очень образованный, но душевно бедный и силы его ограничены, и не „свое“, „загадочное“ он переводит на общепринятое. Но, бывает, и люди одаренные определяют необычное общим именем, чтобы отмахнуться и успокоиться. Биографии всегда похожи на биографов и оттого человеческий мир кажется таким бедным: весь-то он – на ладони унесешь и щуриться не надо, все отчетливо и ясно» [655]655
Кодрянская H.Ремизов в своих письмах. С. 141.
[Закрыть].
Углубляясь в историко-литературную работу и добиваясь стилистического совершенства, Ремизов постоянно чувствовал сопротивление языковой материи: «Продолжаю о Гоголе, – и учусь русскому – много не могу, глаза не берут» [656]656
Remizov A.Unpublished Letters to N. V. Reznikova and A. F. Ryazanovskaya P. 297.
[Закрыть], – писал он А. Ф. Рязановской 23 сентября 1949 года. Та же волнующая тема нашла отражение и в очерке «Живой воды»: «Подумайте, втискивать мои горячие слова в чужие формы…» [657]657
Некоторые из глав «Огня вещей» были переведены на французский и одобрены Ремизовым. К ним относится перевод главы «Сверкающая красота», сделанный Н. В. Резниковой и напечатанный в 1953 г. в журнале «La Parisienne». См.: Резникова Н. В.Огненная память. С. 125.
[Закрыть]Собственную характеристику меры вещей – «дело не в словах, а в словесном ладе» – Ремизов осознанно противопоставлял позиции тех многочисленных «оценщиков литературы» [658]658
Ср.: «Без мысли нет книги, но книги пишутся не мыслями, а словами и судятся критиками (литературными оценщиками)» ( Кодрянская Н.Ремизов в своих письмах. С. 84).
[Закрыть], для которых привычные представления о грамотности или безграмотности служили критерием восприятия художественного произведения, где «все правильно, ни одной грамматической ошибки и запятые на месте: на глаз серо-пего, пальцам вязко, уху – „щи“». Однако – «как распознать под такой причастно и деепричастной придаточной тянучкой природный лад живой русской речи: кратко и крепко?» [659]659
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 248.
[Закрыть]
Ремизов отчетливо понимал, что репрезентируемые образы свободнее и вариативнее, нежели тот язык, который фиксируется печатным словом. «Слово никогда не покроет мысли, а исподняя мысль не выйдет из-под спуда: я говорю одно, думаю другое, а под-думываю третье, но я и говорю так, а не по-другому, и думаю, как думаю, потому что „поддумывается“. <…> Простым глазом и этим ухом не добраться, надо углубить действительность до невероятного – до бредовой завесы» [660]660
Там же. С. 329.
[Закрыть]. Тема восхождения к «исподней мысли» позволяет указать на весьма значимое соответствие между ремизовскими герменевтическими практиками и взглядами на язык М. Хайдеггера. Немецкий философ также полагал зрение и слух, в и дение и слушание не противоположными друг другу элементами чувственного восприятия, рассматривая их в качестве интегрированного мыслительного опыта «вы-сматривания» и «вы-слушивания». «Мышление в хайдеггеровском понимании – это то, что способно слушая видеть и видеть слушая (Das Denken ist ein Er-hören, das erblickt). <…> Слушание и в и дение составляют собой мыслительный опыт, но сам мыслительный опыт не самодостаточен, он принадлежит языку, называющему вещи по определенным правилам, которые в то же самое время являются и правилами мышления, и правилами чувствования. Действительно, <…> как можно услышать „голос бытия“, который является беззвучным, погруженным в глубокое молчание? Мы услышим его, если сможем принадлежать языку, на котором говорит бытие сущего» [661]661
Подорога В. А.Erectio. Геология языка и философствование М. Хайдеггера // Философия Мартина Хайдеггера и современность. М., 1991. С. 111.
[Закрыть]. Параллель с Хайдеггером любопытна еще и потому, что именно язык всегда был для писателя тем самым «домом истины Бытия» [662]662
Хайдеггер М.Письмо о гуманизме // М. Хайдеггер. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993. С. 195.
[Закрыть], внутри которого только и может проявляться смысл человеческого существования.