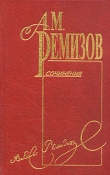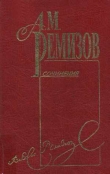Текст книги "Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя"
Автор книги: Елена Обатнина
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Согласно Гуссерлю, интерсубъективные миры возникают благодаря способности «трансцендентального Я» к конституированию «других» посредством чувственного восприятия (вчувствования), воображения и усмотрения сущности. Отчужденное бытие преобразуется в осознанную сферу индивидуального существования усилиями чистой, трансцендентальной субъективности, которая заполняет собой все сущее. Сведенные к «собственной сфере» «другие» уже только отчасти принадлежат внешнему миру и оказываются своего рода модификациями «Я». Перенос трансцендентального «Я» на «другого» (таким образом, что «чужое» становилось бы «своим») применяется к любым alter ego, при помощи которых появляется возможность взглянуть на себя не изнутри, а «как бы» снаружи.
Для Ремизова интерсубъективность возникала через буквальное «вчувствование» «другого»: «А я вам скажу, кто я. Я – нянька Анисья (Анисья Алексеевна) и я – горничная Аннушка (Анна Борисовна) и я же, – повар (Дементий Петрович). Загляните на кухню, <…> когда я за своей работой и без всякого тормошения и никто меня не дергает и в тишине: с двенадцати ночи и до трех или немного позже. Отрываясь от беспокойных сливающихся строчек, в раздумье, я вдруг замечаю (я как очнулся во сне, продолжая сновидение), что я не один: под кастрюлями горничная Аннушка с поджатыми губами, – я не решаюсь спросить, что ее сегодня так расстроило, какая забота? <…>…а вот и нянька Анисья, знаю, как ей трудно, а поднялась к плите, спасибо, это она осторожно ставит на стол к рукописи мой волшебный „фильтр“, – кофе, и отошла в угол, <…> где примостился спиной к ордюру, вижу „философ“ повар Дементий; набивает из окурочного табаку вытянутые, советским способом, использованные гильзы, спасибо, – я закуриваю его папиросу. <…> А иногда и без всякого вдруг, подпершись кулаками, мы совещаемся, как исхитриться, как будем жить завтрашний день…» [100]100
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 8. С. 195.
[Закрыть]. Рассказ о своих «превращениях» Ремизов завершал словами: «Но ведь это я говорю, – это мое, мои слова, мой голос, мой взгляд, моя сказка» [101]101
Там же. С. 196.
[Закрыть].
Потребность в адекватном познании первоначал бытия Ремизов передавал словами английского поэта и художника В. Блейка: «Если бы двери восприятий были очищены, всякая вещь, показалась бы людям такой, какая она есть – бесконечной» [102]102
Там же. С. 14.
[Закрыть]. В аналогичном смысле высказывался и Гуссерль, настаивая на «чистоте» человеческого самосознания: «Если я ставлю себя над всей этой жизнью и воздерживаюсь от какого-либо полагания бытия, прямо принимающего миркак сущий, если я направляю свой взгляд исключительно на саму эту жизнь как на осознание этогомира, то я обретаю себя самого как чистое egoс чистым потоком моих cogitationes» [103]103
Гуссерль Э.Картезианские размышления. СПб., 2001. С. 78.
[Закрыть]. Для очищения собственного опыта Ремизов использовал разнообразные гносеологические техники: медиативное представление, воображение, воспоминание, восхождение мысли к сути вещей, данных вне каких-либо временных или пространственных дефиниций. В одном из подобных экспериментов «трансцендентальное Я» писателя, конституирующее идеальный мир сущностей, соединяет образ умершего Поэта с локусами детства: «…однажды на Океане, в десятилетнюю память Блока. Моя напряженная мысль вызвала его, как живого, и вот мы опять встретились. У меня сказалось, что я должен быть один. И я увидел себя в том самом доме в Москве на Яузе у Полуярославского моста. В окне стоит луна и такая огромная, какой виделась мне в детстве, и белый свет широкой полосой от окна к печке. И в этой белой лунной полосе вдруг я увидел Блока. Как в жизни, улыбаясь, он протянул ко мне руку. <…> И от этого лунного света такая тишина, словно бы по всей Москве все вымерли, и один только я. И мне стало страшно. „Но ведь еще страшней ходить по земле чужим среди чужих!“ – подумал я» [104]104
Ремизов A. M.Собр. соч. Т. 8. С. 14.
[Закрыть].
В другом случае Ремизов представлял свое «Я», приобщенным, благодаря «остроте чувств и яркости видения», к поворотному пункту мировой истории: «…я был среди демонов в „воинстве“ Сатанаила в тот крестный час смерти Христа, в дни, не отличить от ночей, когда померкло солнце и звезды, это наши глаза звездами прорезали смятение тоскующей твари. Я провожал Петра, когда пропел петух и раскаяние выжгло мои слезы. Я с грозным архангелом стоял перед крестом, я не мог помириться, и за архангелом я требовал разрушить закон жизни – сойти с креста. И я стоял перед трепетавшей осиной, мое отчаяние глядело в закатившиеся глаза Иуды» [105]105
Там же. Т. 7. С. 428.
[Закрыть].
Для отдельных творческих натур пути в трансцендентное открывались посредством различных отклонений, подобно «каббалистически оккультным подпоркам» Новалиса и Нерваля, эпилепсии Достоевского, алкоголизму Э. По или Гофмана или же благодаря дару озарения, как у «крылатых» Белого и Блока: «Крылатые Андрей Белый и Блок, – говорил Ремизов, – а я с подрезанными на первый взгляд крыльями – где-то и чем-то мы соприкасались. Никогда не успокоенный я чувствовал себя земляным, а Блока и Белого – небесными детьми» [106]106
Кодрянская Н.Алексей Ремизов. Париж, [1959]. С. 128.
[Закрыть]. Для самого писателя («прежде всего „нормального“»: «здоровая кровь, крепкое сердце и легкие для певца» [107]107
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 354.
[Закрыть]) очищение сознания находило воплощение в открытии собственного трансцендентального «Я», – того одинокого, отрешенного от обычной жизни самосознания, которому дано видеть не просто лица других людей (способность бытового сознания) и даже не их образы (возможность художественного сознания), но прозревать саму сущность феноменального мира. Закономерно, что свою (по сути – феноменологическую) творческую практику Ремизов определял словами – «прикидываться» и «превращаться»: «наконец, <…> заглянул в себя и не без удивления открыл и в самом себе целый ряд превращений» [108]108
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 8. С. 190.
[Закрыть].
С раннего детства будущий писатель населял сферу существования «Я» совершенно особыми образами, почерпнутыми из книг и рисования, тогда как некая «объективно существующая» реальность оставалась для него за гранью сознания: «Спрятавшись от видимого мира – знать не очень-то мне показался! – погрузившись в мир книг, я продолжал рисовать» [109]109
Там же. С. 67.
[Закрыть]. Устойчивая самоизоляция была обусловлена прежде всего тем обстоятельством, что еще ребенком, не подозревавшим о своем плохом зрении и долгое время не пользовавшийся очками, Ремизов воспринимал окружающую действительность как внеположенное его собственному миру призрачное пространство: «Мой мир – совсем другой мир, это был осиянный, пронизанный звучащим светом и окрашенный звуками и мир, о котором знал только я. <…> И когда я надел очки, все переменилось: как по волшебству, я вдруг очнулся и уж совсем в другом мире» [110]110
Там же. С. 60–61.
[Закрыть].
Вынужденная объективация границы, отделявшей мир от «Я» [111]111
О творческом устремлении Ремизова к полному преодолению различий между объективным и субъективным мирами см.: Обатнина Е.А. М. Ремизов: жизнетворчество entre chien et loup // Канун. Вып. 5. Пограничное сознание. СПб., 1999. С. 397–425.
[Закрыть], которая пришла к будущему писателю с появлением очков, не только не разрушила, но даже повысила ценность собственного взгляда на внешние явления, заставила переключить внимание с воспринимаемых вещей на сам акт восприятия. Логически осмысленные и направленные на самое себя переживания соединились у Ремизова с «расположением к миру»: «У меня было именно такое чувство – расположение к миру, <…> – вот чего пожелаю людям. И непонятно, откуда это приходит на человека, не могу объяснить себе, как возможно, все видя, и мало того, все чувствуя, держать в своем сердце расположение ко всему…» [112]112
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 9. С. 120.
[Закрыть]В «Подстриженных глазах» подробный рассказ о мучительных фобиях всего «жизненного», которые были неизбывны до такой степени, что если даже самому пугливому существу на земле суждено перебояться, то «нас останется двое: мир – грозящий и я со своим страхом», сменялся утверждением: «а ведь я люблю и землю и цветы и деревья и море и грозу, я люблю музыку, люблю и джаз, люблю и цыганские песни, и мне больно перед болью и несчастьем человеческим и мне жалко зверей и я берегу вещи и я чувствую себя „человеком“ перед глубокой мыслью человеческой, перед поступком человека большого сердца, смелости и мужества» [113]113
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 8. С. 11.
[Закрыть].
Проблема самоидентификации как усмотрения сущности (по Гуссерлю, «egoсамо есть сущее для самого себя в непрерывной очевидности и, следовательно, непрерывно конституирующее себя в себе самом как сущее» [114]114
Гуссерль Э.Картезианские размышления. С. 145.
[Закрыть]) решалась для Ремизова посредством радикального отбрасывания предуготовленных социумом дефиниций, сведения «психологического Я» к «самоочевидностям», путем медленного и последовательного погружения в глубины «трансцендентального Я». В 1904 году, в один из узловых моментов своей жизни, он написал: «…и к „революционерам“ не подхожу, и к „полиции“ не подхожу, и к „Весам“ („декаденты“) не подхожу, и к „Правде“ („большевики“) не подхожу, еще остается Петербург, наперед скажу, и у Мережковских я не свой, да и они не по мне, вместе с Чуйковым и с их фальшивой „религией“» [115]115
На вечерней заре. Переписка А. Ремизова с С. Ремизовой-Довгелло // Europa Orientalis. 1987. VI. С. 239.
[Закрыть]. Потребность субъекта сначала «вынести за скобки» все наносное, идущее извне, все кем-то навязанное либо ошибочно воспринятое как «свое», а потом оставить внутри этих скобок только очевидную данность своего существования (вернее, несомненную данность существования человека во всем сомневающегося), – была вызвана не желанием замкнуться «в себе», а напротив, найти возможность понять внешний мир так же, как себя самого, и увидеть в другом, чужом и внешнем, – «свое» и «себя». Подобную рефлексивную практику, посредством которой «я в чистом виде» схватывает «себя как Я вместе с чистой жизнью собственного сознания, в которой и благодаря которой весь объективный мир есть для меня, и так, как он именно для меня» [116]116
Гуссерль Э.Картезианские размышления. С. 77.
[Закрыть], Гуссерль называл феноменологической редукцией (έποχή).
Описанная творческая методика была особенно продуктивна в отношении литературных текстов, которые писатель использовал в качестве материала для своей работы. Суть приема заключалась в том, чтобы «очищать» предмет исследования для созерцания идеального первообраза. Таинства собственной практики Ремизов приоткрыл во время работы над «Огнем вещей»: «У Достоевского – мысленная перевязь действий: в „Скверном анекдоте“ есть такая перевязь в несколько страниц, а по времени – полминуты. А чтобы выделить эти „мысли“, как принято выделять стихи, не попробовать ли напечатать без знаков препинания (что было бы и ближе к действительности, ведь непрерывность в ней без передышки – мысли думаются, передумываются и задумываются)?» [117]117
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 313.
[Закрыть]Действующий в сфере чистого воображения художник при помощи игры свободной фантазии измышлял ряд признаков заданного предмета, варьировал и изменял («вертел» и «перебрасывал» [118]118
Ср.: «Искусство – это значит распоряжаться: вертеть и перебрасывать» (Там же. С. 334).
[Закрыть]) его совершенно произвольно (на сторонний взгляд), добавлял к нему новые характеристики или лишал старых, в результате чего сам исходный предмет становился одной из возможных вариаций.
В повести «По карнизам» описан аналогичный процесс творческого осмысления «чужого» текста: «Потом на меня напало то, что бывает со мной, когда я много пишу. Мне пришла на память „программа“ из рассказа Шишкова, и я стал ее мысленно вертеть – как на бумаге, выписывая буквы только в воздухе, букву за буквой…» [119]119
Ремизов А. М.По карнизам. Белград, 1929. С. 58.
[Закрыть]Основная цель заключалась в том, чтобы уловить неизменность варьируемых признаков – то, что Гуссерль называл «свободной вариацией фантазии». Когда образ как бы перерастал самое себя, когда «сквозь конкретную индивидуальность образа» можно было увидеть «его целостную силу, остающуюся той же самой, хотя и скрывающуюся в тысячах форм», наступал момент репрезентации – отображения его идеальной сущности [120]120
См.: Кассирер Э.Философия символических форм: Феноменология познания. Т. 3. М.; СПб., 2002. С. 94.
[Закрыть].
Утверждение ремизовского интерсубъективизма происходило через развитие способности принимать на себя образ другого. Писатель был уверен в том, что именно так и создавались бессмертные произведения: «В каждом человеке, сознание не одного, а многих, живет не один образ и не одно подобие. Творчество, источник которого боль и тоска, „слеза Господня“, есть воссоздание этих образов и подобий, неладных друг с другом, спорящих и враждующих. Воссоздание же в художественном произведении не описание кого-то, а непрямая форма исповеди: пишут только о себе с себя – „всякий не может судить, как по себе“ (Достоевский). <…> Отбор литературного материала совершается не наугад, что под руку попало. И что это значит, что на чем-то остановилось мое внимание? Да это встреча и память о прошлом. То же и с воспоминанием из прочитанного: ведь лезет в голову что-то одно, определенное, а все другое, казалось бы не менее интересное, стерлось. <…> Самое недостоверное исповедь человека. Достоверно только „непрямое“ высказывание, где не может быть ни умолчаний по стыдливости, ни рисовки „подымай выше“. И самое достоверное в таком высказывании то, что неосознанно, что напархивает из ничего, без основания и беспричинно, а это то самое, что определяется словом „сочиняет“» [121]121
Ремизов A. M.Собр. соч. Т. 7. С. 154.
[Закрыть].
Изначальное тождество «своего» и «чужого» в творчестве писателя не сразу было понято и принято критикой. Показательно, что в самом начале творческого пути Ремизову пришлось даже отстаивать «профессиональное звание человека, реализующего свое ремесло» [122]122
Там же. Т. 8. С. 129.
[Закрыть]. Эффект разорвавшейся бомбы произвела газетная заметка, анонимный автор которой обвинил писателя в плагиате: «Позвольте через посредство „Биржевых ведомостей“ рассказать читающей публике, как г. Ремизов экспроприирует (другого выражения не подберешь!) свою славу. Из предлагаемых документов вы убедитесь, что г. Ремизов не писатель, а списыватель» [123]123
Миров М.Писатель или списыватель? // Биржевые ведомости. 1909. 16 июня. № 11160. С. 5–6.
[Закрыть]. Собственные принципы обращения с фольклорными источниками Ремизову пришлось объяснять в открытом письме в редакцию «Русских ведомостей»: «…При художественном пересказе, когда по сличении всех имеющихся налицо вариантов какой-нибудь народной сказки материалом является облюбованный, строго ограниченный текст, – все сводится к самой широкой амплификации, т. е. к развитию в избранном тексте подробностей или к дополнению к этому тексту, чтобы в конце концов дать сказку в ее возможно идеальном виде. Что и как прибавить или развить и в какой мере дословно сохранить облюбованный текст, – в этом вся хитрость и мастерство художника» [124]124
Ремизов А.Письмо в редакцию // Русские ведомости. 1909. 6 сентября. № 205. С. 5. См. также: Письма М. М. Пришвина к А. М. Ремизову / Вступ. статья, подг. текста и примеч. Е. Р. Обатниной // Русская литература. 1995. № 3. С. 204–209.
[Закрыть].
Ремизовская творческая практика отразила не только индивидуальные особенности его метода. Характерно, что в многочисленных откликах, вызванных скандалом на страницах прессы, литературное поведение Ремизова расценивалось как симптоматичная тенденция: «„модернисты“ сделали еще один крупный шаг в литературной технике…» [125]125
Новое время. 1909. 20 июня. № 11950. С. 3.
[Закрыть]. Объясняя свой метод, Ремизов использовал термин «амплификация», который в литературном обиходе подразумевает риторическую фигуру, обозначающую многословие, велеречие – расширение и повторение одного и того же смысла разными словами и оборотами, необходимыми для усиления воздействия речи на читателя. В письме издателю альманахов «Шиповник» Копельману 17 июня 1909 года он снова вынужден был защищаться от обвинений: «Я имел полное право пользоваться материалом Записок Императорского] Геогр[афического] Общ[ества]. Для этого материалы и существуют. Материалы записываются, и чем точнее запись, тем ценнее материалы – записыватель от себя вносить и поправлять не имеет права ни букв, ни полслова. Обрабатывать предоставляется каждому. Материалы – в данном случае сказок – представляют из себя открытое сокровище всего народа. Если я сумел обработать – я прав, если не сумел – я виновен» [126]126
ИРЛИ. Ф. 485. № 21. Л. 4.
[Закрыть]. Заметим, что если в начале XX века свободное отношение к генезису литературного образа еще квалифицировалось как нарушение литературной этики [127]127
См., напр., статью А. Хаханова «По поводу рассказа А. Ремизова „Страсти Пресвятыя Богородицы“ (Письмо в редакцию)» (Утро России. 1910. 17 апреля. № 125. С. 4), в которой писатель уличался в неточности указания на апокрифический источник. Рассказ был также опубликован в газете «Утро России» (1910. 16 апреля. № 124. С. 2).
[Закрыть], то спустя десятилетие разрыв «родовых» связей образа и источника превратится в своего рода «двигатель» литературного прогресса.
Зрелым опытом интерсубъективной «авторизации» можно назвать ремизовский перевод статьи французского исследователя П. Паскаля. На этот раз «приученная» писателем критика встретила труд писателя-«толкователя», хотя и не без известной доли иронии, но полностью признавая за ним право «быть самим собой». «…Вот перед нами „перевод“ статьи П. Паскаля „По следам протопопа Аввакума в СССР“, – писал Мих. Осоргин, – сделанный А. М. Ремизовым, его вычурным, но всегда блестящим русским языком („Русск. Зап“, июнь). Переводчик в послесловии сам сознается, что хотя он „ничего не навязывает, ничего не присочинил“, но „сковырнул два-три выражения на русский лад“, а как стал переписывать, „переписываю и вижу: пишу по-своему, отстать не могу“ <…> „тут уж сами собой и вавилоны и заковырка – под стать росчерку – и прет и гонит“, и вообще „без беллетристики не обошлось“. Из статьи П. Паскаля, написанной „по образцу и слогом журнальных статей“, получилась статья А. Ремизова, как бы его рассказ со слов французского ученого, однако, этим ученым подписанный. Раз автор согласился на такой пересказ, – о чем говорить! Рассказ очень, очень интересен, и он может войти в собрание сочинений Ремизова, – но никогда – в собрание сочинений исследователя жития Аввакума; не мог, все-таки Паскаль, хотя и отменно знающий русский язык, написать: „Протоптал себе дорожку, шито-крыто, околом и проломом, как лиса в курятник“, или „Раскрыл книгу, и как носом повел по странице, в глазах инда зарябило: Аввакум!“. – По прочтении рассказа, мы знаем, как Ремизов представляет себе хождение П. Паскаля по советским мукам в розысках Аввакума, – но мы совершенно не знаем, как происходило дело в действительности. Лица автора не видно, вместо него, из строк подмигивает его „переводчик“, точнее – его толкователь» [128]128
Осоргин М.Литературные размышления. 80. О переводах // Последние новости. 1939. 26 июня. № 6664. С. 2.
[Закрыть].
Проявление примет авторского характера, «лица» и даже голоса не только в героях, но и внутри самой художественной реальности, предопределило интерсубъективный характер ремизовской прозы. В «Огне вещей» художественный опыт классиков уже представлен в виде личного опыта самого автора. Переживание («вчувствование») образов и сюжетов из произведений Гоголя, Пушкина, Тургенева, Толстого и Достоевского преобразовывало факт обыкновенного чтения в факт личной биографии, пережитой и осмысленной: «Распаленными глазами я взглянул на мир – „все как будто умерло <…>“. За какое преступление выгнали меня на землю? Пожалел ли кого уж не за „шинель“ ли Акакия Акакиевича? за ясную панночку русалку? – или за то, что мое мятежное сердце не покорилось и живая душа захотела воли? Какой лысый черт или тот, хромой, голова на выдумки и озорство, позавидовал мне? А эти – все эти рожи, вымазанные сажей, черти, <…> все это хвостатое племя, рогатые копытчики и оплешники, обрадовались! Да, как собаку мужик выгоняет из хаты, так выгнали меня из пекла. Один – под звездами – белая звезда в алом шумном сиянии моя первая встреча» [129]129
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 135.
[Закрыть].
Творческое упоение было для Ремизова прекрасным сном, приводящим к истокам жизни. Только переживаемый лично восторг подобного самозабвения оправдывал такие субъективные бытовые сломы, которые Ремизов позволял себе в «Огне вещей»: «Трепетная горячая минута, не отвлекайте, не будите человека. А тут кричат над ухом, да ту же картошку надо варить, хорошо если есть, хуже, когда нет ничего». Неслучайно его возвращение на страницах «Огня вещей» и к принципиальному вопросу о праве художника на субъективность и полную независимость от запросов читателя: «Слова Писемского о судьбе Гоголя и вообще писателя [130]130
Имеется в виду статья «Сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти. Похождения Чичикова или Мертвые души. Часть Вторая» (1855). См.: Писемский А. Ф.Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. М., 1959. С. 523–546.
[Закрыть], которого и нынче тычут читателем, советуя писателю полюбить этого благосклонного читателя, что будто бы эта любовь и будет началом взаимного понимания и интереса» [131]131
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 150.
[Закрыть]. И вновь писатель с упорством повторял: «Мир – это только мое чувство и образ его по мне» [132]132
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 160.
[Закрыть]; «Пишется не для чего. Самое казалось бы намеренное приходит помимо воли. Пишется „как попало“. Так написались „Вечера“ и „Миргород“» [133]133
Там же. С. 161.
[Закрыть].
Наиболее целостным и последовательным отражением в образах конституированного мира «для себя» можно считать роман «Учитель музыки». Многочисленные авторские рефлексии, относящиеся к разнообразным проблемам человеческого существования, одновременно воплощаются здесь во всех вымышленных героях общего хронотопа повествования: «Прошу не путать никого с Александром Александровичем Корнетовым, ни из его знакомых и приятелей, это я сам. <…> Я – и Корнетов и Полетаев, и Балдахал-Тирбушон и Судок и Козлок и Куковников и Птицын и Петушков и Пытко-Пытковский и Курятников и, наконец, сам авантюристический африканский доктор. Все я и без меня никого нет. Да иначе и невозможно: писатель описывает только свой мир и ничей другой, и этот мир – его чувства и страсть. Или как выразился бы профессор математики Сушилов, тоже один из героев идиллии: „Корнетов и его знакомые – мои эманации расчленение моей личности на несколько отражений моего духа“. Что-нибудь внешнее, постороннее, что называется „не-я“, „другой“, для писателя только материал, если он чувствует в нем себя, он его примет – „заживет“ в нем. Так совершилось превращение Толстого в Наташу Ростову и Анну Каренину, в Катюшу Маслову; а Тургенева – в Лизу, в Ирину, в Елену; а Лескова – в Лизу Бахареву. И точнее следовало бы сказать не превращение, а переодевание <…>. Писатель подбирает матерьял по себе и через этот матерьял познает себя» [134]134
Там же. Т. 9. С. 437–438.
[Закрыть].
«Учитель музыки» несет в себе яркие художественные приметы того идеального мира, который создан творчеством «трансцендентального Я» – и понимание этого мира возможно только благодаря принципу интерсубъективности, выраженному в форме иронического парадокса: «каторжная идиллия». Один из центральных эпизодов «Учителя музыки» вновь возвращает нас к ситуации с анкетой «Для кого писать» и полемикой вокруг нее. Глава «Шиш еловый», первоначально опубликованная также в «Числах» (1933, № 9), оказывается не столько художественным разыгрыванием «в лицах» уже известной истории, сколько окончательным торжеством пансубъективизма. «Двойник» Ремизова – Полетаев, потеряв работу, вынужден был интервьюировать известных представителей литературного ремесла: «В журнале „Мысли“ есть такой вопрос: „для кого писать?“ – и есть ответ: один говорит – „надо писать для читателей, для всех, для большинства, для массы, и как можно проще и понятнее“, а другой говорит – „не для кого и не для чего, а для того самого, что пишется и не может быть не написано“» [135]135
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 298.
[Закрыть].
Среди опрашиваемых появляется и философ Лев Исаакович Шестов – старинный ремизовский друг, знаток Кьеркегора и Гуссерля. Как позднее признавался Ремизов, во всех его «„комедиях“ Шестов играл несомненно главную роль» [136]136
Там же. С. 433.
[Закрыть]. Не обойден в рассказе вниманием и М. Осоргин, упоминание о котором как главном оппоненте возникало без всяких отсылок к действительным фактам: «А как же насчет Михаила Андреевича: „для кого писать?“ – спросил я, ободренный чаем» [137]137
Там же. С. 302.
[Закрыть]. И Шестов, по праву человека, понимавшего с полуслова («рыбак рыбака видит издалека» [138]138
Там же. С. 433.
[Закрыть]), отвечал словами великих мыслителей: «А помните, что написал Ницше окончив „Menschliches Allzumenschliches“? <…>. – Mihi ipsi scripsi! <…>, „написал для самого себя“. <…> – Вспомнил <…> еще из Горация. – <…> „если хочешь заставить меня плакать, сам наперед испытай боль“» [139]139
Там же. С. 302–303.
[Закрыть].
Всячески травестируя положение обыкновенного человека в беседе с философом, Ремизов вкладывает в уста Полетаева любопытные признания: «…к еще большему моему смущению Шестов принял меня за Киркегарда и сказал мне самую французскую любезность <…>. Я поспешил его успокоить, что <…> я от Корнетова, его соседа и почитателя, и что сам я, Полетаев, стараюсь вникать в его книги и уже кончаю его полемику с Гуссерлем, А чтобы не сказать, чего невпопад, Гуссерля я не читал, я поскорее раскрыл „Мысли“…». Однако Ремизов все же намекает, что, хоть и «не читал» он Гуссерля, но с принципом феноменологической редукции хорошо знаком. В пассаже, касающемся Шестова и Бердяева, он наделяет философским знанием другое свое alter ego – Александра Александровича Корнетова: «Корнетов говорит, что если вывести за скобку показательные рэсепсионы Шестова и религиозно-философские заседания Бердяева, то никакого и противоречия не будет, а останется Шестов-Бердяев: книга».Совершенно полагающийся на мнение Корнетова, Полетаев приходит к единственно приемлемому для себя умозаключению: «Я так и сделаю <…>, – я буду читать их книги» [140]140
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 300.
[Закрыть].
Вывод Полетаева можно считать еще одним ответом «книжникам и фарисеям». По глубокому убеждению Ремизова, творчество писателя – не что иное, как единственно правдивое отражение его личности, вся сущность которой представлена во множественности отражающихся миров. В 1952 году он вновь повторит на страницах романа «Иверень»: «Я никогда не думал ни о пользе, ни о вреде моих книг и не задавался целью пользовать кого или вредить. Передо мной никогда не было „читателя“ – для меня удивительно слышать, как настоящие писатели говорят: „мой читатель“, или благоразумный совет редактора: „надо считаться с нашим читателем“. Сам я в рукописи читал свое, а напечатанное – никогда, и был самому себе беспощадный судья» [141]141
Там же. Т. 8. С. 268.
[Закрыть]. Личностное самоопределение Ремизова было обусловлено двумя интенциями: стремлением сохранить «Я» в неизменном виде и желанием в максимальной степени присвоить мир со всеми его духовными и культурными ценностями, наполнив их свойствами своего субъективного. На самом деле не столь уж и важно, «читал» Ремизов Гуссерля или «не читал». С уверенностью можно сказать одно: художественный мир русского писателя создан интерсубъективным сознанием, для которого «все я и без меня никого нет».