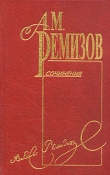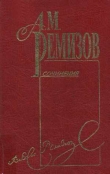Текст книги "Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя"
Автор книги: Елена Обатнина
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
У самого Ремизова (в пассаже из главки «Случай из Вия» – в «Учителе музыки») акцент ставился на прямой зависимости жизни от смерти: «…Вий – это сама завязь, исток и испод – живое сердце жизни, „темный корень“ жизни, земляная, неистовая, непобедимая сила, „вверху которой едва ли носится дух Божий“, слепая – потому что беспощадная, и глазастая – потому что безошибочная в выборе, обрекая на гибель, из ею же зачатого на земле среди самого косного и самого совершенного, не пощадившая однажды и самое совершеннейшее, Вий – а Достоевский скажет: Тарантул» [806]806
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 9. С. 411. Первоначально фрагмент входил в текст рассказа «Без начала» (Последние новости. 1935. 25 декабря. № 5389).
[Закрыть].
Впервые у Ремизова гоголевский персонаж приобретает символическую роль в «посолонной» сказке «Ночь у Вия», основанной на мотивах народных верований и преданий [807]807
Впервые: Русская мысль, 1909. № 4. С. 46–50. Под названием «Ночь у Вия».
[Закрыть]. С одной стороны, Вий возвращен здесь в исходный контекст мифа, а с другой – этот образ обретает самостоятельность собственной мифологической жизни, новую судьбу в рамках ремизовского сочинения. Герои сказки набредают в лесу на избушку: «…это терем старого Вия. – Вия! – голоса путников стали как струнки: пропадут, тут им живу не быть, – того самого Вия: подымите мне веки, ничего не вижу! – Того самого о железном пальце.Нынче Вий на покое <…>, Вий отдыхает: он немало народу-людей погубил своим глазом, а от стран-городов только пепел лежит. Накопит Вий сил, примется снова за дело. А Пузырьс клещами да с жалами помер» [808]808
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 2. Докука и балагурье. М., 2000. С. 129. Под названием «Летавица».
[Закрыть]. Очевидно, что образ Вия еще не наделяется здесь даже малой толикой того эротического значения, которое начнет звучать на страницах более поздних произведений писателя. Однако именно в избушке Вия один из героев рассказывает народное поверье о Летавице или «дикой бабе», которая является во сне или наяву молодым мужчинам златокудрою красавицею. Очаровывает она и женатых, так что они уходят от своих жен, и, пока летавица сама не оставит мужчину, никакая сила не вернет его жене. Летает с помощью сапог-скороходов, если же их снять, теряет сверхъестественную силу, послушно идет за человеком, укравшим ее сапоги, и верно ему служит. В традиции галицко-русского фольклора этот образ соединял в себе мотивы непререкаемой судьбы и губительной любви.
Для Ремизова первоначальная сущность бытия включала в себя жизнь и смерть в их нераздельном единстве; демонстрируя свой витальный, эротический характер, она одновременно указывала на Танатос. Столь подчеркнутое отождествление любви и смерти, безусловно, было обращено против розановского витализма, апеллирующего исключительно к продолжению рода, к жизни в ее нетленности и беспредельности. В «Огне вещей» герменевтический метод позволял писателю толковать отдельные сюжеты гоголевской прозы в соответствии с этими символическими представлениями. Здесь «панночка умерщвляющая» из «Вия», сгубившая простоватого философа Хому Брута своей любовью, ассоциируется с богиней – воительницей Астартой, олицетворяющей любовь и плодородие, преследующей своей страстью возлюбленного. Обе они мифологически осуществляют непререкаемый закон судьбы. Любовь и судьба в этой интерпретации тождественны, так как подразумевают неминуемость заключенных в них роковых предрешений, связанных со смертью. Когда философ Хома попытался «иссудьбиться», смертельный итог стал еще более очевиден: «дурак, от судьбы разве бегают!» [809]809
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 147.
[Закрыть]Судьба не оставляет человеку никакого выбора: «знак судьбы – паутина» [810]810
Там же. С. 162.
[Закрыть].
В очерке «Выхожу один я на дорогу» (1932–1953) Ремизов дополнил раздумья о сущности человеческого бытия новыми принципиальными выводами: «в подполье» – нет подполья, «трехмерная ограниченность» мира – искусственна и значима только для «тупых и ограниченных» людей, а паучья «тайна» – в возможности взорвать мировой порядок по своему, недоступному для человеческого понимания, произволу: «…в „подполье“ из зеленой слизи, плесени и сыри – из „духовной туманности“ открылся богатый мир, и с той же неожиданностью, как там откроется в вечности в этой единственной комнате – в то-светной закоптелой бане с пауками по углам. И что ведь оказывается, что какому-то там пауку – этой концентрации первострастей и сил всяких желаний, сока и круговорота жизни, – чтобы развесить и заплести свою паутину в „светло-голубом“ доме и наслаждаться жертвой, понадобился Эвклид, а самого по себе Эвклида в природе нет и не было, а наша ясная трехмерная ограниченность такая чепуха, какую сам по себе ни один чудак не выдумает; и еще оказывается, что пауки – эти демиурги, распоряжающиеся судьбами мира, по какому-то своему капризу – „разум служит страсти!“ – могут нарушить всякий житейский счет, „дважды два“ станет всем, только не „четыре“, а незыблемый и несокрушимый „четверной корень достаточного основания“, смотрите, одна труха, а незыблем и несокрушим лишь в „светло-голубом“ доме для тупиц и ограниченных – для всех этих творящих суд звериных харь…» [811]811
Цит. по печатной редакции 1953 г., опубликованной под названием «Розанов» (Новое русское слово. № 15198. 6 декабря). Ср. другую редакцию ( Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 10. С. 318–319). Ср. также: «Любовь не имеет границ. Любящие найдут друг друга. И самое главное в жизни любовь» ( Ремизов А.Из рабочей тетради 1920-х гг. / Подг. текста А. М. Грачевой и Е. Д. Резникова. Вступ. заметка и комм. А. М. Грачевой // Минувшее: Исторический альманах. 16. М.; СПб., 1994. С. 514).
[Закрыть]
В символической системе координат Ремизова философская интерпретация сущности бытия неизменно сопровождалась энтомологическими образами романов Достоевского – «подполье», «закоптелая баня с пауками», «насекомое», «тарантул»: «„Скверным анекдотом“ Достоевский начинает свой путь туда.Из дома Млекопитаева, этого паучиного гнезда, он поведет меня в баню к Свидригайлову („Преступление и наказание“, 1866): баня с пауками – это „вечность“. Из черной бани мы пойдем со свечой в чулан Ипполита („Идиот“, 1869) и там Достоевский покажет Тарантула: этот Тарантул – творец жизни и разрушитель твари. А как заключение, в „Карамазовых“ (1880) Иван вернет туда свой билет на право разыгрывать скверный анекдот или, просто говоря, на право быть на белом свете в этом Божьем мире: И у кого еще повернется язык повторять Divina comedia – так вот она какая „божественная“: этот на земле и там – вселенский скверный анекдот!» [812]812
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 325.
[Закрыть]
Еще в начале 1910-х годов выход в свет восьми томов Собрания сочинений Ремизова позволил критикам с очевидностью констатировать в его произведениях преемственность русской литературы: «…через прикосновенности к Достоевскому Ремизов и входит в общую схему эволюции русской философской художественной мысли, продолжает ее традиции, намеченные еще Пушкиным» [813]813
Долинин А.Обреченный (Сочинения Алексея Ремизова. 1–8 тт., издание «Шиповника») // Речь. 1912. 17 июня. № 163. С. 2.
[Закрыть]. Действие «захватывающей зависимости от идей и образов Достоевского» способствовало развитию оригинальной философии. И возможности приложения ее уже в дореволюционный период творчества Ремизова не ограничивались контурами социальной жизни человека, в ней угадывалось стремление к вопросам онтологического свойства: «…что делает Ремизова глубоко оригинальным, в высшей степени своеобразным, что определяет основной характер, манеру его творчества, окрашивая в своеобразный цвет и его философию – это ширь захвата, универсальность, или, вернее, космичность его точки зрения; то, что он всегда и постоянно ощущает, всю полноту трагического начала – во всем его целом, а не в отдельных его проявлениях – весь мир, вся тварь земная, является жертвой изначальной „страшной беды“, тяготеющей над жизнью…» [814]814
Там же.
[Закрыть]Мифическое имя этой «страшной беды», раскрывающейся практически во всех произведениях писателя, также заимствовано у Достоевского: «Темное, глухое – немые зеркала – глаза, покляпое пахмурое мурло – Тарантул. <…> В его скорпионьих лапах мера: законы природы. И нет для него ни высокого, ни святого, нет никому пощады: одна у всех доля» [815]815
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 340.
[Закрыть].
Такая философская позиция определенно приближает Ремизова к гностическому пониманию, где любовь – это и есть сама по себе смерть. Однако в трактовке писателя снята характерная для раннего христианства оппозиция духовное=бессмертное / телесное (половая любовь)=смертное: «И, одаренный разумом, узнает, что он смертен, и что причина смерти – любовь» [816]816
См.: Йонас Г.Гностицизм. СПб., 1998. С. 159. Фрагмент из гностического Евангелия от Евы.
[Закрыть]. Памятуя о родословной Асыки, нельзя не вспомнить слова Плутарха об Александре Великом: «Он говорил, что сон и плотская любовь более всего убеждают его в том, что он смертен: и страдания и наслаждения порождены только слабостью нашей природы» [817]817
Арриан.Поход Александра. СПб., 1993. С. 209.
[Закрыть]. Единственный смысл любви – заполнить краткий промежуток между рождением и смертью и тем самым оправдать «первородное проклятие время-смерть» [818]818
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 140.
[Закрыть], доказать «высшее и единственное: любовь человека к человеку». Такая философия допускает иронию по отношению к року: «В самом деле, не землей же мир Божий сошелся, и на нашу в чем-то согрешившую землю и тарантул-то пущен только для порядку» [819]819
Там же. С. 347.
[Закрыть].
Эрос – это и обычное тяготение людей друг к другу, те самые мельчайшие душевные «искры» человеческого общения, которые выражены на последних страницах «Огня вещей»: «А вот мне Коля и ежика несет. Ну, давайте откроем скорее клетку – мой ежик, моя надежда, моя мечта, мое очарование, моя любовь!» [820]820
Там же.
[Закрыть]Эрос одновременно оказывается и Логосом – творчеством, которое также обнаруживает свою эротическую природу: «…чарующий жгучий всплеск полной жизни, движимой подземной вийной силой» [821]821
Там же. С. 153.
[Закрыть]. Творчество как одно из проявлений Эроса есть непреложный закон бытия, заключающийся в неразрывной связи начала и конца, рождения и смерти.
В «Огне вещей» Бытие охарактеризовано сложными метафорами, поэтика которых восходит к древним космогоническим представлениям. Особый интерес вызывает определение «вийная сила слова». Мифологемы «Вий» и «слово» служат здесь для обозначения основных мирополагающих стихий. В то время как «слово» обладает властью объективировать все сущее, Вий персонифицирует ту внутренне противоречивую стихию, что несет в себе одновременно любовь и ненависть, жизнь и смерть. Объединением двух первоначал, мужского – «вийная сила слова» и женского – «мертвая душа мира» [822]822
Там же. С. 156.
[Закрыть], Ремизов описывает грандиозный процесс творения. Первоначальная характеристика образа Вия, уже известная по «Учителю музыки», в процессе работы над «Огнем вещей» приобретает новую редакцию: «Вий – это сама вьющаяся завязь, смоляной исток и испод, живое сердце жизни, темный корень жизни – „универсальный фалл“ – неистовая, непобедимая сила – вверху которой едва ли носится дух Божий – слепая – потому что беспощадная, и глазастая – потому что безошибочная в выборе, обрекая на гибель из ею же зачатого на земле среди самого совершенного, не пощадит и самое совершеннейшее. Вий – а Достоевский скажет Тарантул. Весь охваченный „Вием“ я вдруг увидел себя…» [823]823
Собрание Резниковых, Париж. Беловой автограф.
[Закрыть]Впрочем, этот фрагмент, достаточно прямо и откровенно трактующий вийную природу, так и остался в рукописи.
Слово (Логос) воплощает тот творческий принцип, благодаря которому создано все сущее, содержащий в себе непознаваемое таинство. Заключение имени и его значения в кавычки дает основание думать, что на ранней стадии работы литературный образ Вия использовался писателем скорее как вспомогательная метафора для выражения общей онтологической идеи. В окончательном тексте, уже избавленный от прямолинейной и очевидной конкретики, он осознается и репрезентируется как космогоническая мифологема: «Вий – сама вьющаяся завязь, смоляной исток и испод, живое черное сердце жизни, корень, неистовая прущая сила – вверх которой едва ли носится Дух Божий, слепая, потому что беспощадная, обрекая на гибель из ею же зачатого на земле равно и среди самого косного и самого совершенного не пощадит никого» [824]824
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 148.
[Закрыть].
«„Любовь“ – судьба» [825]825
Там же. С. 140.
[Закрыть]есть непреложный закон бытия, заключающийся в неразрывной связи начала и конца, рождения и смерти, проявление вездесущего Вия-Танатоса, который уравнивает всех людей в «любви-и-смерти» [826]826
Там же. С. 331.
[Закрыть]. Сон и творчество также сливаются в одно понятие, оказываясь лишь двумя сторонами единого и вечного бытия свободной человеческой души: «Наша живая реальность стена, отгораживает тот другой мир с загадочным, откуда появляется живая душа и куда уходит, оттрудив свой срок» [827]827
Там же. С. 163.
[Закрыть]. Подлинный смысл человеческой жизни состоит, по Ремизову, в том, чтобы освободиться от первородного проклятия « время-смерть»заполнив краткий промежуток между рождением и смертью творчеством, и доказать, что «высшее и единственное: любовь человека к человеку» [828]828
Там же. С. 140.
[Закрыть].
«Огонь вещей» – это и есть, собственно, не что иное, как любовь в ее человеческом воплощении и одновременно – онтологическая идея всепроникающего Эроса – Танатоса. Символы и образы ремизовской картины мира как «первожизни» [829]829
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 327.
[Закрыть]собираются в калейдоскопический орнамент из послереволюционных текстов и весьма прозрачно соотносятся с основными понятиями доплатоновской философии и гностицизмом. «Любовь – и – смерть», заключенная в понятии плодоносящей Первосущности (и, по своей сути, гераклитовская), восходит к пониманию Эроса как бытия, пограничные формы которого – рождение и умирание. Единым первоэлементом, сутью вещей, обобщающим символом ремизовской идеи Эроса является огонь: «пожар возникает из самой природы вещей, поджигателей не было и не будет». Символ пожара – «всепожирающее время». Понимание смысла стихийной огненной силы у Ремизова как нельзя более полно соответствует «беспредельной мощи» (потенции) «всяческого» в гностической модели мира [830]830
См.: Карсавин Л. П.Малые сочинения. С. 65–66; Йонас Г.Гностицизм С. 198–199.
[Закрыть].
Уже в свете «Огня вещей» становится понятным сакрально-эротический смысл и трех основных обезьяньих слов-символов – «ахру», «кукха» и «гошка», – вписанных Ремизовым в седьмой пункт «Конституции» «Обезвелволпала». Когда в начале 1920-х писатель оказался на «пограничье» в буквальном и переносном смыслах (между смертью и жизнью, между Россией и Западом, между прошлым и будущим), мучительная самоидентификация сопровождалась рождением оригинальной натурфилософской картины мира. Возможно, именно события русской революции обратили Ремизова к центральным первоэлементам ранней греческой философии и гностической космогонии, которые восходят к Гесиоду и орфикам и потому и называются Эросом, что именно он «устрояет мир, живой и неорганизованный», «устрояет вселенную и создает людей и богов» [831]831
Лосев А. Ф.Философия. Мифология. Культура. С. 191.
[Закрыть].
Семиотический анализ первобытных культур показывает, насколько осознанно сакральной являлась сексуальность как форма межчеловеческого общения, насколько осмысленным, живым и взаимосвязанным был архаичный сексуальный язык. Даже сама обезьяна, по народным поверьям, символизирует силу полового влечения [832]832
См.: Белова О. В.Славянский бестиарий: Словарь названий и символики. М., 2000. С. 190, 209.
[Закрыть]. Все «обезьяньи слова» сопряжены с космогоническим процессом рождения=смерти и поэтому несут в себе взаимодополняющий смысл. Табуированне эротического подтекста в «обезьяньем языке» соответствует словесной и буквенной магии, призванной, с одной стороны, подчинить называемое человеческой воле, с другой – защитить его от враждебного воздействия.
Одно из возможных решений проблемы происхождения этих трех слов подводит к индоевропейскому праязыку. Об интересе Ремизова к сравнительно-исторической этимологии свидетельствует автокомментарий к «Трагедии о Иуде…», объясняющий происхождение имени Иуда: «Юда – от корня und (лат.unda, болг.уда)» [833]833
Ремизов А.Трагедия о Иуде, принце Искариотском // Золотое руно. 1909. № 11–12. С. 29.
[Закрыть]. В частности, «ахру» близко по звучанию к индоевропейскому «ar», которое одновременно есть и мужчина, и огонь. Поставленное в обезьяньем лексиконе первым, слово «огонь» соотносится с единицей – символом творческого начала, силы и энергии. Индоевропейский корень, обозначающий единицу (oi-(d)-nos), дает возможность соотнести древнесеверное «upi» – огонь – с древнерусским «удъ» – в значении: пенис. В основании слова «кукха», вероятно, также лежат индоевропейские корни, где «kuk» – женский половой орган, a «gheu» – влага. Возможно, что и слово «гошку» восходит к древнеиндийскому «ghas» – есть, пожирать (в сочетании с «kuk») [834]834
См.: Маковский М. М.Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. М., 1996.
[Закрыть]. Таким образом, «обезьяний» язык – это не только универсальное мифологическое пространство, сохраняющее непреходящие ценности, но и форма инициации, то есть посвящения в смысл человеческого бытия.
Очевидный для писателя синкретизм первоэлементов, лежащих в основании мироздания, призван указать на тождество органически данной материи бытия (Эроса) и смысловой, творческой стороны жизни (Логоса). В системе символических координат ремизовской натурфилософии отсутствует антиномия духа и плоти, и огонь («ахру») отнюдь не противоположен влаге («кукхе»), как об этом пишет М. В. Козьменко: «…можно вообразить две оси ценностной системы Ремизова, на которых располагаются полярные между собой, но в равной степени близкие писателю имена – символы: кукха – Розанов – Фалес (влага, земля, плоть) и ахру – Блок – Гераклит (огонь, звезды, дух)» [835]835
Козьменко М. В.Удоноши и фаллофоры Алексея Ремизова // Эрос. Россия. Серебряный век. М., 1992. С. 247.
[Закрыть]. В свою очередь, нельзя принять буквально и мнение С. Н. Доценко, который в статье «Обезвелволпал как зеркало русской революции», объявляя Розанова одним «из „источников“» и одной «из „составных частей“ Обезвелволпала», предлагает воспринимать вполне определенные натурфилософские представления Ремизова о «кукхе=влаге» как основание для весьма своеобразного рецепта «чая». По мнению исследователя, напиток этот есть «синтез „вещей“», обозначаемых тремя обезьяньими словами: «огонь + влага (вода) + еда = чай» [836]836
См.: Доренко С.Обезвелволпал как зеркало русской революции // Europa Orientalis. 1997. XVI. S. 324.
[Закрыть]. Однако сакральный лексикон выводит ремизовскую игру из круга бытовых развлечений.
Архетипическая семантика обезьяньего языка задает параметры построения космогонического мифа, фиксирующего определенную картину мира и ее первоэлементы. «Огонь», «влага» и «еда» – устойчивые мифологемы, лежащие в основании мировой цивилизации; каждая в известной степени представляет собой эротически заряженный первоэлемент бытия. Огонь – космический символ жизни, движущая сила постоянного обновления мироздания: в огне мир рождается и разрушается. Согласно гностикам, огонь связан с размножением. В человеке – он источник всего сущего, первопричина творческого действия. Как мужское начало, огонь превращает горячую и красную кровь в сперму. Влага – еще один первоэлемент Вселенной; в антропоморфной модели универсума влагу заменяет кровь. Это женское начало олицетворяет собой сферу и атрибут всеобщего зачатия. Еда как мифологема также включает в себя представления о первоосновах бытия. Во время еды разыгрывается ритуал смерть-воскресение: в акте еды космос исчезает и появляется, итогом чего становится обращение к новой жизни, новому рождению и воскресению.
Мир и человек
Мифопоэтический дискурс ремизовского творчества проясняется во взаимодействии семантически близких понятий: любовь, страсть, смерть, мысль, время – действующих сил бытия. Обращаясь к лучшим образцам художественной классики, Ремизов стремился понять и представить как великий и вечный метафизический процесс повседневную человеческую жизнь. В центре творчества писателя находится человек («мера всех вещей»), с его силой и слабостями, который всегда был главной темой русской литературы. Суждения о сущем оказываются непосредственно жизненным переживанием космической и личной судьбы человека, его вселенского и индивидуального предназначения.
В главе «Аэр» из книги «Учитель музыки», рассказывая о ступенях самопознания, писатель обращается к теме «тайны природы» человека, грандиозному (в масштабе бытия одной личности) и мучительному процессу, который связывался, в представлениях Ремизова, с рождением – переходом его души из мира собственной трансцендентальности в чужое, окружающее пространство человеческой жизни. Постижение сущего мира опосредуется, предопределено такими первоначалами, как свет, вода, воздух, огонь: «дневной солнечный мир сам нашел меня и показал себя своей бесчувственной, безвоздушной слепой стихией – меру же и распределение я узнал потом через очки и уравновесил мой собачий слух» [837]837
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 9. С. 174.
[Закрыть]; «с тех пор я различаю воду и не глазами, а изнутри; потом уж я увидел ее и полюбил в Океане – прародине моей и всех жизней» [838]838
Там же.
[Закрыть]; «вскоре я узнал огонь… я узнал его глазами» [839]839
Там же. С. 174–175.
[Закрыть]; «так открылся мне воздух» [840]840
Там же. С. 177.
[Закрыть]. Чувственное столкновение с первоосновами мироздания в «Аэре» совершается благодаря анамнезису – радостному пробуждению прапамяти.
По собственному признанию, в своих смыслотворческих исканиях Ремизов ориентировался на натурфилософский дискурс ранних греческих философов: «Из философов огнем застряли в моей памяти Гераклит и Эмпедокл. Из семи мудрецов меня особенно поразил Фалес своей бездонной памятью, он помнил Океан – живой: водный и воздушный <…>. И, конечно, оставил память Пифагор числами и своей судьбой <…>. А по моему званию? – мне полагается где-нибудь приткнуться около Плотина» [841]841
Ремизов А.В розовом блеске. Нью-Йорк, 1952. С. 327.
[Закрыть]. Вместе с тем писатель даже и не пытался высказываться при помощи тех философских построений, язык категорий и определений которых не соответствовал его воображению: «Когда-то я изучал философию <…> и одолел речь философов, но сколько ни пытался философствовать, ничего не вышло: какая-то паутина с застрялыми мухами, так путался я в словах. И осталось только мое пристрастие к „философствованию“: люблю слушать, как Иван Александрович Ильин, самый блестящий из московских учеников Гегеля, разговаривает» [842]842
Там же.
[Закрыть]. «Философствование» Ремизова было абсолютно несовместимо с какой-либо «профессиональной» заумью, и в этом смысле он следовал известной традиции русской литературы, которая по преимуществу являлась своеобразной «философией жизни», выраженной в образах.
Не будучи «философом», писатель решал в «Огне вещей» проблему «онтологической экспликации» (выражение Х.-Г. Гадамера), – извлекая сновидения из хорошо известных сочинений русской литературы, интерпретируя художественные тексты как сны, сопровождая их оригинальными ассоциациями, даже примеряя на себя роль собственно сновидца, приглашая читателей внутрь замкнутого и самодостаточного мира культурной памяти. Сновидение – это «особая действительность (существенность) по-своему закономерная, со своей последовательностью, но вне дневной бодрственной логичности…» [843]843
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 253.
[Закрыть]. Творческая личность постигает метафизическую сущность бытия в художественном опыте: «Нет больше привычной „действительности“ (реальности), остались от нее одни клочки и оборки. И если взглянуть нашими будничными глазами, вся эта открывшаяся действительность невероятна и неправдоподобна, трудно отличить от сновидений. Но что чудно, оказывается, что чем действительность неправдоподобнее, тем она действительнее – „правдашнее“. И только в этой глубокой невероятной действительности еще возможно отыскать „причину“ человеческих действий. А если рассечь душу человеческую или потрясти ее до самых корней, взблестнет такая действительность, дух захватит, и страж жизни – человеческое сердце устоит ли? Это действительность экстаза, действительность эпилепсии, действительность радений и „бесноватых“. И что возможно, мне так чуется, эта непостижимая действительность и есть первожизнь всякой жизни» [844]844
Там же. С. 327.
[Закрыть].
Подобная картина мира вызывает прямые ассоциации с общими принципами античной, «наивной» ментальности, в которой все, с точки зрения современного человека, перевернуто с ног на голову. Подлинным древние мыслили небытие – потусторонний мир, постигаемый умозрением, а бытие считали его копией, подобием, чувственным образом, рождающимся в процессе подражания. Как у Плотина, видимые вещи предстают копиями «истинного всего» [845]845
См.: Лосев А. Ф.История античной эстетики: Итоги тысячелетнего развития. Кн. 2. М., 1994. С. 67.
[Закрыть], так и для Ремизова реалии так называемой «объективной» жизни сами по себе являлись лишь подобием подлинного бытия. В этой связи нельзя не отметить труды одного из ближайших друзей Ремизова – Льва Шестова. Практически каждая глава «Огня вещей» является своеобразной вариацией ответа на «основной вопрос философии» – в том виде, как он был сформулирован в книге Шестова «На весах Иова» (1929): «Не только чистые последователи Платона, но циники и стоики, я уже не говорю о Плотине, стремились вырваться из гипнотизирующей власти действительности, сонной действительности, со всеми ее идеями и истинами. <…> Древние, чтобы проснуться от жизни, шли к смерти. Новые, чтоб не просыпаться, бегут от смерти, стараясь даже не вспоминать о ней. Кто „практичней“? Те ли, которые приравнивают земную жизнь ко сну и ждут чуда пробуждения, или те, которые видят в смерти сон без сновидений, совершенный сон, и тешат себя „разумными“ и „естественными“ объяснениями?» Это – «основной вопрос философии – кто его обходит, тот обходит и самое философию» [846]846
Шестов Л.Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1993. С. 161.
[Закрыть].
В «Огне вещей» позиция Ремизова максимально сближается с исканиями и других философов-экзистенциалистов. Не случайно один из младших современников и близких друзей писателя считал, что «Ремизов целиком принадлежит к своеобразному направлению философии существования – экзистенциализму» [847]847
См.: Сосинский В.Домовой на рю Буало // Родина. 1991. № 8. С. 86.
[Закрыть]. Весьма показателен в этом плане сохранившийся черновик письма Ремизова к Камю (написанный, очевидно, в 1948 году): «Хочу попросить у вас „Nose“ [848]848
Роман Ж.-П. Сартра «Тошнота» (1938).
[Закрыть]. Я вас знаю по „Etranger“ [849]849
Повесть А. Камю «Посторонний» (1942).
[Закрыть]: Marsel Arland [850]850
Марсель Арлан (1899–1986) – французский писатель, главный редактор литературного журнала «La Nouvelle revue française».
[Закрыть]мне указал на вашу книгу, как на первую из современных. И был прав. С первых строк я почувствовал власть в ваших простых словах. Я русский, мысленно по-русскистал выговаривать фразы по-вашему.Это магия! И еще: ваш глаз. Я не забуду вашего человека с паршивой собакой, и какой плыв темной тоски на его вдруг бесцельную жизнь – тут втиск в самую глубь и гущу жизни [851]851
Подразумевается один из персонажей повести «Посторонний» – старик Соломоно. См.: Камю А.Избранное. М., 1969. С. 67–68; 75–76.
[Закрыть]. Буду вам очень благодарен за вашу новую книгу [852]852
Возможно, подразумевается второе, дополненное издание философского трактата «Миф о Сизифе» (1948).
[Закрыть]. Я вам очень благодарен за книгу [853]853
Очевидно, речь идет о романе А. Камю «Чума» (1947).
[Закрыть]. Я почти слепой и читаю медленно. Мне очень интересны мнения о природе снов. Я думаю, что сны, как и первые измерения нашего голоса, неуловимы и природа их останется тайной. Чтение продолжаю. Спасибо. Будете в Париже, загляните: после 12-и [полудн]я – никуда. А.Р.» [854]854
Amherst Center for Russian Culture, USA. The A. Remizov and S. Dovgello-Remizova Papers.
[Закрыть]. Одна из тем письма – «природа снов» – не случайна: мысли писателя о призрачности и сонности реальной жизни и «пробуждениях» в смерть прямо соотносятся как с воззрениями Л. Шестова, так и с рассуждениями его французского ученика [855]855
Ср.: «Они до такой степени передали себя в руки чумы, что подчас, случалось, надеялись только на даруемый ею сон и ловили себя на мысли: „Пусть бубоны, только бы все кончилось“. Но они уже и так спали, и весь этот долгий этап был фактически долгим сном. Город был заселен полупроснувшимися сонями, которым удавалось вырваться из пут судьбы лишь изредка, когда их с виду затянувшиеся раны вдруг открывались» ( Камю А.Избранное. С. 279). Ср. также фрагмент из трактата «Миф о Сизифе»: «Возврат к отчетливому сознанию, бегство от повседневного сна являются первоначальными посылками абсурдной свободы» ( Камю А.Творчество и свобода. М., 1990. С. 67).
[Закрыть].
Интуитивно угаданный Ремизовым в «Огне вещей» метод художественного познания сути вещей явственно указывает на древнюю тему мимесиса. В античной традиции мимесис имел, в первую очередь, познавательное значение. Если Платон считал его абсолютным совпадением подражаемой идеи и подражающей материи, то Аристотель рассматривал подражание как процесс становления первообраза в образной действительности (по мнению Аристотеля, «чтобы получилось подражание и удовольствие от подражания», «необходимо должен наличествовать некий прообраз» [856]856
Лосев А. Ф.Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 722.
[Закрыть]). Наконец, у Плотина мимесис – это универсальный принцип организации космоса, а также его отдельных, самостоятельно существующих иерархий. В целом древнегреческая философия, выдвигая на первый план телесный, «утилитарно-прагматический» аспект, трактовала мимесис как всеобщую моделирующую систему для всех вещей, образующих мир, а человека наделяла способностью узнавать некую первосущность, получать от этого удовольствие и творить новую символически предметную структуру, подобную той, которая существует в идеальном бытии [857]857
Подробнее о мимесисе см.: Лосев А. Ф.История античной эстетики: Итоги тысячелетнего развития. Кн. 2. С. 56–75.
[Закрыть].
Хотя этот термин обычно и переводится как «подражание», однако его значение вовсе не сводится к буквальному натуралистическому или реалистическому повторению. «Μίμησις значит подражание, потом воспроизведение путем подражательным, воспроизведение, источником которого есть подражание,потому оно вполне отвечает нашему слову творчество… <…>Аристотель ясно говорит <…>, что искусство началось с рабского подражания, но с течением времени, с успехами цивилизации оно стало свободнее располагать своим материалом. Стало быть, человек в колыбели своей был подражателем, в исторической жизни стал художником» [858]858
Захаров В. И.Поэтика Аристотеля. Варшава, 1885. С. 103–104.
[Закрыть]. Действительно, с древности и по настоящее время существуют два противоположных типа мимесиса: с одной стороны, окружающая человека действительность заполняется копиями, лишь формально повторяющими оригинал – будь то «живая жизнь» либо совершенное произведение искусства; с другой – рождаются художественные произведения, объясняющие человеку его собственное положение в мире. Копиисты воспроизводят чужое творчество, ограничиваясь буквальным повтором, – оттого их произведения лишены тайны, а содержание однолинейно и плоско. «Трафарет всегда бесплоден», – так Ремизов высказывался об «имитаторах» Гоголя [859]859
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 149.
[Закрыть]. Это не только иллюзия иллюзий, как определял искусство Платон, а иллюзия в кубе, отдаленная от истинной реальности пространством непроницаемого сна. Подлинное творчество исходит из осмысленных сновидений, при этом «не имеет значения, выдуманные они или приснившиеся, лишь бы имели сонное правдоподобие – „смысл“ второй реальности, когда „существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосонья“» [860]860
Там же. С. 252.
[Закрыть].
Для Ремизова творческая деятельность подобна способности воспринимать реальность «как ряд сновидений с пробуждениями во сне» [861]861
Там же. С. 152.
[Закрыть]. В сновиденном континууме художник обретает понимание внутренних законов бытия, именно здесь ему открывается «огонь вещей» всего мирозданья: «От загадочных явлений жизни близко к явлениям сна, в которых часто раскрывается духовный мир. А язык духовного мира не вещи сами по себе, а знаки, какие являют собою вещи» [862]862
Там же. С. 285.
[Закрыть]. Чтобы приблизиться к постижению подлинной природы вещей, необходимо растолковать «знаки», которые содержит реальность сновидения, различить внутри нее элементы сознания, имеющие устойчивую связь с прошлым. Сны подобны монадам, отражающим глубинные и самодостаточные основания бытия в эстетической целостности, и свою тайну они открывают лишь путем целого ряда последовательных метаморфоз: «всякое творчество воспроизводит память; память раскрывается во сне» [863]863
Там же. С. 157.
[Закрыть]. Но одной памяти для толкования сновидений, для воссоздания «этих образов и подобий, неладных друг с другом, спорящих и враждующих» [864]864
Там же. С. 154.
[Закрыть], явно недостаточно, поскольку индивидуальная память «выбирает вовсе не характерное», а лишь «доступное для подражания» [865]865
Там же. С. 149.
[Закрыть], имитируя и копируя. «Источник выдумки, как и всякого мифотворчества, исходит не из житейской ограниченной памяти, а из большой памяти человеческого духа, а выявление этой памяти – сны или вообще небодрственные состояния, одержимость» [866]866
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 152.
[Закрыть].
«Большая память» непременно должна соединиться с индивидуальным творческим воображением. По свидетельству одного из исследователей античности, это требование восходит к Плотину, который «останавливается <…> на мысли, что память и воспоминание виденного чувством принадлежат особой силе, способной представлять или воображать. <…> Мы видим здесь попытку связать воспоминание с воображением, и, если бы наш философ тщательнее разобрал этот пункт, мы, несомненно, не имели бы случая встречаться в последующей истории психологии со многими странными теориями» [867]867
Владиславлев М.Философия Плотина, основателя новоплатоновской школы. СПб., 1868. С. 178–179.
[Закрыть]. Аналогичные рассуждения встречаются и у Ремизова: «Воображение – творчество мысли. Есть, стало быть, мысль цветущая и есть одни листья. Чувство, только чувство возбуждает мысль. Мысль может быть и без чувства, как слово без образа. Но основа мышления – чувство, можно себе представить ощипанного – без мышления, но живое без чувства не существует. Воображение – игра мыслей. А источник – вдохновение, наитие» [868]868
Кодрянская Н.Алексей Ремизов. С. 136.
[Закрыть].
Снотворчество в таком толковании выступает как уникальная форма мимесиса, наиболее приближенная к метафизической, духовной реальности. Отображение сновидения в литературном тексте становится не просто копирующим повторением абстрактной фантазии, но возможностью познания средствами искусства самой сущности бытия: «Сделайте опыт, прочитайте „Вечера“ Гоголя, рассказ за рассказом, не растягивая на долгий срок, и я по опыту знаю, что и самому „бессонному“ приснится сон. А это значит, что слово вышло из большой глуби, а накалено на таком пламени, что и самую слоновую кожу прожжет, и, как воск, растопит кость» [869]869
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 268.
[Закрыть].