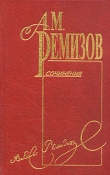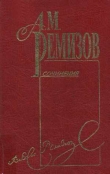Текст книги "Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя"
Автор книги: Елена Обатнина
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Восхождение на Голгофу
Тема «Огневицы» получает новое решение в поэме «Золотое подорожие. Электрумовые пластинки», появившейся в печати в мае 1918 года, когда страна бесповоротно утвердилась в своих новых политических и общественных формах. В метафизическом плане «Золотое подорожие» представляет собой описание мистериального действа, связанного с постижением момента перехода от жизни к смерти. Это произведение, не вошедшее нив одну из библиографий писателя, обнаружилось благодаря короткому письму Д. В. Философова, которое было написано 17 (по новому стилю – 30-го) апреля 1918 года на бланке газеты «Речь». Отправитель обращался к Ремизову с обычной для редактора периодического издания короткой просьбой: «Дорогой Алексей Михайлович. Вручите подателю сего рукопись для пасхального номера. Душевно Ваш Д. Философов» [179]179
Переписка A. M. Ремизова и Д. В. Философом / Публ. Е. Р. Обатниной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2002 год. СПб. 2006 С. 411.
[Закрыть]. Упомянутой в письме «рукописью» оказалась поэма, публикация которой состоялась в пасхальном номере газеты «Наш век» от 21 апреля (по новому стилю – 4 мая) 1918 года [180]180
В этом же номере газеты (правопреемницы «Речи» – печатного органа партии кадетов – официально закрытой новыми властями 26 октября 1917 г.) были помешены произведения Д. Мережковского («14 декабря»), А. Карташева («Пасха крестная»), Ф. Зелинского «Царица вьюг (Аттическая сказка)», А. Ахматовой (стихотворение «Ты всегда таинственный и новый…»), Н. Лернера («Новооткрытые стихи Пушкина – окончание „Юдифи“») и др.
[Закрыть].
ЗОЛОТОЕ ПОДОРОЖИЕ
Электрумовые пластинки
В гроб мой возьму тебя, золотое мое подорожие.
В теми ночи и дня сохраню ледяное на холодном лбу
моем.
Будешь ты тоске и скорби моей надеждою.
Утолишь ты жажду мою и жар из источника ключевой
воды.
Измаян, измучен, как исколот, хожу.
* * *
С горечью и омерзением вся душа моя отвращается от дней и ночей, судьбой мне положенных на горькой земле.
Или изверился человек в дух свой, или недоростком родился ты, слепой и приплюснутый?
Все раздвоено: и лицо и дух.
Страх за сегодняшний день.
Забвение будущего.
Презрение к прошлому.
Вижу души бессильные, трусливые. Постылое время тянется. И никаким панцирем не оборонишься: пуля и нож – хозяева. Чего ты знаешь, чего ты смыслишь? А рожа сияет: все знаю, все смыслю. Стыдно перед зверем, птицей, перед травой и камнем, неловко говорить: человек я! Опозорены все большие слова. Остается хрюкать и тонко и толсто – это вернее.
Вижу измученного тебя и изголодавшегося. Затеял довольную сытую жизнь сотворить на земле, хочешь, бессчастный, счастья на горькой земле! И первое дело твое – невысоко стоял ты на лестнице – еще ниже ступенью спустился и оценил человека презренною мерой.
Быть золотарем, трястись на бочке: в одной руке вожжи, в другой – кусок хлеба, – и больше ничего не надо!
И не надо!
Господи как сузился мир Твой!
Как приплюснуты висят небеса без звезд!
Страх за сегодняшний день.
Забвение будущего.
Презрение к прошлому.
Только ты и мог, несчастный мой брат, благословить крутящийся самум над родною несчастной равниной, бесплодный и иссушающий.
Нет в нем семян жизни: не от силы возник он, – от страха, от бессилия, от иссушенности пустынной, голодной души. Нет в нем и огня попаляющего, всеочистительного, а лишь смрадная пыль верблюжьего помета, да след человечьего тления.
И в этом вихре за что-то судьбой назначено терпеть мне.
На твоей Голгофе – не одна, есть разные Голгофы! – на твоем кресте только истребляют.
* * *
На кручу по кремнистой тропе взбираюсь —
Глазам моим больно и колет – слишком всматривался я в лица людей, слишком долго испытывал людей.
Голос увял мой от сдавленных жалоб и зажатых проклятий.
Сердце мое обожжено.
На кручу по кремнистой тропе взбираюсь —
Тучи несутся под ветром по холодному небу. И, как пеленутый дым, лица ползут.
Ухожу все дальше – не вижу, не слышу.
Ступаю по шлакам острым – не чую – приближаюсь к самому краю.
Вот я на самой вершине и под моей стопой закованный клокочет огонь.
Духу легче, душа высыхает и прояснился мой разум.
Звезды горят.
* * *
П. Б.
– Вождь мой! Я душа человечья, укажи мне источник.
Я жажду!
Металлическим звуком – щелканье стали о камень – зазвенел путеводный голос.
– Ты найдешь налево от дома Аида источник, близ же него белый стоит кипарис. К источнику этому даже близко не подходи. А вот и другой, он возле болот Мнемосины. С шумом течет ледяная вода, окруженная стражами. Ты им скажи: «Я дитя земли и звездных небес, род мой оттуда, как вам это известно. Жажду и гибну. Дайте напиться воды ключевой из болот Мнемосины!». Стражи дадут тебе пить из источника света, и станешь тогда ты царствовать с мудрыми вместе.
И моя душа ступила в светлый круг.
– К вам я пришла от чистых рожденная чистая духом, к вам, о Царица подземных, Аид, Дионис, добрый советчик, ко всем вам, бессмертные боги. Сбросивши тело земное, поистине я из вашего рода благословенных богов. И лишь в одеянии плоти меня победила судьба и земные бессмертные боги. Все же ушла я из тела, из бесконечного скорбного круга, легкой стопой я помчалась за вечно желанным венком.
И в ответ душе я слышу возглас подземных бессмертных.
Радуйся, будь благословенна, скорбная, отстрадавшая душа. Отныне отбыла ты срок наказания. Из смертного мятущегося человека стала ты сама богом. Ты томишься от жажды, как козленок, упавший в молоко.
– Радуйся ныне.
– Радость твоя беспредельна.
Поэма Алексея Ремизова является ярким примером выражения интерсубъективной авторской позиции, экспансивно распространяющей свое «Я» на окружающее, понимаемое в самом расширительном смысле, от личной жизни до древнегреческих текстов. Вводное пятистишие «Золотого подорожия», отделенное от последующей части астерисками, играет роль пролога, связывающего мистический смысл, положенный в содержание всей поэмы, с глубоко личными рефлексиями. Субъектом повествования выступает здесь особая редукция «самости» – мета-«Я», обладающее неземным, провиденциальным знанием, существующее вне жизни и смерти – в том особом пространстве, в котором главным образом и разворачивается повествование [181]181
В соответствии с известной философской традицией, которая берет свое начало в древней Индии, человеческое «Я» – это не душа и не тело, а некая первичная целостность, называемая «самостью», которая выступает источником интуитивного (мистического) познания: «Об этой последней глубине трудно что-либо сказать, кроме того, что это – я сам, человек „в себе“, самость. Самость есть последняя и высшая седьмая мистическая ступень в существе человека. <…> Самость метафизична и метапсихична, во всех смыслах есть некоторое „мета“, последний трансцензус. Только Откровение и мистическая интуиция указывают на эту предельную глубину» ( Вышеславцев Б. П.Вечное в русской философии // Б. П. Вышеславцев. Этика преображенного Эроса. М., 1994. С. 285).
[Закрыть]. Несколькими годами позже Ремизов в дарственной надписи на книге «О судьбе огненной. Предание от Гераклита Эфесского» (Пг., 1918) объяснял радикальное изменение своей творческой позиции следующим образом: «…слово Гераклита/В марте 1918 г[ода] писалось оно. <…> / Это „слово“ после моих „слов“ (о погибели рус[ской] земли / русскому народу / – новая ступень. Глаз на происходящее над происходящим /а не изнутри(курсив мой. – Е.О.), как те „Слова“ мои» [182]182
ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. № 81.
[Закрыть].
Уникальность «Золотого подорожия» состоит в особой двойственности «обозрения»: авторский взгляд направляется одновременно извне и изнутри, что подтверждается завершающей строкой пролога, которая указывает на самые обычные, живые, человеческие страдания. Во второй части поэмы обнаруживается раздвоенность субъекта повествования (самосознания) – между «сверхсознанием», бесстрастно оценивающим земную реальность, и «измаявшимся», «измученным», «исколотым» человеком. Надмирный голос, звучащий как будто сверху вниз, и голос потерявшего всякую надежду земного человека, который взывает к «приплюснутым» небесам без звезд, вступают в диалог на границе двух строф. Один из них оглашает свой вердикт: «…и больше ничего не надо!», другой подхватывает: «И не надо!» Здесь же возникает еще одна самоидентификация «Я» – «душа» («Вся душа моя отвращается…»). Вышедшая за пределы земного бытия, эта эманация «самости» все еще связана с миром, однако она уже может различать и эфемерное – собственные души живых людей («Вижу души…», «Вижу измученного тебя…»).
Описанное здесь состояние соотносится с эмоциональным переживанием революционных событий, зафиксированным в Дневнике: «Началось это 23-го, и только сейчас могу записать кое-что, потому что был в чрезвычайном волнении. Ответственность, которую взял на себя народ, и на мне легла она тысячепудовая. Что будет дальше, сумеют ли устроиться <…> столько дум, столько тревог за Россию. Душа выходит из тела(курсив мой. – Е.О.), такое напряжение всех чувств моих» (Д.: 423–424) [183]183
Здесь и далее ссылки на произведения революционных лет приводятся в тексте по собр. соч. Ремизова (Т. 5. М., 2000); их названия даны в сокращениях: «Огневица» – О.; «Слово о погибели…» – С.; «Заповедное слово…» – 3.; Дневник – Д., с указанием страниц.
[Закрыть]. С этого момента Дневник писателя буквально пульсирует тревожными мыслями о гибели России. Конец февраля 1917-го – «…все минуты одна дума: о России, сумеет ли устроиться? Ведь народ темен. Бродят. Куда добредут?» (Д.: 426), 4 марта «Вся ночь прошла о судьбе России. Атеистично-безбожно. Голоса не слышу ни с сердцем, ни с душою. <…> И опять тревога о России. Головы пустые, а таких много, чего сварганят?» (Д.: 428). Страх перед неотвратимой судьбой родины тесно переплетается в подневных записях с ощущением неизбежности личного трагического финала [184]184
Ср.: «Понятие экзистенциального существования в том виде, в каком оно лежит в основе экзистенциальной философии, представляет собой мыслительное выражение совершенно определенного решающего переживания в человеке, которое выделяется из всех моментов неопределенности и нерешительности остальной жизни характером неоспоримой окончательной отрешенности» ( Больнов О. Ф.Философия экзистенциализма. СПб., 1999. С. 28).
[Закрыть].
В эти месяцы собственное пограничное состояние между жизнью и смертью Ремизов воспринимал все более фатально. 10 марта «Госпожа великая Россия. Надо ко всему быть готову. А главное к смерти. Я словно умер. И вот теперь начинаю новую жизнь» (Д.: 431); 27 марта – «О, Господи, какая у меня тревога. Лег и лежал с открытыми глазами» (Д.: 433); 8 апреля – «Нет таких могил, ч[то]б живых клали, а то бы лег» (Д.: 434); 21 апреля – «Россия гибнет оттого, что не держит слова» (Д.: там же); 3 сентября – «Теперь стало ясно: Россия погибнет. Она должна искупить грехи свои. И я принимаю эту кару со всем народом русским. Два выхода: или умереть или принять. На первое я не смею ради долга моего. И я принимаю кару» (Д.: 475); 10/11 сентября – «России нет. Россия уходит, как Китеж» (Д.: 478); 25 января / 12 февраля 1918 года – «Судьба наша без судьбы. (Случайность, убьют, конец)» (Д.: 490).
Свидетельствуя непоправимую катастрофу, писатель нераздельно связывает индивидуальное «Я» с Россией. Пик напряжения всех эмоциональных сил совпадает с периодом создания «Слова о погибели…» (сентябрь октябрь 1917 года). На тот момент ему кажется, будто бы «земля ушла, отодвинулась» и он совершает полет «в беспредельности» (С.: 410). Мироощущение достигает необычайного охвата, становясь всеобъемлющим и панорамным, с одинаковой силой способным одновременно воспринимать историю России во всем ее многовековом развитии и осмысливать данный исторический момент, пропускать все это через сознание и сердце. Именно в «Слове о погибели…» впервые осознанно объективируется мысль, позднее развернутая в «Золотом подорожии»: «Отказаться от жизни осязаемой, пуститься в мир воздушный, кто это может?» (С.: 410).
Если сравнить некоторые тексты, созданные в 1917–1918 годах, с «Золотым подорожием», нетрудно заметить разность регистров авторского мировосприятия. Оба знаменитых «Слова…» Ремизова полны горестной мольбы и укоризны, обращенной к Руси и русскому народу. В «Заповедном слове…» даже есть еще место призыву: «Подымись, стань моя Русь <…> встав, подыми ярмо свое и иди» (З.: 420). «Золотое подорожие», написанное практически одновременно с «Заповедным словом…» [185]185
Впервые «Заповедное слово Русскому народу» было опубликовано в литературном приложении «Россия в слове» к еженедельнику «Воля народа» (1918. 12 апреля. № 1. С. 17–20).
[Закрыть], исполнено неодолимого презрения к народу, «изверившемуся в дух свой». Обвинения обращены непосредственно к современности и в известном смысле продолжают темы, затронутые в предшествующих произведениях и Дневнике. Это – мотивы измученной души: …душа моя отвращается от дней и ночей/ «Душа изъедена, дух погашен. И нет, не вижу искупления» (Д.: 470), «Душа моя запечатана» (Д.: 487), «замкнутая слепая душа» (С.: 408), «у России душу вынули» (О.: 160); человеческой вражды: И никаким панцирем не оборонишься: пуля и нож – хозяева/ «Да уж худшего, что есть, едва ли и было когда. Реки крови льются; убийства, насилия, грабежи, тюрьма, каторга, все есть, все, все» (Д.: 468), «свист несносных пуль, обеспощадивших сердце мира всего» (С.: 405), «Правый сосед режет справа, левый слева» (З.: 417); бессмысленности жизни: страх за сегодняшний день/ «Что мне нужно? – не знаю. Ничего мне не надо. И жить незачем» (С.: 408), «И как тут жить и чем дышать?» (З.: 415), Опозорены все большие слова/ «Все ценности не переоценены, а подменены» (Д.: 475); обнищания духовной веры русского человека: Или изверился человек в дух свой…/ «духа нет у меня» (С.: 406), «Остались одни грешные люди» (З.: 419); человеческих иллюзий: Затеял довольную сытую жизнь сотворить на земле/ «Россия, хочешь осчастливить Европу, хочешь поднять бурю и смести и на западе всякие вехи старой жизни» (Д.: 489), «Человекоборцы безбожные, на земле мечтающие создать рай земной» (С.: 405); остановки или замедления хода времени: Постылое время тянется /«жизнь наша тянется через силу» (С.: 408). На фоне подавляющего большинства ремизовских произведений 1917–1918 годов, характеризующихся относительной однородностью смысловых коннотаций, «Золотое подорожие» являет собой уникальный образец полисемантического текста с многоступенчатой системой художественно-философских кодов.
Дискурс второй части поэмы особенно герметичен. Торжествующий хозяин жизни наделен в «Золотом подорожии» конкретным антропоморфным портретом. В отличие от «Слова о погибели» и «Вонючей торжествующей обезьяны…» [186]186
См.: Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 5. С. 534–535.
[Закрыть], где показано пиршество «обнаглелых» – «собезьяньим гиком» и «обезьяньей мордой», здесь объектом авторских инвектив становится некое подобие человеческого, чья сияющая бессмысленная «рожа» символизирует самодовольное господство над окружающим миром и над самой человеческой природой. Метафорический образ существа, выпадающего из любых возможных схем развития – «свиноподобный» человек («Остается хрюкать и тонко и толсто – это вернее»), сближает «Золотое подорожие» со «Словом о погибели…», где разворачивается аналогичный коннотативный ряд: «Русский народ, что ты наделал? / Искал свое счастье и все потерял. Одураченный, плюхнулся свиньей в навоз» (С.: 409). Не случайно такого рода характеристикам сопутствуют покаянные слова: «Стыдно перед зверем, птицей, перед травой и камнем, неловко говорить: человек я!»
Образ свиноподобной рожи, воплощающий аморальную человеческую ограниченность, подключен к другому ассоциативно близкому образу поэмы: «Быть золотарем, трястись на бочке: в одной руке вожжи, в другой – кусок хлеба…» Назначение символа «народ-золотарь» в полной мере можно оценить, обратившись к одному из очерков В. А. Гиляровского, в котором запечатлена выразительная сценка из московского уклада жизни: «В темноте тащится ночной благоуханный обоз – десятка полтора бочек, запряженных каждая парой ободранных, облезлых кляч. Между бочкой и лошадью на телеге устроено веревочное сиденье, на котором дремлет „золотарь“ – так звали в Москве ассенизаторов. Обоз подпрыгивает по мостовой, расплескивая содержимое на камни <…>. Один „золотарь“ спит. Другой ест большой калач, который держит за дужку. <…> Бешеная четверка (на которой расположились пожарные. – Е.О.) с баграми мчится через площадь по Тверской и Охотному ряду, опрокидывая бочку, и летит дальше… Бочка вверх колесами. В луже разлившейся жижи барахтается „золотарь“… Он высоко поднял руку и заботится больше всего о калаче… Калач – это их специальное лакомство: он удобен, его можно ухватить за ручку, а булку грязными руками брать не совсем удобно» [187]187
Гиляровский В. А.Соч.: В 4 т. Т. 4. Москва и москвичи. Стихотворения. Экспромты. М., 1989. С. 184–185.
[Закрыть].
Есть в поэме и иной портрет человека. «Измученный» и «изголодавшийся», этот человек надеется «сотворить на земле» «довольную сытую жизнь», желает, «бессчастный, счастья на горькой земле!» Ремизовские характеристики содержат в себе аллюзии на довольно популярный в те годы комплекс анархо-коммунистических и социалистических идей. К их числу относится социалистическая эвдемонистическая утопия князя П. А. Кропоткина, который в книге «Хлеб и воля» утверждал, что «всякий должен и может быть сытым», а «революция победит именно тем, что обеспечит хлеб для всех» [188]188
Цит. по: Кропоткин П. А.Хлеб и воля. Современная наука и анархия. М., 1990. С. 72. Впервые опубликована в 1892 г. на французском языке под названием «La Conquête du pain» (Завоевание хлеба); первое русское издание состоялось в 1902 г. (Лондон; СПб.). Книга неоднократно переиздавалась в 1917 г.
[Закрыть]. В другой работе, «Современная наука и анархизм» (1906) он указывал на конечную цель человеческого прогресса как обеспечение человечества «наибольшей суммой счастья» [189]189
Кропоткин П. А.Хлеб и воля. Современная наука и анархия. М., 1990. С. 283.
[Закрыть]. Близкие анархизму и социализму взгляды разделял и ученый-естествоиспытатель И. И. Мечников. Согласно его воззрениям, «…наибольшее счастье состоит в полном прохождении круга нормальной жизни и <…> эта цель может быть достигнута жизнью скромной и умеренной», которая «устранит много роскоши, укорачивающей жизнь» [190]190
Мечников И. И.Этюды оптимизма. М., 1907. С. 171 (Глава «Особь и общество в животном мире»).
[Закрыть]. Именно с высказываниями Мечникова соотносятся следующие по тексту поэмы слова: «…невысоко стоял ты на лестнице – еще ниже ступенью спустился и оценил человека презренною мерой». «Лестница» – это не что иное, как знаменитая эволюционистская «лестница существ» [191]191
Этот термин был введен в употребление в XVIII в. швейцарским натуралистом Ш. Бонне.
[Закрыть], восходящая к теории Аристотеля [192]192
Древнегреческий философ впервые высказал мысль о постепенном, без видимых границ развитии существ – от неодушевленных к одушевленным. См.: Аристотель.История животных. М., 1996. С. 301–302. Хотя теория Аристотеля и не имела ничего общего с эволюционизмом, однако именно она легла в основу идей Ч. Дарвина.
[Закрыть]. Человек на этой «лестнице», согласно Мечникову, – это вовсе не высшая форма, а всего лишь продукт неожиданного сбоя эволюционного развития: «…человек представляет (собой. – Е.О.) остановку развития человекообразной обезьяны более ранней эпохи. Он является чем-то вроде обезьяньего „урода“, не с эстетической, а с чисто зоологической точки зрения. Человек может быть рассматриваем как необыкновенное дитя человекообразных обезьян, – дитя, родившееся с гораздо более развитым мозгом и умом, чем у его родителей» [193]193
Мечников И. И.Этюды о природе человека. М., 1904. С. 39–40. Сходный тезис Мечников выдвинул и в другой своей работе «Закон жизни. По поводу некоторых произведений rp. Л. Толстого». Ср.: «С точки зрения естественно-исторической человека можно бы было признать за обезьяньего „урода“ с непомерно развитым мозгом, лицом и кистями рук» (Вестник Европы. 1891. Кн. 9. С. 238).
[Закрыть].
Возможно, в 1918 году напоминание об этих социогенетических идеях пришло к Ремизову как отдаленное эхо того недолгого периода жизни, когда он состоял вольнослушателем естественного отделения математического факультета Московского университета и, как многие его сверстники, был увлечен социалистическими идеалами [194]194
Подробнее см. статью А. М. Грачевой «Революционер Алексей Ремизов: миф и реальность», содержащую несколько автобиографий Ремизова, в которых, в частности, писатель рассказывал о своих увлечениях «ботаникой, и паукообразными и ракообразными» (Лица. Биографический альманах. 3. М.; СПб., 1993. С. 421, а также С. 437).
[Закрыть]. Примечательно, что выстраиваемая писателем собственная «лестница существ» (человек – зверь – птица – трава – камень) решает проблему филогенетического статуса человека в обратном порядке, совпадая с «регрессивными» взглядами середины XVIII столетия о нисхождении ангелов к человеку, а от него к гадам, растениям и минералам. Уже в 1890-е годы убеждения Мечникова вызвали возмущение авторитетного литературного критика и народнического идеолога Н. К. Михайловского, который полагал, что такое перенесение биологических законов на человеческое общество приводит к упрощенному пониманию потребностей человеческой личности: «Он (Мечников. – Е.О.) ничего не пожалеет ради науки и не побоится санкционировать какое бы то ни было уродство. Велика беда уродство! Человек и теперь есть „обезьяний урод“, архивная старушка без рук, без ног живет – и ничего: владеет умственными способностями, а чего ж человеку больше нужно?» [195]195
Михайловский Н.Литература и жизнь // Русская мысль. 1982. Кн. 3. Март. Отд. II. С. 226.
[Закрыть]Если Михайловский в своей статье 1892 года еще мог себе позволить публицистический сарказм по отношению к отдельной персоне, то Ремизову в 1918 году, наблюдавшему результаты воплощения социалистических идей применительно к русском народу, оставалось только скорбно констатировать: человеку, кроме «вожжей» (власти) и хлеба (сытости), «больше ничего не надо!». Тягостное, беспросветное состояние души, не помнящей своего родства, в поэме передано словами: «Страх за сегодняшний день. / Забвение будущего. / Презрение к прошлому» [196]196
Ср.: «Животное живет чувственно созерцаемым им настоящим. Немногим отличается от него номад: он не черпает для себя никаких уроков в прошлом и не готовит ничего для будущего. Стоящий же на высшей ступени лестницы земных существ культурный человек принимает в своей деятельности во внимание и прошедшее, и будущее. Таким образом, степенью развития у данного существа представления времени определяется занимаемая им в лестнице биологического развития ступень, а значит, и степень его интеллектуального развития: ведь прошедшее и будущее могут существовать субъективно только в виде абстрактных понятий, а способность образования последних и есть существеннейшая способность интеллекта <…>. В такой же точно зависимости, в какой развитие интеллекта находится от развития представления о земном прошедшем и земном будущем, находится развитие морали от сознания неземного прошедшего и неземного будущего» ( Дюпрель К.Загадочность человеческого существа. Введение в изучение оккультических наук. М., 1904. С. 115–116).
[Закрыть].
Символические образы последней строфы второй части поэмы, которая начинается со слов «Только ты и мог, несчастный мой брат…», образуют два взаимодействующих ряда: первый содержит коннотации с мифологией Священного Писания, второй – с древнегреческой натурфилософией. Если в «Слове о погибели…» «брат мой безумный» (С.: 404) – это строитель Петербурга, создатель новой России – Петр Великий, то в «Золотом подорожии» тема «несчастного брата» указывает на братоубийцу Каина. В более развернутом виде модель Каинова мифа (символизирующая братоубийственную войну русского народа, развязанную в результате революционных преобразований), объективирована в «Заповедном слове…»: «И убитые тобой встают вереницей: – Каин, где брат твой?» (З.: 413) Каин, первый богоборец, положивший начало роду бунтарей, был покаран божественным проклятием: земледелец, он осужден жить вечно на бесплодной земле. Ср. у Ремизова: «Мимо, Каин, в бесплодные пустыни к соленому морю! Там утолишь ты свою жажду, чтобы вовеки жаждать» (З.: 416). Ветхозаветная символика предполагает соответствующий зловещий образ пустыни как земли «пустой и необитаемой», земли «сухой», земли «тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек» (Иер. 2: 6). Соответствует ей и образ самума – сильного, жаркого, сухого ветра, появлению которого предшествуют особые природные явления: небо окрашивается в красный цвет, воздух приходит в движение, издалека доносится сильный шум. Свирепствуя, песчаная буря накаляет воздух до такой степени, что человек испытывает невыносимую жажду и даже тошноту. В «Золотом подорожии» «крутящийся самум», «бесплодный и иссушающий», бушует над «родной несчастной равниной»: каиновой землей здесь вновь, как и в «Заповедном слове…», предстает Россия.
Символ огненного вихря, названный в поэме «самумом», восходит к сочинению А. И. Герцена «Концы и начала» (1862–1863). Размышляя о природе русской революционности 1825 года, философ представлял ее источником некий «огонь», который неожиданным образом разбудил «к новой жизни молодое поколение», духовно очистив «детей, рожденных в среде палачества и раболепия». Причины возникновения этого движения в России казались ему совершенно недоступными для постижения: «Но кто же их-то душу выжег огнем очищения, что за непочатая силаотреклась в них-то самих от своейгрязи, от наносного гноя и сделала их мучениками будущего?..» [197]197
Герцен А. И.Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1986. С. 383–384.
[Закрыть]Свой вопрос Герцен прилагал и к современному ему «цивилизованному», западному миру, находя и в нем элементы грядущего очистительного, революционного движения: «Что за нравственный самум подул на образованный мир?.. Все прогресс да прогресс, свободные учреждения, железные дороги, реформы, телеграфы?.. Много хорошего делается, много хорошего накапливается, а самум-то дует себе да дует, какими-то memento mori, постоянно усиливаясь и сметая перед собой все, что на пути» [198]198
Там же. С. 384.
[Закрыть]. Безответные вопросы Герцена вызвали у И. С. Тургенева (споры с которым во многом инспирировали создание эпистолярного цикла «Концы и начала») реплику: «Тот самум,о котором ты говоришь, дует не на один Запад – он разливается и у нас…» [199]199
Тургенев И. С.Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 5. Письма. М., 1988. С. 124.
[Закрыть]
Если в предшествующем тексте поэмы авторская речь направлена к некоему абстрактному, обобщенному «другому» («Вижу измученного тебя и изголодавшегося…»), то в последней строфе обращение к «несчастному брату» звучит личностно и конкретно: «Только ты и мог, несчастный мой брат, благословить крутящийся самум над родною несчастной равниной…» Для Герцена желаемое социальное и нравственное обновление Европы и России в 1860-е годы оставалось всего лишь неясной перспективой, тогда как для его идейного воспреемника – историка русской общественной мысли и литературного критика Р. В. Иванова-Разумника – идея стихийного социального преобразования обретала черты зримой реальности. Именно этот товарищ Ремизова по литературному поприщу, очевидно, и стал непосредственным прототипом «несчастного брата». Как и Герцен, он называл себя «скифом», с восторгом приветствуя пришедший на родину в 1917 году смертоносный огненный вихрь [200]200
Идеи Герцена послужили платформой для «скифской» утопии, в основу которой была положена идея революционного духа, восстающего против старого мира. Мировоззренческая программа группы литераторов и деятелей культуры, именовавшей себя «скифами», воплотилась в так называемом «скифском манифесте». Текст манифеста, авторами которого были С. Д. Мстиславский и Иванов-Разумник, появился на страницах первого сборника «Скифы» (Пг., 1917), вышедшего в печать в июне 1917 г. См.: Белоус В.Вольфила [Петроградская Вольная Философская Ассоциация]. 1919–1924. Кн. 1. Предыстория. Заседания. М., 2005. С. 7–28.
[Закрыть]. В «Огневице» образ «предводителя скифов» [201]201
Название статьи П. Арзубьева (псевдоним критика П. Губера), посвященной Иванову-Разумнику (Наш век. 1918. 17 февраля. № 27. С. 5).
[Закрыть], одержимого идеей очистительной революционной стихии, возникает в круговерти горячечных сновидений: «А Разумник с пудовым портфелем, как бесноватый из Симонова монастыря. – Это вихрь, – кличет он, – на Руси крутит огненный вихрь. В вихре сор, в вихре пыль, в вихре смрад. Вихрь несет весенние семена. Вихрь на Запад летит. Старый Запад закрутит, завьет наш скифский вихрь. Перевернется весь мир» [202]202
Ср. письмо Иванова-Разумника Андрею Белому от 29 апреля 1917 г.: «Как не видите Вы, что идет мировая революция,что в России лишь первая ее искра, что через год или через век, но от искры этой вспыхнет мировой пожар,вне огня которого – нет очищения для мира? Не думайте, что о „пожаре“ говорю я в реальном смысле. Не о пожаре усадеб и городов говорю я (будут и они, вне нашей воли), а о пожаре духа революционного. И дух этот, испепеляющий – есть дух созидающий» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка / Публ., вступ. статья и коммент. А. В. Лаврова и Джона Мальмстада; Подгот. текста Т. В. Павловой, А. В. Лаврова и Дж. Мальмстада. СПб., 1998. С. 104).
[Закрыть].
Это поэтическое переложение скифского мироощущения, возникшее, по-видимому, под впечатлением от одного из разговоров с Ивановым-Разумником, послужило исходной точкой горячей дискуссии, растянувшейся на полгода. Гневная отповедь Иванова-Разумника прозвучала в статье «Две России» (декабрь 1917 года): «Враждебен ему (Ремизову. – Е.О.) этот вихрь – старые, староверские, исконные, дедовские, любимые ценности сметает вихрь этот; и видит он в нем только сор, только пыль, только смрад – и не видит испепеляющего огня, не видит весенних семян» [203]203
Иванов-Разумник.Две России // Скифы. 1918. Сб. 2. С. 208.
[Закрыть]. В марте 1918 года, Ремизов опубликовал книгу «О судьбе огненной», в которой выдвинул собственное понимание огненной стихии, основанной на гераклитовской идее апокстаза – огневой катастрофы, обновляющей мир. «Золотое подорожие» могло только служить доказательством его неизменной позиции: «Нет в нем („крутящемся самуме“. – Е.О.) семян жизни <…>. Нет в нем и огня попаляющего, всеочистительного…»
Вместе с тем призыв к «несчастному брату» подразумевает известную множественность контекстуальных аллюзий. В 1917–1918 годах «скифскими» настроениями был также захвачен и поэт А. А. Блок, дружеские отношения с которым всегда имели для Ремизова непреходящую ценность. Заслуживает особого внимания тот факт, что блоковская статья «Интеллигенция и революция», датированная 9 января 1918 года, начиналась почти прямыми цитатами из «Слова о погибели…» («„Россия гибнет“, „России больше нет“, „вечная память России“ – слышу я вокруг себя») [204]204
Блок А.Собр. соч.: В В т. Т. 6. М.; Л., 1962. С. 9.
[Закрыть], а заключительный призыв слушать «музыку революции» предварялся упреком, в котором снова угадывается проекция на Ремизова: «Стыдно сейчас надмеваться, ухмыляться, плакать, ломать руки, ахать над Россией, над которой пролетает революционный циклон» [205]205
Там же. С. 18.
[Закрыть]. Обертоны ремизовского плача по России читаются и в малопривлекательном образе, прописанном в первых строфах «Двенадцати»: «А кто это? – Длинные волосы / И говорит вполголоса: / – Предатели! / – Погибла Россия! / Должно быть, писатель – / Вития…» [206]206
Блок А. А.Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 5. М.; СПб., 1999. С. 7. «Вития», очевидно, все же является собирательным образом. М. М. Пришвин в своем дневнике (запись от 9 февраля 1927 г.) ссылается на «удивительное сообщение Иванова-Разумника» о том, что он изображен в поэме «Двенадцать» в образе «писателя-витии». Тем самым Блок будто бы «отомстил» ему за статью «Большевик из Балаганчика», которая, по утверждению Пришвина, «была написана <…> под влиянием Ремизова в один из таких моментов колебания духа, когда стоит человека ткнуть пальцем, и он полетит» ( Пришвин М. М.Дневники. 1926–1927. М., 2003. С. 210). Реакция Пришвина на это сообщение кажется вполне адекватной: «И как глупо: это я-то „вития“!» Действительно, «вития», согласно Далю, – это «красноречивый словесник», «краснослов», что в большей степени соответствует не Пришвину, а Ремизову.
[Закрыть]. Поэма «Двенадцать», напечатанная 18 февраля (3 марта по новому стилю) 1918 года в «Знамени труда», вся построена на обобщенно-символическом образе революционной стихии – снежной метели, вьюги, ветра, для которого характерно круговое вращательное движение: у Блока ветер «завивает» «снег воронкой», «крутит подолы», «снег крутит». Весьма вероятно, что образ «крутящегося(курсив мой. – Е.О.) самума» в «Золотом подорожии» связан именно с блоковской метелью.
Обширная философская тема последней строфы третьей части ремизовской поэмы локализована в символе Голгофы, который указывает на одну из самых актуальных для русской интеллигенции начала XX столетия проблем. Свершение революции трактовалось некоторыми ее представителями как наступление Третьего Завета, требующего своей искупительной жертвы и своей Голгофы. Немало экстатических тирад посвящено теме Голгофы в «Двух Россиях» Иванова-Разумника: «…нам – не изменить предначертанного мировой историей крестного пути возрожденного народа к новой исторической Голгофе. Это – горькая чаша, но, по-видимому, неизбежная, нас она не минует; принимая ее, мы не должны забывать однако, что Голгофа для идеи – грядущее ее воскресение „в силе и славе“. И поэтому – будем готовы к дальнейшему тяжелому, тернистому пути, по которому уже идем с самого начала „великой русской революции“» [207]207
Скифы. Сб. 2. С. 218.
[Закрыть]. Не случайно, в статье «Испытание в грозе и буре» (апрель 1918 года) Иванов-Разумник определял образ Христа, возникающий в финале поэмы «Двенадцать», как «новую благую весть о человеческом освобождении» [208]208
Первоначальный вариант статьи был опубликован в «Знамени труда» 14 апреля 1918 г.
[Закрыть].
Реплика из «Золотого подорожия»: «На твоей Голгофе – не одна, есть разные Голгофы! – на твоем кресте только истребляют» в контексте мировоззренческих настроений ближайшего литературного окружения Ремизова, а также реальных событий начала 1918 года (убийство в больнице «революционными» матросами А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина) прочитывается как обращение не только к Иванову-Разумнику, но и к А. Блоку. 8 января 1918 года, когда поэт завершал работу над статьей «Интеллигенция и революция» и приступал к «Двенадцати», состоялся памятный телефонный разговор поэта и писателя. Утром следующего дня Ремизов записал в дневнике: «Разговор с Блоком о музыке и как надо идти против себя. Голгофа! Понимаете ли вы(курсив мой. – Е.О.), что значит Голгофа? Голгофа свою проливает кровь, а не расстреливает другог[о]» (Д.: 490). Ремизовский пересказ дискуссии содержит не только изложение точки зрения поэта (отрешения от собственного «Я», символически отраженного в концепте «музыка»), но и личной позиции, отрицающей идею всеобщей Голгофы, которая требует жертвоприношения чужих жизней.
Тему Голгофы писатель для себя лично связывал не с заключительным актом преображения во имя идеи, а с жизнью отдельного человека, для которого судьба России – такая же частная сфера, как и сама жизнь. 3 сентября 1917 года, после суда над корниловскими мятежниками, он выразил свою позицию следующими словами: «Последняя отчаянная попытка за Россию. Но против суда Божьего не уйти. <…> Терпеливо прими судьбу свою. Это как бы умер любимый человек. И вот эти дни прожил я как у постели умирающих. И сердце мое было раскалено. А сегодня ночью я понял и принял судьбу свою, как кару очищающую» (Д.: 476). В целом вторая часть поэмы (ее можно назвать «земной») переполнена чувством окончательного отвращения к жизни: в ней нет даже искры любви («…вся душа моя отвращается от дней и ночей, судьбой мне положенных на горькой земле»). Дневник писателя содержит отзвуки аналогичных рефлексий. Размышляя над феноменом «торжествующего» завоевателя жизни, 8 июня 1917 года Ремизов записывал: «Самое тягостное это не ненависть, тут уж напрямик, а нелюбовь.Это такая мутная среда, куда ни один луч не проникнет» (Д.: 444).
Такому состоянию может сопутствовать только одно естественное желание – отойти, отвернуться от мира. Новый виток сюжетного развития, содержащийся в третьей части поэмы, диктует значительные перемены в нарративном строе. Отрешение от мира показано здесь движением вверх, отдалением – чем выше к облакам, тем призрачнее становятся реалии жизни: «Тучи несутся под ветром по холодному небу. И, как пеленутый дым, лица ползут. / Ухожу все дальше – не вижу, не слышу». Тема восхождения к горнему, ввысь, отчуждение от всего дольнего, оставшегося внизу, подразумевает раскрытие новых кодов, связанных с образом философа-пророка-отшельника. Такие синтагмы, как «На кручу по кремнистой тропе взбираюсь…» и «слишком всматривался я в лица людей, слишком долго испытывал людей» вызывают (вновь, как и в случае с «Огневицей») прямые ассоциации со стилистическими особенностями философско-художественного трактата Ф. Ницше «Так говорил Заратустра»: «Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро своей родины и пошел в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством и в течение десяти лет не утомлялся счастьем своим» [209]209
Ницше Ф.Так говорил Заратустра. С. 3.
[Закрыть]. Выражение «слишком долго» также соотносится с Заратустрой, являясь специфической фигурой его речи: «…вы проповедуете терпение ко всему земному? Но это земное слишком долго терпит вас, вы богохульники!» [210]210
Там же. С. 59.
[Закрыть]
Ницшеанские аллюзии «Золотого подорожия» способствуют возникновению эффекта обратной перспективы, высвечивающей философский контекст предыдущего, «земного», текста. Вопрос, прозвучавший уже в «Заповедном слове»: «и как тут жить и чем тут дышать?», получает в поэме ответ, имплицитно восходящий к притче «О прохождении мимо». Мысль Заратустры проста: «где нельзя уже любить, там нужно – пройти мимо!» [211]211
Там же. С. 155.
[Закрыть]У Ницше карлик – двойник Заратустры, которого «народ называл „обезьяной Заратустры“» [212]212
Там же. С. 153. Ср.: «Тебя называют моей обезьяной, ты, беснующийся шут: но я называю тебя своей хрюкающей свиньей, – хрюканьем портишь ты мне мою хвалу безумству. Что же заставило тебя впервые хрюкать? То, что никто достаточно не льстил тебе: – поэтому и сел ты вблизи этой грязи, чтобы иметь поводы хрюкать – чтобы иметь многочисленные поводы для мести!» (Там же. С. 155).
[Закрыть]за умение подражать его речам, всячески отговаривает своего Учителя от посещения города, над которым стоит «смрад от умерщвленного духа» [213]213
Там же. С. 153.
[Закрыть]. Гневные филиппики, обращенные к прóклятому месту, воистину справедливы, однако Заратустра возмущен, почему, сознавая полный распад всех основ жизни, карлик остался жить в этом городе: «Я презираю твое презрение, и, если ты предостерегал меня, – почему же не предостерег ты себя самого?» [214]214
Там же.
[Закрыть]Моральный смысл притчи заключается не только в праве человека на осуждение и неприятие презираемого мира, но и в добровольном отказе от него. Заратустра, отгораживаясь от карлика, утверждает, что его сверхчеловеческое презрение движимо любовью, а не ненавистью. Если перенести смысл этой притчи на отношение Ремизова к революционной действительности, то и здесь выход из экзистенциального тупика состоял в том же самом решении: осуждение России, питаемое ненавистью, греховно и даже гибельно. В «Золотом подорожии» нет слов любви и прощения, приносящих гармонию и очищение душе, но сама идея отрешения от ненависти и презрения ради перерождения души раскрыта в третьей и четвертой частях поэмы.