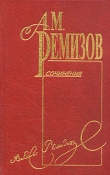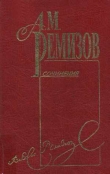Текст книги "Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя"
Автор книги: Елена Обатнина
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Подходы Ремизова и сюрреалистов к снотворчеству также можно сравнить с «магнитным полем» – в том смысле, что любое магнитное поле подразумевает как взаимное притяжение двух полюсов, так и их отталкивание. Отождествляя творчество и сновидение, писатель обращался к самому что ни на есть сокровенному в своей жизни; ведь на содержание сновидений невозможно было повлиять, поскольку они возникали помимо воли их «автора». Он позволял себе лишь записать их по пробуждении, как этнографы записывают свободно существующие в народной памяти и передаваемые из уст в уста сказки, былины и легенды. Как и в ряде других случаев, Ремизов намного опередил свое время. Сам по себе авангардистский тезис о том, что сновидение может быть структурировано как текст, и, более того, что сон уже является текстом, впоследствии станет одним из основополагающих постулатов Ж. Лакана, а затем и постструктуралистов: «Сновидение подобно игре в шарады, в которой зрителям предполагается догадаться о значении слова или выражения на основе разыгрываемой немой сцены. То, что этот сон не всегда использует речь, не имеет значения, поскольку бессознательное является всего лишь одним из нескольких элементов репрезентации. Именно тот факт, что и игра, и сон действуют в условиях таксемического материала для репрезентации таких логических способов артикуляции, как каузальность, противоречие, гипотеза и т. д., и доказывает, что они являются скорее формой письма, нежели пантомимы» [555]555
Lacan J.Ecrits. Paris, 1966. P. 161. Цит. по: Ильин И. П.Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа. М., 1998. С. 61.
[Закрыть].
Ремизов занялся сновидениями, по крайней мере, за десять лет до первых сюрреалистических экспериментов по фиксации «реального функционирования мысли» [556]556
Бретон А.Манифест сюрреализма // Называть вещи своими именами. С. 56.
[Закрыть]. Сны в системе его творчества оказывались областью духовногопраксиса, открывающей сознанию прошлое и будущее. Пронизанный реалиями объективной жизни сон в ремизовском понимании выступал как мифологизированная действительность: «Во сне разрушаются дневные формы сознания или надтрескиваются, и сон как бы завязает в привычных формах яви: на 2x2 отвечаешь с большим раздумьем и неуверенно – „кажется, говоришь, 5“. Но пространство со своей геометрией и тригонометрией летит к черту, – такое в горячем сне, из которого сна пробуждение, как от толчка и скачет пульс. <…> И нет ни прошедшего, ни будущего – время крутится волчком: на вчерашнее, которое представляется настоящим, наваливается, как настоящее же, и то, чего еще нет и не было, а только будет – ни впереди, ни позади» [557]557
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 355–356.
[Закрыть].
Миф исключает внутреннюю «слепоту» человека, в нем обычное зрение преобразуется в видение (прозрение), рождающее идеальные смыслообразы. Поэтому сновидение одновременно оказывается и вместилищем памяти, которая охватывает постижимое прошлое (историю), и запредельным (прапамять), и безотчетным самовыражением творческой энергии (воображение): «В снах не только сегодняшнее – обрывки дневных впечатлений, недосказанное и недодуманное; в снах и вчерашнее – засевшие неизгладимо события жизни и самое важное: кровь, уводящая в пражизнь; но в снах и завтрашнее – что в непрерывном безначальном потоке жизни отмечается как будущее и что открыто через чутье зверям, а человеку предчувствием; в снах дается и познание, и сознание, провидение…» [558]558
Там же. С. 253.
[Закрыть]Эта сфера бессознательного творчества потому и не уступала в своем значении объективному миру, что с максимальной точностью позволяла фиксировать самые неуловимые и зачастую неизъяснимые рефлексии: «всякое творчество воспроизводит память; память раскрывается во сне» [559]559
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 157.
[Закрыть].
Независимая от человеческой воли область саморазвития мысли превращалась в живую творческую субстанцию, умирающую с пробуждением. Сновидения, соединяя явь и физиологический сон, пребывали на грани осознанной реальности и беспамятства (или забытья), ассоциируемого со смертью. Они существовали как связующее звено между здешней, «привычной» действительностью и мирами, «откуда появляется живая душа и куда уходит оттрудив свой срок» [560]560
Там же. С. 163.
[Закрыть]. Человек постоянно совершал в своем сновиденном инобытии увлекательные путешествия, приближался к первоистокам и первообразам жизни: «Сны сами по себе увлекательны, как всякое приключение; а „приключение“ – душа живой жизни: из приключений составляется биография человека и история вообще. Сны как бы прерываются бодрствованием, а на самом деле, проникая бодрствование, непрерывны – нигде не начинаются и не имеют конца или: уходят в глубь веков, к первородному, к самой пуповине бытия – так по Эвклидовой мерке, и в безвременье – по счету сонной многомерности» [561]561
Ремизов А. М.Неизданный «Мерлог». С. 230.
[Закрыть]. Сно-в и дение у Ремизова стало, таким образом, универсальной формой познания, с максимальной точностью фиксирующей самые неуловимые и зачастую неизъяснимые рефлексии. В освоении мира сновидений он не только, по собственному выражению, «переступал грань» между явью и сном, но и делал этот рубеж невидимым. Традиционно воспринимаемое как пограничная область человеческого бытия, сновидение в творческой интерпретации писателя становилось миром, сливавшимся с явью в «некую абсолютную реальность» [562]562
Бретон А.Манифест сюрреализма // Называть вещи своими именами. С. 48.
[Закрыть].
Смысл бессознательного
Отождествление творческого процесса со сновидениями подвело А. М. Ремизова к оригинальному прочтению литературного наследия писателей-«сновидцев»: Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Достоевского в книге «Огонь вещей». Представляя известные произведения русской литературы как смену «многоступенчатых» снов, он стремился добыть потаенное знание о личности художника. В результате автоматически уничтожалась граница между сном и реальностью, сном и произведением, автором и читателем, и одновременно возникало особое пространство литературного снов и дения.
Чаще всего сноведческие этюды возникали по случаю, многие из текстов, впоследствии включенные в состав «Огня вещей», впервые появились в печати в виде юбилейных статей, специально написанных к конкретным датам, связанным с именами Гоголя, Пушкина, Тургенева. Создание очерков о Достоевском в конце 1940-х годов свидетельствовало не столько об открытии темы, сколько о ее окончательной реализации. В течение всей жизни Достоевский и Гоголь были для Ремизова литературными учителями; генетическое присутствие их в ремизовских произведениях, как отметил А. Бем, обеспечивало «внутреннюю связь художественных идей» [563]563
Бем А.«Индустриальная подкова» Алекс. Ремизова. С. 78.
[Закрыть]. В этом смысле очерки, вошедшие в «Огонь вещей», стали закономерным продолжением и развитием прямых обращений к «Николаю Васильевичу» или «Федору Михайловичу», органично вплетенных в повествовательный строй его рассказа «Днесь весна» (1916), очерка «О судьбе огненной» (1918), романа «Взвихренная Русь» (1927), воспоминаний «Подстриженными глазами» (1951), глав из книги «Учитель музыки», появлявшихся в печати в 1930-е годы. В очерке «Звезда-полынь» Ремизов вновь объединил два имени, тем самым предвосхищая смысловую завершенность и кольцевую композицию будущей книги о гениях-демонах, создавших мир своих сновидений вопреки любви и благодаря любви.
Работа над интерпретацией классических литературных произведений сопровождалась неизменным вниманием к чужому опыту в области литературоведения. Работы других литераторов, как и свои собственные, Ремизов оценивал с точки зрения смысловой прозрачности и точности выражаемой мысли: «Все эти дни и сегодня отделываю написанное с раздумьем. <…> Мучаюсь над книгой Мочульского о Достоевском: из упорства, а может, что и встречу – не бросаю. Но какой сыпучий песок! „Песок“ это значит, никак не повторить – пробрался, этим и кончается» [564]564
Кодрянскан Н.Ремизов в своих письмах. С. 107.
[Закрыть], – писал он Н. Кодрянской 10 августа 1948 года, отзываясь о книге «Достоевский: Жизнь и творчество», вышедшей в Париже годом ранее.
Композиционное, смыслообразующее начало всей книги заключают в себе гоголевские главы. В одном из писем к Кодрянской (от 10 марта 1952 года) о ключевом направлении своего погружения в русскую классику Ремизов отозвался так: «…все гоголевское, мое, называю „Огонь вещей“» [565]565
Там же. С. 246.
[Закрыть]. В раздел «Литературные образы» составленного тогда же списка неизданных произведений под скорбным названием «Литературный некролог» писатель внес три книги, впоследствии образовавшие единое произведение: «Огонь вещей» – Гоголь; «Звезда-полынь» – Достоевский; «Сны в русской литературе» – Пушкин, Лермонтов, Тургенев [566]566
Машинописный список находится среди писем Ремизова к П. П. Сувчинскому (Национальная библиотека Франции, Париж).
[Закрыть]. Завершение работы над Гоголианой подвело писателя к мысли организовать ранее разрозненные очерки в целостное художественное произведение. Очевидно, уже на самом последнем этапе создания книги Ремизов написал цикл миниатюр о снах в гоголевских произведениях, составивших главу «Морок», а также очерки «Гоголь и Толстой», «Ум», «Андроны едут» и «Горичары». Непроясненным остается лишь время создания зарисовки «Сон Лермонтова». Можно только предположить, что включение в структуру книги этого важного звена было осуществлено как развитие мысли В. В. Розанова, впервые указавшего на инфернальную связь образов Гоголя и Лермонтова в статье «М. Ю. Лермонтов (К 60-летию кончины)» [567]567
Новое время. 1901. 15 июля. № 9109.
[Закрыть]. Происхождение этой главки, очевидно, связано и с отзывом критика Иванова-Разумника – строгого и искреннего ценителя ремизовского таланта, который в одном из писем военных лет «подсказал» писателю путь дальнейшего развития «сноведения»: «Пушкин, Толстой, Лесков, Достоевский – большие клады снов, но не забудьте и Лермонтова» [568]568
Встреча с эмиграцией: Из переписки Иванова-Разумника 1942–1946 годов / Публ., вступ. статья, подг. текста и коммент. О. Раевской-Хьюз. М.; Париж, 2001. С. 115. Письмо от 7 июня 1944 г.
[Закрыть].
Когда в 1954 году благодаря усилиям преданных друзей в Париже книга наконец вышла в свет, в ее появлении рецензенты увидели своего рода post scriptum к отшумевшей за два года до этого столетней годовщине со дня смерти Н. В. Гоголя. Сконцентрировавшись на очерках, посвященных творчеству великого юбиляра, об остальном содержании критики упоминали вскользь – как о статьях, знакомых по периодической печати и в свое время уже отмеченных рецензиями. Книгу сопровождал несомненный успех; она удивила критику глубиной и иррациональностью авторского мышления, непредсказуемостью выводов и точностью языка. Одним из первых откликнулся на новое произведение писателя Дм. Чижевский, который увидел в нем продолжение известной символистской традиции: «Русским писателям-художникам история русской литературы обязана многими блестящими историко-литературными характеристиками <…>. Книга Ремизова в части, посвященной Гоголю, отличается от этих работ и своеволием чисто ремизовского стиля и намеренной гиперболичностью утверждений. Главы о Гоголе содержат много кажущегося „озорства“: здесь и простая перепечатка целых страниц Гоголя, и изложение биографии Чичикова с дополнениями Ремизова, очень удачными. Ремизов мог бы сослаться на самого Гоголя: „А как было дело на самом деле, Бог его ведает, пуст читатель-охотник досочинит сам“. <…> Ремизов – писатель не для всех <…>. Но кто умеет его читать, вычитает из его страниц много блестящих отдельных замечаний и несколько основополагающих для понимания Гоголя мыслей». Особенную заслугу Ремизова критик увидел в символическом истолковании позднего Гоголя, которое, по его мнению, «никогда не было проведено с такою последовательностью, как в книге Ремизова. В особенности главы о „Мертвых душах“ и их героях…» [569]569
Новый журнал. 1955. XLI. С. 285–286.
[Закрыть]
Другие рецензенты отмечали необычность исследовательского ракурса при создании «гипнологии» русской литературы. Ю. Терапиано охарактеризовал новое произведение Ремизова как гениально-сложное: «„Огонь вещей“ – книга настолько насыщенная содержанием, что не всякий читатель согласится с легким сердцем выдержать это напряжение. <…> Мир иррационального, который открывает нам Ремизов, по существу своему полон таких непримиримых противоположностей, такого сплетения значительного и псевдозначительного, правды и лжи, пронизан таким ощущением путаницы, безысходности, боли и одиночества, что разобраться в этом адском хаосе – большое мучение. <…> Творческая гениальность и диапазон души художника только усиляют и подчеркивают эти противоречия…» [570]570
Литературный современник: Альманах. Мюнхен, 1954. С. 299–300.
[Закрыть]В статье З. Юрьевой, опубликованной уже после смерти писателя, подчеркивалась близость автора «Огня вещей» тем литераторам, которым посвящено это художественное исследование – сродство, позволившее ему рассмотреть те стороны литературного творчества, которые не всегда оказываются в поле зрения ученых-филологов: «Книга Ремизова сама является своего рода „сонным наваждением“, в котором смешались живые и мертвые герои Гоголя – как это показывает и нарисованная автором обложка книги – со снами и афоризмами самого Ремизова, с проявлениями его любви к „странным сказкам“, и, главное, к магии и музыке гоголевского слова <…>. Книга Ремизова показывает, что традиция отзывов русских „писателей о писателях“, бывшая в расцвете при русских символистах, еще продолжается. Эта традиция дала много глубоких проникновений художественного творчества, на которые редко были способны историки литературы» [571]571
Новый журнал. 1957. LI. С. 109–111.
[Закрыть].
Книга, создававшаяся в общей сложности в течение трех десятилетий, заключала в себе уникальный опыт постижения «чужих» текстов и особый дискуссионный настрой, рассчитанный на диалог и свободное от хрестоматийной заданности восприятие. Обращенный к высоким образцам русской литературы, «Огонь вещей» не только своей формой, но и содержанием мало походил на традиционное литературоведение как таковое. Внимание к бессознательному и отождествление сновидений с творческим процессом подвело Ремизова к оригинальной интерпретации литературного наследия классиков-«сновидцев» – Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Тургенева и Достоевского. Ремизов преобразовывал устоявшиеся, клишированные суждения, предлагая читателю новые толкования известных художественных образов. Подобный познавательный опыт реализовывался через оригинальное «сотворчество» – авторизованный пересказ, нередко переходивший в свободное домысливание и даже органичное «вживание» в литературных героев и их авторов. Извлекая из классических произведений череду многоступенчатых снов, он стремился выявить суть художественного творчества и смысл человеческого бытия. В результате столь оригинальной интерпретации читатель оказывался один на один с уникальным опытом, который вел к постижению некой «абсолютной реальности», скрывающейся по ту сторону очевидного.
Писатель намеренно развивал собственный взгляд на природу сновидений альтернативно так называемому «здравому смыслу», в соответствии с которым сны воспринимались иллюзией, «нормальным» сумасшествием, а «логика сновидений» – как «логика комического» [572]572
См.: Бергсон А.Собр. соч. Т. 5. Введение в метафизику. Смех. СПб., 1914. С. 199.
[Закрыть]. Популярным теориям о бессознательном творчестве Ремизов противопоставлял принципиально новое представление о сновидении как о дискурсе, содержащем онтологический код. Среди своих современников он был не единственным, кто ставил вопрос о метафизической природе снов. Еще в 1900 году, в статье «Сказочное царство», В. В. Розанов высказал мнение, что европейская наука, научившаяся таким «чудесам», как лить «бессемеровскую сталь» и разговаривать «из Петербурга с Москвою <…> даже узнавая тембр голоса говорящего лица», «до сих пор» «не разгадала даже приблизительно, что такое сон и сновидение». Сам философ считал сон движением души в сторону «иного» бытия: «Сон – какое-то движение души. Казалось бы, чем ярче сон, тем движение души сильнее и человек должен быть ближе к благородному состоянию; совсем напротив!! Ведь ученые так думают, гипотезируют, что сон есть некоторый безболезненный паралич души, временное расслабление, упадок, вообще приближение к нулю; но вот сон, „сновидения“ нарастают: какие приключения, страх, смятение, опасности. Человек кричит во сне; да что же он не проснется?! Ведь чем сильнее движется душа, боится, желает, тоскует – тем он ближе к „полной энергии пробужденного человека“, и, следовательно, всякое сновидение должно переходить в пробуждение. „Сон… действительнее, действительнее, действительнее! совсем действителен – я проснулся“. Ничего подобного; пробуждение, например, во время страшного сна есть разрыв, ужасное усилие и перерыв, „убийство“ сновидения, а не доведшее его до яркости действительного пробуждения. Т. е. сны бегут „туда“, когда мы пробуждаемся, – „сюда“. И, следовательно, сон есть некоторое ежесуточное оттягивание нашей души в „ту сторону“, противоположную „этой“, здешней. Что ее оттягивает – мы не знаем; но пробуждаемся „освеженные“ и „укрепленные“: прекрасный залог, что „там“ вообще крепче все и здоровее, нежели здесь» [573]573
Розанов В. В.Во дворе язычников. М., 1999. С. 121–122.
[Закрыть]. Проводя аналогию со сказкой, Розанов называл ее «запомненным сном» и определял как некое метафизическое пространство, где «вещи, разрозненные в объективном мире, начинают субъективно перемешиваться, взаимно проницать друг в друга или переходить друг к другу», где «все вещи чувствуют друг друга, „разговаривают“; то теряют душу, то находят ее», где «границы материального и духовного не тверды» и «все может быть одушевлено» [574]574
Там же. С. 123.
[Закрыть].
Мифопоэтические суждения о близости сновидений и творческих состояний составили основу статей «Театр – сонное видение» (1906) и «Театр как сновидение» (1912–1913) М. Волошина. Поэт, художник и критик воспринимал ночное сознание как огромный океан, с которым повседневное человеческое бытие никогда не утрачивает своей родовой связи; человек носит этот океан в себе и ежедневно возвращается в него, словно в материнское чрево. Погружаясь в глубокий сон без видений, он проникается его токами, отдается силе его течений и обновляется в его глубине, причащаясь в эти моменты довременному сну камней, минералов, вод, растений. Волошин представлял сновидение пограничной областью, окаймляющей вселенные мрака. Образы снов рождаются из взаимопроникновения дневного сознания и ночи с ее неведомой для дневного сознания жизнью. Этот процесс в точности повторяет рождение сказок и мифов, через которые человек осознает брезживший перед глазами человека мир действительности.
Как и Розанов, называя сказки и мифы сновидениями пробуждавшегося человечества, Волошин изображал душевное состояние древнего человека раздвоенным между неразделенностью бытия сущностного, первородного (ночного океана сознания) и пробуждающимися сознанием бытия дневного, постепенно становящегося основным. Для возвращения к первоначальному состоянию духа существуют танец и детская игра. Соединяя в себе неосознанные токи ночного глубинного бытия и реалии дневного сознания, они по своим свойствам сродни сновидениям: «И сновидение и танец представляются явлениями если не равносильными, то психологически возникающими в пределах одной и той же душевной области. Чтобы определить пределы и смысл этой области, надо обратиться к воспоминаниям личной нашей жизни. В период детства мы переживаем все историческое развитие человечества. Наши детские игры во всем их многообразии повторяют основные душевные состояния дионисического момента истории. <…> Между творчеством детских игр и тем состоянием духа, в котором человечество создавало сказки и мифы, – нет никакой разницы. Игра – эта одна из форм сновидения, не больше. Это сновидение с открытыми глазами. Танец – действенное, мускульное выражение его» [575]575
Волошин М.Лики творчества. Л., 1988. С. 351–352.
[Закрыть]. Когда в творческой игре человек возвращается к истокам своего истинного бытия, в его душе рождается подлинный художник: «Тот, кто сохраняет среди реальностей дневной обыденной жизни, неиссякающую способность их преображения в таинствах игры, кто непрестанно оплодотворяет жизнь токами ночного, вселенски-творческого сознания, тот, кто длит свой детский период игр, – тот становится художником, преобразователем жизни» [576]576
Там же. С. 352.
[Закрыть].
Развернутая концепция художественного снотворчества, покоящаяся на рассуждениях о душе художника, необыкновенно восприимчивой к «тончайшим колебаниям мировой атмосферы», содержится в работах М. О. Гершензона. Суждения о творце как об уникуме, которому доступна сфера первичных сущностей, подвели Гершензона к теме сновидений в литературном творчестве. Отметим, что свой подход к сновидению критик считал философским: «…философия сновидения, которую я открываю в творчестве Пушкина, сложилась у него <…> безотчетно и вместе с тем логически, работою разума в темной глубине души» [577]577
Гершензон М. О.Сны Пушкина // М. О. Гершензон. Статьи о Пушкине. М., 1926. С. 110.
[Закрыть]. Внутри этой «философии сновидения», рационально интерпретирующей иррациональное, определенно просматриваются три взаимосвязанных аспекта: онтологический (сон как особая реальность), гносеологический (сон как творчество души) и аксиологический (сон как возвышенное эмоциональное состояние).
Анализируя закономерности функционирования поэтического сознания, критик приходил к выводу, что ирреальное, как и реальное, является объектом творческого опыта. Сон – «загадочное явление», интимное состояние души, недоступное для восприятия посторонних людей. Будучи концентрированным выражением субъективного внутреннего мира, сон заключает в себе «тайнопись вещей», «личную истину» сновидца. Призвание художника состоит в том, чтобы преобразовать свое сокровенное, тайное видение в художественные образы и соединить их лишь ему известными понятиями. Соответственно, главная задача художественной критики заключается в умении «видеть сквозь пленительность формы видение художника» [578]578
Гершензон М. О.Видение поэта. М., 1919. С. 18.
[Закрыть]. Сновидение для Гершензона есть, с одной стороны, некая формализованная конструкция с отдельными элементами и функциональными характеристиками, с другой – процесс, отражающий творчество души. Познание, согласно представлениям критика, само по себе является творчеством, а творчество – познанием. Сон есть своего рода внутреннее видение души: если в дневное время душа накапливает знания, то, как только прекращается их приток, душа отгораживается от мира.
Гносеологический смысл сновидений открывался исследователю через осмысление типологических черт произведений Пушкина, отличающихся единой жанровой природой. Гершензон указывал на устойчивую и последовательную двухчастность сновидений Гринева («Капитанская дочка»), Григория Отрепьева («Борис Годунов»), Татьяны («Евгений Онегин»), Руслана («Руслан и Людмила») и Марьи Гавриловны («Метель»). Первая стадия их сновидений заключает в себе пассивное восприятие, связанное с реалиями только что минувших событий. Этот отрезок сна является своего рода переходом от дневного сознания к сновиденному. Поначалу душа лишь репродуцирует реальные образы, однако затем из едва уловимых чувственных отражений она создает не только формы заданных реальностью видений, но также и образы, наполненные иной «существенностью». Второй отрезок демонстрирует свободное творчество души, которое, совершенно игнорируя логику дневного сознания и все основания реального бытия, несет в себе провиденциальный смысл. Кроме того, Гершензон не оставлял без внимания и проблему пограничного состояния сновидца, используя изящное пушкинское определение для выявления общего плана построения отдельных сновидений: «План этот, как мне кажется, Пушкин наметил в словах Гринева: „…то состояние чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония“. Очевидно, по мысли Пушкина, сновидение строится из элементов двоякого рода: из восприятий („существенность“) и из свободных образов фантазий („мечтаний“); и Пушкин различает в сновидении два этапа: сначала восприятия только уступают игре воображения, затем тонут в ней» [579]579
Гершензон М. О.Сны Пушкина. С. 100.
[Закрыть].
Гений художника проявляется в целостности знаний, заключенных в его памяти. Анализируя творчество Пушкина, критик фактически отождествлял два экзистенциальных состояния – иррационально-сновиденное и рационально-бодрствующее. В частности, он утверждал, что поэт «представлял себе сонное творчество души, по-видимому, однородным с деятельностью дневного ума. Эти странные знания не разрознены в памяти, не обрывки, не клочья(курсив мой. – Е.О.). Они наводняют душу, но душа овладевает ими, координирует их и связывает логически; она во сне соображает, и мыслит, и созидает из того материала стройные образы. <…>. Но эти зримые нити рассуждения связывают части уже готового образа, самый же образ, как целое, есть результат глубоко скрытого мышления, но именно не произвольной игры фантазии, а результат мышления, т. е. собирания и согласования тех бессознательных знаний о мире и о себе, которыми сон открывает доступ в сознание» [580]580
Там же. С. 109.
[Закрыть]. В данном высказывании несомненно заложена контроверза мысли Достоевского о привидениях, которые, как говорит один из героев «Преступления и наказания» Свидригайлов, представляют собой «клочки и отрывки других миров, их начало». Приравнивая сны к явлениям ирреального мира, Гершензон утверждал обратное: образы, вышедшие из сновидений, гармонично дополняют образы дневного сознания, и вместе они образуют единый поток поэтического мышления. Можно сказать, что познаваемость сонной реальности напрямую связана с принципом «однородности» дневного и ночного бытия, на котором настаивал критик.
В интерпретации Гершензона единым источником и субъектом познания сновиденной реальности является душа, которая, по аналогии с дневным умом, так же строго рациональна: «Душа овладевает ими [знаниями], координирует их и связывает логически; она во сне соображает, и мыслит, и созидает из того стройные образы». «Внутреннее видение души», считал критик, раскрывается благодаря описаниям сновидений. Это «неосознанное» знание сосуществует с дневным сознанием и не переступает границ реальности: «человек воспринимает несравненно больше того, что доходит до его сознания. <…> Но эти бессознательные знания души не мертвы: они только затаены во время бодрствования; они живы и в сонном сознании – им раздолье. Татьяна знает многое такое об Онегине, Марья Гавриловна – о Владимире, Гринев – о Пугачеве, а Отрепьев – о самом себе,чего они отдалено не сознают наяву. Из этих-то заповедных, тонких знаний, накопленных в опыте, душа созидает сновидения: такова мысль Пушкина» [581]581
Гершензон М. О.Сны Пушкина. С. 109.
[Закрыть]. Оригинальность взглядов Гершензона основывалась на понимании беспрерывности и единства творческого мышления, которое «совершается не только в верхнем слое человеческого духа», а «пронизывает всю толщу духа до глубин», коими являются для нас «глубины бессознательного, открывающиеся в образах снов». Творческое мышление не исключает бессознательного; напротив, стихия бессознательного наделена знанием не в меньшей, а даже в большей степени, чем сознательное мышление. Так, Гершензон отмечал разлад между дневным и сновидческим пониманием сути вещей в восприятии Григория Отрепьева: его «сознание слепо на вещи, уже вполне ясные бессознательному разуму» [582]582
Там же. С. 102.
[Закрыть]. Оттого сновиденный образ – это результат глубоко скрытого мышления, а не произвольной игры фантазии. Важнейшая функция сна заключается в том, чтобы соединить бессознательное и сознательное в один целостный мыслительный процесс и в конечном итоге снять противоречие между сознательным и бессознательным, в свое время зафиксированное З. Фрейдом.
Особое направление в исследовании проблематики литературного сна, напрямую связанное с теорией бессознательного З. Фрейда, составили работы 1920–1930-х годов психиатра Н. Е. Осипова и критика A. Л. Бема. Различные в своей основе, они сходны своим интересом к тому тайному и сокровенному, что объективируется в литературных сновидениях и в конечном итоге приписывается непосредственно персонам их авторов. В частности, в докладе «Страшное у Гоголя и Достоевского» (1927) Н. Осипов рассматривал высокие образцы прозы Н. В. Гоголя как наиболее яркие клинические картины проявления тяжелых форм неврастении. Полагая сновидение (равно как сумасшествие и смерть) выражением сверхъестественного, ученый утверждал, что анализ этих состояний следует проводить с помощью разнообразных и даже взаимоисключающих методик – как посредством мистических и поэтических восприятий, так и путем философских умозрений и научных исследований. Завершающий этап подобного постижения предполагал сравнительный анализ результатов всех исследований и рационализацию полученных итогов. Указывая на возможность постижения иррационального посредством мистики, поэзии или философии (то есть через коды, далекие от рационально-объективного метода), Н. Осипов, тем не менее, демонстрировал сугубо лабораторно-рационалистический подход к литературному материалу.
Концентрацию элементов таинственного, непонятного, фантастического в повестях Гоголя «Страшная месть» и «Вий» Осипов объяснял, опираясь на Фрейда, как психологическое восприятие, как « возврат прежнего,прежнего нашей индивидуальной жизни или жизни предыдущих поколений, онтогенетического или филогенетического прошлого» [583]583
Научные труды Русского народного университета в Праге. Т. IV. Прага, 1931. С. 125.
[Закрыть]– разнообразным содержанием испуга: «…страх испытывается при восприятии материальной, реальной опасности.Жуть – при восприятии непонятного, таинственного» [584]584
Там же. С. 120.
[Закрыть]. Обращаясь к анализу страшных повестей Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки», Осипов выделял три разновидности страха: страх народный, то есть такой, который служит для писателя непосредственным материалом и описывается в его повестях как страх героев; страх самого автора «Вечеров», которому не были чужды переживания, связанные с этим состоянием; и, наконец, страх самого читателя. В своем исследовании ученый двигался от текстов с наименьшим эффектом страха к текстам наибольшего накала. Степень страха была поставлена им в зависимость от источника, возбуждающего это чувство. В свою очередь, объектом страха почти во всех повестях Гоголя выступает так называемая «чертовщина», а также связанные с этим проявлением иррационального – чудесные события, превращения и прочее, сумасшествие («Вечер накануне Ивана Купала»), превращения («Вий»), чувственная любовь, воплощенная в образе женщины («Иван Федорович Шпонька и его тетушка») и, наконец, смерть («Вий», «Страшная месть»).
По классификации Осипова, повесть «Сорочинская ярмарка» – повесть не страшная, поскольку в конце повествования события находят «полное рационалистическое объяснение в корыстолюбивых проделках цыган и в алкогольном опьянении действующих лиц» [585]585
Там же. С. 109.
[Закрыть]. Такого рода «нестрашный» страх содержится и в «Майской ночи», и в «Ночи перед рождеством», и в «Пропавшей грамоте». Однако уже повесть «Вечер накануне Ивана Купала», основу которой составил мотив «договора с чертом», Осипов относил к разряду «страшных сказок», выделяя здесь такой особый психологический объект страха, как сумасшествие. Страх, вызванный «чертовщиной», оборачивается для человека не шуткой, а трагической гибелью. Осипов называл отношение Гоголя к так называемой «чертовщине» амбивалентным, принимая во внимание сформулированную самим писателем цель творчества: «чтобы после моего сочинения насмеялся вволю человек над чертом» [586]586
Научные труды Русского народного университета в Праге. Т. IV. С. 114.
[Закрыть]. Повести «Вий» психоаналитик уделял особое внимание, как «самой страшной». Атмосфера гнетущего страха рождалась здесь, по мнению ученого, из незаметных переходов от реальной яви к фантастике. Особенно, отмечал Осипов, это свойство характерно для переживаний Хомы Брута, которые «могут рассматриваться как яркое эротическое сновидение, кошмар эротического характера» [587]587
Там же. С. 118.
[Закрыть].