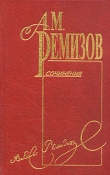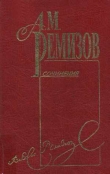Текст книги "Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя"
Автор книги: Елена Обатнина
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
По образному выражению Р. Барта, «язык предоставляет мифу как бы пористый смысл, легко способный набухнуть просочившимся в него мифом…» [455]455
Барт Р.Мифологии. С. 258.
[Закрыть]Первоначально в общении Ремизова и Розанова означаемое и означающее составляют как будто единое целое: между именем предмета и самим предметом нет смыслового зазора. Культовая необходимость назвать, «не называя», приводит к «метафорическому уподоблению» (А. Н. Афанасьев), благодаря чему появляются синонимические имена. Означаемое наполняется синкретическими смыслами: «…всякий смысл в мифологии заложен потенциально, словно в хаосе, и ни один не ограничен, не выступает как что-то частное…» [456]456
col1_0Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 169.
[Закрыть]Имя, первоначально произнесенное в сюжете с рисованием, лишено какого-либо символического и тем более сакрального наполнения. В позднейших интерпретациях появляются новые – метафорические – имена, а реальный эпизод приобретает черты мифа. Нетрудно заметить, что Ремизов использует характерный для русских «заветных» загадок прием остранения, описанный Шкловским на примере эротической сказки, когда метафора обращается в символическое имя и закрепляется за предметом [457]457
Шкловский В.О теории прозы. М., 1983. С. 20–23.
[Закрыть].
Ремизов, обращаясь к читателю, замечал: «Уже в одном „преуготовлении“ Вы слышите мотив моей гоносиевой повести» [458]458
Ремизов А.О происхождении моей книги о Табаке. С. 14.
[Закрыть]. Семантическое сближение истории о происхождении Табака с мифологией Обезьяньего Ордена создают неожиданно проявляющиеся и тотчас готовые ускользнуть мотивы. Переживания Сомова, устроившего тайную демонстрацию эрмитажного раритета, странным образом связаны с самой таинственной персоной «Обезьяньей Великой и Вольной Палаты» – царем Асыкой: «Андрей Иванович, „водрузив“ драгоценный „ларец“ – размер скрипичного футляра – на самом видном месте „под святые“, все беспокоился: „а ну – как ‘схватятся’!“. А кому хвататься, если вещь находится в полной неизвестности: никто никогда не видал и ничего не знает, как о легендарном обезьяньем царе Асыке» [459]459
Ремизов А.О происхождении моей книги о Табаке. С. 14.
[Закрыть]. Вспомним, высказывание героев «Трагедии о Иуде…» о царе Асыке: «Только что по пояс человек, а там – скот» [460]460
Ремизов А.Трагедия о Иуде, принце Искариотском // Золотое руно. 1909. № 11–12. С. 38.
[Закрыть].
Тем не менее, некоторое представление об этом центральном персонаже «тайного» общества, его окружении и ритуалах дает пересказ «Трагедии о Иуде, принце Искариотском» в статье Иванова-Разумника «Творчество Алексея Ремизова»: «…на сцену выходит, под торжественные звуки „обезьяньего марша“, сам „Его Величество царь Обезьяний, Обезьян Великий – Валахтантарарахтарандаруфа Асыка Первый“ <…> Люди, вместо орденов, украшаются „обезьяньими знаками“, фаллосами…» [461]461
Иванов-Разумник.Т. II. Творчество и критика. С. 97.
[Закрыть]Критик прямо назвал «обезьяньи знаки» фаллосами, хотя в тексте трагедии даны лишь намеки: «неподходящие обезьяньи знаки» – это «такое безобразие!»; «с таким сокровищем на шее, если не прикрываться, никуда и носа не покажешь: всякий тебя на смех подымет» и т. д. [462]462
Ремизов А.Трагедия о Иуде, принце Искариотском. С. 39. Ср. также слова Пилата: «Я Ироду-царю намедни послал, так он обиделся. Дурак! – Мало ли какие бывают знаки: у одних звезды, у других звери, а у третьих это…» (Там же. 35).
[Закрыть]
Несколько лет спустя, в Берлине, условная жизнь «Обезвелволпала» дополнилась новым ритуалом, связанным с поощрением заслуженных кавалеров «Палаты» «наградными» хвостами – знаковым отличием участников игры от неучастников. В 1922 году в «Красной газете» появилась заметка: «Шуточный литературный орден „Обезьянья великая и вольная палата“, организованная в Петрограде несколько лет тому назад Алексеем Ремизовым, чествовала в Шарлоттенбурге А. М. Горького по случаю исполнившегося тридцатилетия его литературной деятельности. Писателю была выдана следующая грамота: „Обезьянья великая и вольная палата: князья обезьяньи, вельможи, послы, толмачи, обезьяньи служки и сонм кавалеров обезьяньего знака, собравшиеся в Шарлоттенбурге на сборище, постановили ознаменовать день тридцатилетия литературной деятельности князя обезьяньего и кавалера обезьяньего знака первой степени с глобусом, Алексея Максимовича Горького – выдать из Обезвелволпала хвост обезьяний: сей хвост обезьяний носить ему при себе неотрывно, чтобы всякому понять по хвосту было, что есть за человек, чем был и чего достиг, тридцать лет трудясь на духовной работе честно и хвально“» [463]463
[Шуточный литературный орден…] // Красная газета. 1922. 10 ноября, № 38. С. 4.
[Закрыть].
В «Трагедии о Иуде…» тема «хвоста» появляется в разговоре Сибории с Зифом и Орифом, сразу же после эротической загадки: «Сибория (добродушно): Ей-Богу, прямо бесы, только что хвостов нет. / Зиф: Вот и ошибаетесь: есть – да еще какие! Ориф, покажи! / Ориф (кобенясь): Трудно вынимается. / Зиф: Врет: распетушье – так недоросток. / Сибория: Фу! – от стыда глаза горят» [464]464
Ремизов А.Трагедия о Иуде, принце Искариотском. С. 30–31.
[Закрыть]. (Здесь же присутствует и пояснение Ремизова: «распетушье» – «ни то, ни сё, кладенный, холощенный петух».) Об эротическом подтексте символа хвоста «в ритуализированной жизни обезьяньего ордена» впервые обмолвился Л. С. Флейшман: «Кстати, текст трагедии и „Кукха“ вынуждают безусловно отождествлять хвост с х(оботом), в терминологии „Кукхи“» [465]465
Флейшман Л. С.Из комментариев к «Кукхе». Конкректор Обезвелволпала // Slavica Hierosolymitana 1977. Vol. 1. S. 188.
[Закрыть]. Указание на роль «хвоста» в эротическом контексте повести Достоевского «Крокодил» находим в работе Г. Левинтона [466]466
Левинтон Г.Достоевский и «низкие» жанры фольклора // Анти-мир русской культуры: Язык. Фольклор. Литература. М… 1996. С. 276.
[Закрыть]. Возможно, Ремизов стремился подчеркнуть игровую замену (фаллос – schwanz <хвост>), существующую в разговорной форме немецкого языка, желая связать две культуры через языковые соответствия (что отразилось в его первых эмигрантских произведениях. Ср. с названиями рассказов из сборника «Ахру»: «Крюк» – от die Krücke (нем.) – костыль, клюка, изогнутый инструмент; «Альберн» – Albern (нем.) – дурашливая, пустяковая болтовня.
Ремизов намеренно усилил тайный, эротический смысл этого символа в системе собственных мифологических построений. Эротический микрокосм «Обезьяньей Палаты» вариативно мог подразумевать не только вертикальную ось смещений: фаллос хобот <-> нос, но и горизонтальную: penis хвост, – корреляцию вполне законную, если вспомнить, что «хвост» и есть первое значение употребляемого Ремизовым латинского слова. Приставленный спереди наподобие фаллоса, хвост служил иронической иллюстрацией розановской теории «бокового роста» [467]467
Розанов В. В.[Соч. в 2 т.] Т. 2. Уединенное. С. 58–59.
[Закрыть]. Отметим демонстрацию и противоположной оси анатомических смещений – в постоянном «токовании» одного из персонажей романа «Пруд», пономаря Матвея Григорьева: «Пупок у меня не на животе, а на спине этак!» [468]468
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 1. С. 78.
[Закрыть]В этой связи нелишним будет провести параллель с характеристикой, которую дает своему герою Н. В. Гоголь, иронически намекая на его нетрадиционную сексуальную ориентацию: «Иван Никифорович никогда не был женат. Хотя проговаривали, что он женился, но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что он даже не имел намерения жениться. Откуда выходят все эти сплетни? Так, как пронесли было, что Иван Никифорович родился с хвостом назади. Но эта выдумка так нелепа и вместе гнусна и неприлична, что я даже не почитаю нужным опровергать пред просвещенными читателями, которым, безо всякого сомнения, известно, что у одних только ведьм, и то у весьма немногих, есть назади хвост, которые, впрочем, принадлежат более к женскому полу, нежели к мужескому» [469]469
Гоголь Н. В.Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 2. М., 1937. С. 226.
[Закрыть].
У Ремизова эротическое значение хвоста обыгрывалось и на рисованных обезьяньих грамотах. В абстрактных формах обезьяньей печати и обезьяньей марки практически везде, хотя и неявно, присутствует фаллическая тема. К числу наиболее откровенных рисунков относится изображение на грамоте М. Пришвина 1917 года, а также на грамоте 1937 года, принадлежащей А. Керенскому [470]470
РГАЛИ. Ф. 1125. Оп. 2. № 1607; Images of Aleksei Remizov: Drawings and Handwritten and Illustrated Albums from the Thomas P. Whitney Collection. Amherst, 1985. P. 51.
[Закрыть]. Кроме того, схожий эротический мотив со всей очевидностью проявляется в обрамленном кавычками фрагменте из неатрибутированного текста о шумерском божестве на « Рыцарской» грамоте Н. Зарецкого 1933 года: «сам хýбаба медленно шел им навстречу / лапы у него как у льва, медной чешуей покрыто его тело / когти ног его точно у коршуна, рога его точно у тура / хвост его и детородный член / несут на концах своих змеиные головы» [471]471
Columbia University. The Rare Book and Manuscript Library. Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture. New York.
[Закрыть].
Другой важнейший элемент игры – гимн «Обезьяньей Палаты» («я тебя не объел, / ты меня не объешь, / я тебя не объем, / ты меня не объел!») – самым неожиданным образом утверждает в символике «Обезвелволпала» эротическую тему. Исследования лингвистов и этнографов фиксируют практически во всех культурах устойчивую семантическую аналогию между потреблением пищи и соитием: «в очень большом числе языков эти два процесса обозначаются одним и тем же словом» [472]472
Леви-Строс К.Первобытное мышление. С. 195. О метафоре «есть = любить» см.: Потебня А. А.Слово и миф. С. 295; а также: Потебня А. А.Объяснения малорусских и сродных народных песен. Варшава, 1883–1887. Т. 2. С. 730–731.
[Закрыть]. Примечательно, что манипулирование подобными словесными формами находим у Розанова: «Чем же я одолел Гоголя (чувствую)? / Фаллизмом. / Только. / Ведь он совсем без фалла. У меня – вечно горячий. В нем кровь застыла. У меня прыгает. / Посему я почувствовал его. Посему – одолел. / О, да… / Великий Боже! – какое СПАСИБО. / Это путь. Для русских – „путь Розанова“. По нему идет „смиренная овца“, „Розанов – овца“, без ума и с кое-какой жизньишкой. / Но она спокойно „по-своему“ и „по всему миру“ ест траву и совокупляется, „ажно хочется“, и всему миру дала… во всем мире возродила вновь силу и жажду и есть и (с пропуском одной буквы тоже)» [473]473
Розанов В. В.Мимолетное. М., 1994. С. 119. Запись от 10 мая 1915 г.
[Закрыть].
Установить подлинное значение глагола обезьяньего гимна позволяет один из эпизодов романа «Пруд». Его герой, чудаковатый отец Гавриил, «…от непорочности ли своей или еще от чего, за детей беспокоился: ему постоянно за обедом и ужином мерещились женщины – тысячи, миллионы женщин, которые вот пожрут и иссосут Финогеновых, а может быть, уж пожирают и сосут. Именно за совместной едой возник между Гавриилом и братьями Финогеновыми странный ритуал: …не доев еще своей тарелки, когда другие уж кончали, он сливал к себе остатки из других тарелок. Если же ему предлагали подлить свежего супу или щей или хотели в кухню унести начатые тарелки, он обижался. – Я тебя, – пищал о. Гавриил, как-то растягивая слова с пригнуской, – я тебя, душечка, объел, я тебя, Сашечка, объел? Финогеновы знали такую повадку о. Гавриила и всякий раз хором отвечали ему, повторяя по нескольку раз: – Ты меня не объел! Ты меня не объел! <…> Не унимался о. Гавриил и, увешанный капустой, лапшой, хлебными крошками, соловея, растопыривал жирные, лоснящиеся пальцы и над своей, и над чужими тарелками. – У-у <…> Колечка! пожрут они тебя… тысячи…» [474]474
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 1. С. 101.
[Закрыть]
Несмотря на подробное описание, смысл обеденного ритуала остается затемненным из-за ощущения, будто употребленные здесь слова не соответствуют своим прямым значениям. Навязчивый образ агрессивных женщин служит семиотическим знаком, переводящим контекст диалога в сферу эротического. Расшифровку этого знака находим у К. Леви-Строса: «Если в наиболее знакомой нам и, бесспорно, наиболее распространенной в мире эквивалентности мужчина занимает место едока, а женщина – пищи, то не следует забывать, что часто дается и инвертированная формула – в мифологическом плане, в теме Vagina dentata, что значимым образом „кодировано“ в терминах поедания, то есть прямо (тем самым подтверждается закономерность мифологического мышления: преобразование метафоры завершается метонимией). Впрочем, возможно, что тема Vagina dentata соответствует не инвертированной, а прямой перспективе – в сексуальной философии Дальнего Востока, где <…> искусство постели для мужчины заключается в том, чтобы не допустить поглощения женщиной его витальной силы и чтобы эту опасность использовать для своей выгоды» [475]475
Леви-Строс К.Первобытное мышление. С. 196.
[Закрыть]. Для монаха-«страстотерпца» процесс еды подспудно соотносится не только с абстрактным грехом, но и с конкретным актом прелюбодеяния. Глагол «объесть» несет в себе явно заместительную функцию, и его метафорическое значение подразумевает обманное действие: объесть → объеть = обмануть. Оставляя в стороне сарказм эпизода, в котором намерения и действия героя прямо противоположны его словам, подчеркнем, что миф, как основополагающий конструктивный принцип «Обезьяньей Палаты», возводит в обезьяньем гимне иронию глагола «не объесть» в статус позитивного действия: доминирующий смысловой оттенок этого «заклинательного» слова предполагает запрет обмана и посягательства на чужую индивидуальность.
Эротический подтекст обезьяньего гимна, в свою очередь, указывает на сакральное значение одного из трех обезьяньих слов – «гошку» (еда): оно появляется лишь в тексте «Конституции» «Обезвелволпала», и концептуальный смысл его герметичен. Вместе с тем мифологическое значение двух других слов, составляющих обезьяний «символ веры» – «ахру» (огонь) и «кукха» (влага), – поддается интерпретации благодаря книгам с одноименными названиями – «Ахру» и «Кукха», – написанным в первые годы эмиграции. Мифологическая поливалентность понятия «огонь» раскрывается и в другой книге, в заглавие которой вынесено слово «Ахру» (появившееся и объясненное здесь впервые): «Ахру – слово обезьянье на обезьяньем языке: американский ученый проф. Гарнер в африканских лесах, сидя в железной клетке, от обезьян подслушал, и наш ученый, проф. Ф. А. Браун, тут в Берлине и без клетки глаз – на глаз в Zoologischen Garten; а означает это ахру – огонь» [476]476
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 30.
[Закрыть].
В одном из альбомов Ремизова (1926) вклеена вырезка из неустановленной газеты под названием «Обезьяний язык», также, по всей вероятности, принадлежащая перу писателя: «Американский естествоиспытатель проф. Гарнер, известный исследователь обезьяньего языка, отправился в дебри Восточной Африки, чтобы там с помощью граммофона продолжить свои исследования. На мысль об исследовании языка обезьян проф. Гарнера впервые натолкнуло своеобразное поведение нескольких обезьян, которые были помещены в одной клетке с диким павианом. Он потратил много денег и времени на эти исследования; долгое время провел в первобытных африканских лесах, в железно-решетчатой клетке, чтобы удобнее и лучше наблюдать за поведением обезьян. Он утверждает, что ему удалось сделать массу любопытнейших наблюдений, которые привели его к заключению, что обезьяны объясняются между собой не только знаками, но и членораздельными звуками. Между прочим, он пишет следующее о своих наблюдениях: „я записал почти двести слов на обезьяньем языке. Так, например, (обозначая их слова по нашему способу), слово „ахру“ означает солнце, огонь и вообще понятие о тепле. „Кукха“ – вода, дождь, холод; „гошку“ – пищу, процесс еды“» [477]477
Amherst Center for Russian Culture. USA. The A. Remizov and S. Dovgello-Remizova Papers.
[Закрыть]. Следует привести и критическую оценку исследований Гарнера: «В 1892 году P. Л. Гарнер опубликовал книгу „Речь обезьян“, которая вызвала громадный интерес, поскольку он заявил, что узнал около 40 слов обезьяньего языка. Однако эта книга настолько фантастична и ненаучна, а интерпретации в ней настолько экстравагантны, что, по-моему, ее вообще не следует принимать во внимание, поскольку более тщательные исследования ученых полностью опровергают ее выкладки» [478]478
Лангер С.Философия в новом ключе: Исследование символики разума, ритуала и искусства. М., 2000. С. 95. См.: Gamer R. L.The Speech of Monkeys. New York, 1892, а также: Безродный М.Об обезьяньих словах // Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 153–154.
[Закрыть]. В черновой записи С. Я. Осипова, озаглавленной «Слова и письмена обезьяньи», присутствует следующая версия: «Слова: слова обезьяньи подслушаны от обезьян и записали ученые, – американский] ученый проф. Гарнер, сидя в африканских] лесах, в железной клетке, и наш ученый, проф. Ф. А. Браун, в Берлине в Zoologischen Garten, без клетки с глазу на глаз. <…> Ахру – огонь, свет. Кабал – балал – книги с автографами (художников?). Кук – ха – суть жизни (?)» [479]479
ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. № 13. Л. 40.
[Закрыть].
После выхода в свет книги «Кукха», посвященной В. В. Розанову, это обезьянье слово, переведенное автором как «влага», дало мифологическое имя всему комплексу представлений об образе философа. Воссозданный в книге вдохновенный момент рождения сакрального слова насыщен эротической космогонией. И если первое из приведенных определений – «влажность сквозьзвездья» – может показаться поэтической метафорой, то сексуальная направленность последующих за ним метонимий очевидна: «…живая влага, Фалесова hugron, мировая „улива“, начало и происхождение вещей, движущаяся, живая, огненная, остервенелая, высь скори, высь быстри, высь бега, жгучая, льнущая – / я скажу – / на обезьяньем языке словом – одним / словом: / кук – ха – / кук – ха! / Кукха, проникающая мир сквозь звезды, устой подзвездья, сама живая жизнь, живчик, семя, выросшее и в букашку и в козявку 3 ½ миллиона в Лондонском музее всяких разных козявок, смотрите! – и в человека с беспокойной, как сама кукха, мыслью от Фалеса до – / кукха, проникающая в кукху, / самопознающая! / кукха, вырывающаяся из себя – / хочу знать само! / кукха, где все – / одно сердце, / одна жизнь, / букашки, козявки, таракашки, / слоны, / медведи, / коровы, / люди – / вырастающая человеком / в самочеловека – / в пирамиду / В.В. / Розан– / ов» [480]480
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 88.
[Закрыть]. Последними строками, графически изображающими пирамиду с обращенной вниз вершиной (так же завершался и каждый из «Заветных сказов»), автор подчеркнуто демонстрировал фаллическую символику, с которой у него ассоциировалось имя философа.
Критерии художественности
К концу 1920-х годов, когда за А. М. Ремизовым закрепилась слава признанного мастера стиля, почти все произведения писателя рецензировались в весьма благожелательном тоне. Идиллию нарушил известный религиозный философ И. А. Ильин, который в начале 1931 года приступил к чтению цикла, состоявшего из четырех публичных лекций, в Русском Научном институте при Берлинском университете. В письме от 28 декабря 1930 года он сообщал писателю: «Читаю в этом году от Русского] Научн[ого] Института по-немецкив помещении здешнего университета курс в 6 лекций (двухчасовых) – о Современной русской худож[ественной] литературе. „Введение“ и „Шмелев“ – прошли. Теперь идет прежде всего „Ремизов“ (13 января). Я был бы Вам очень признателен, если бы Вы мне написали, какиеВаши произведения и в каком изданиивышли по-немецки – я их перечислю на лекции. <…> Сто лет мы с Вами не виделись (с 1927 года)» [481]481
Amherst Center for Russian Culture, USA. The A. Remizov and S. Dovgello-Remizova Papers. Через три года Ильин прочел в Берлине, в помещении Вернер Сименс Реальгимназиум лекцию «Творчество Ремизова» на русском языке. Сообщение об этом имеется в письме Ильина к Ремизову от 28 июля 1934 г. (Там же).
[Закрыть].
Вероятно, в ответ на приятное сообщение Ремизов отправил в подарок Ильину вышедший в Париже двухтомник «Три серпа. Московские любимые легенды» (1929). Книга, хотя отчасти и состояла из уже известных притч, тем не менее, была значительно дополнена новыми текстами, раскрывающими феномен русского культа святого Николая Мирликийского. В ней широко использовались византийские жития Метафраста и Николая Сионита, легенды, возникшие позднее в Европе, а также славянский фольклорный материал. Первые ремизовские обработки народных сказок и легенд о Николе были созданы в Петрограде и включены в сборники военной поры «За святую Русь» (1915) и «Укрепа» (1916). Однако уже в 1917 г. писатель сформировал целый сборник «Николины притчи». Второй сборник «Никола милостивый. Николины притчи» (М.-Пг., 1918) вышел в издательстве «Колос» и представлял собой небольшую книжку, составленную из ранее опубликованных пяти сказок. Позже в эмиграции был издан сборник «Звенигород окликанный. Николины притчи» (Париж, 1924), повторивший, за исключением первого текста, все сказки о Николе, написанные в России. Особенность книги также заключалась в присоединении второй части, под названием «Жерлица дружинная», состоявшей из текстов Ремизова, сочиненных к картинам Н. К. Рериха. Об этом дополнении З. Гиппиус писала в своей рецензии на сборник: «Следует пожалеть, что „Николины притчи“, как книга, испорчены приложенной к ней „Жерлицей Дружинной“ („к картинам Рериха“). Не вдаваясь в критику „Жерлицы“, скажу лишь, что, пристегнутая к „Николе“, она есть верх безвкусия. Тут, впрочем, согласны все, не исключая и самого автора, к чести которого надо заметить, что неудачное соединение совершилось по „независящим от него обстоятельствам“» [482]482
Крайний А.[Рец.] А. Ремизов. Николины притчи // Современные записки. 1924. № 22. С. 449.
[Закрыть].
Поэтика Николиных легенд в ремизовской обработке показалась Ильину столь существенной (особенно в контексте его большой теоретической работы об эстетическом каноне), что он обратил свои замечания непосредственно к писателю. Совсем скоро Ремизов прочитал о своей книге неожиданно резкие слова:
«…не могу (не] сказать Вам от себя, что Легенды о Николе в Трех Серпах меня огорчили. Это играющее смешивание эпох производит впечатление иронического отношения к сюжету:как заведомо и наверное не могло быть такого междуистороического все-смешения – так значит автор и к самим чудесам Николая Угодника относится заведомо несерьезно, с играющей насмешкой. Вот осадок от чтения, и Вы представить себе не можете, дорогой Алексей Михайлович, какая темная, протестующая грусть родится от этого вдруг: как если бы кто-нибудь священному Предмету зачем-то язык показал <…>. Курс мой о „Современной русской литературе“ собирает людей, хотя могли бы ходить и больше. <…> Говорил я о Вас 1½ часа (без перерыва)…»
Содержание ответных разъяснений писателя на эти короткие, но принципиальные критические замечания философа отражает фрагмент текста из записной книжки Ильина, датированного 2 февраля:
«Ремизов пишет мне, что он избрал „живописный метод“; что он решил „нарядить“ легенды „в современность“; что „военачальников“ он может себе представить только „командирами, комиссарами карательного отряда“ – что это „живая жизнь“: „не усечение мечом“, а „к стенке“» [483]483
Ильин И. А.Собр. соч.: Письма. Мемуары. (1939–1954). М., 1999. С. 292.
[Закрыть].
Накануне, 1 февраля, Ильин отправил Ремизову большое письмо, значительные отрывки которого совпадают с упомянутым конспектом [484]484
См.: Там же. С. 289–293.
[Закрыть]:
«Дорогой Алексей Михайлович!
Пришла такая полоса, что я за все Ваши жизненные и литературные дары, и зная о том, что мы все должны Вас беречь и радовать, – могу отвечать Вам только одними огорчениями.
Что же мне делать?
I. На Ваше последнее письмо: нетмоего согласия, а почему – тому следуют пункты.
1) Вытерзанные из лекции моей фразы о Вас я сообщил Вам строго доверительно. Ни одна мать не согласится показывать всем желающим глаза и нос своего нерожденного еще на свет младенца. Это было духовно и эстетически – противоестественно. Так же испытываю и я.
2) Моя лекция о Ремизове не эксцесс, а начало подведения итогов долгой лабораторной работы. Дело идет о новом критерии художественности, след[овательно] о новой эстетике и новой литературной критике. Здесь весит все и каждое слово. Здесь все очень ответственно. Без обоснованиявсе будет продешевлено и пущено на ветер. Тут весит и даи нет; нельзя публиковать отрывки из конкретного да,по чьему-либо адресу. Опыт о Ремизове должен быть опубликован целиком, так же как и другие опыты [485]485
Вероятно, Ремизов предложил Ильину опубликовать лекцию, прочитанную в Берлине, в парижском журнале «Современные записки», рассчитывая обратить внимание эмигрантской публики на свое творчество.
[Закрыть].3) Питаю органическую неприязнь к эфемерным начинаньицам, лишенным идеи или имеющим „идею“, обратную тому, что необходимо России. Что такое „Слоним“?! Не знаю. Но что такое Осоргин, знаю хорошо: литературная вошь.
4) Литературесочувствую. Вы художники можете печататься даже и в Современных Жописках (кажется, я описался! pardon!), но выпускать мои первые критические суждения в отделе рекламы– не согласен; да еще у Осоргина.
Нет– пускай „слонят“ без меня. „Да благослови Вас Бог, а я не виноват“.
Поэтому всячески протестую против Вашего, психологически мне столь понятного, замысла.
Что значит „замалчивают“? А меняне замалчивают? Разве „Русский колокол“ всене замалчивают, в том числе и П. Б. Струве? [486]486
Подразумевается «Русский колокол. Журнал волевой идеи», нерегулярно выходивший в 1927–1930 гг. в Берлине под руководством И. А. Ильина. Начиная свое издание, Ильин рассчитывал на поддержку П. Б. Струве, однако за четыре года существования журнала в нем так и не появилось ни одной его статьи.
[Закрыть]„А ты себе своей дорогою ступай“: помолчат (это вроде лая) и сами будут забыты историей. Ведь эти писакивсегда так: онивоображают, что это они делают писателей!.. Разве можно „замолчать“ Ремизова. Его можно критиковать; и эта критика будет делом литературы, а не писачества. Но важнее то, чтó Ремизовдумает о Зайцеве и Маковском, чем то, что Макайцев и Заковский считают нужным неписать о Ремизове.
Вы, дорогой Алексей Михайлович,
должны отвыкнуть ходить „стаями“– „по-шестовски“ (Кукха) [487]487
Подчеркнуто Ремизовым красным карандашом. Имеется в виду цитата из книги «Кукха»: «Пошли к Мережковским. А от Мережковских к Розанову стаей по-шестовски. (Это Шестов завел такое: если уж куда идти, так с дружиною)» ( Ремизов А. М.Т. 7. С. 49).
[Закрыть]; это – литературный „свальный грех“, который избаловывает душу. Приучая ее к непрерывному взаимно-уловлению и взамнореагированию не только в период зачатия (conceptio non immaculata [488]488
зачатие ненепорочное (лат.).
[Закрыть]или просто: maculata [489]489
запятнанное (лат.).
[Закрыть]), но и в состоянии беззачатного мысле-пере-броса… Иными словами: не огорчайтесь, дорогой, что „молчат“; верьте в „друга-читателя“ и оставайтесь „сами своим высшим судом“…II. Позвольте еще два слова о „канонах“.
Нет, я не ханжа; и вообще; и в частности в области казенно-штампованной агиографии. Бесконечно жалею о том, что мы с Вами видимся мало. „Стаю“ я Вам бы не заменил (где уж нам уж…); и „кукху“ я бы не развел; а может быть творческую „ахру“ (в отличие от разрушительной „ахры“), мы с Вами и развели.
Я имел в виду другое. Верю, что Вы „язык не показывали“; и на сем укоре гипотетически не настаиваю. Я имел в виду следующее.
Есть художественный закон вероимности, не мною сочиненный, но мною (но „для себя“, а может быть потом и „для других“) открытый. Читательское художественное воображение должно иметь возможность веру яти реченному; и колебать или подрывать эту веру нельзя. Мало того, и напрягать эту веру, эту доверчивость к даваемым образам, т. е. к их реальности (к тому, что это так всамделе было!) – можно только до известной степени.
Напр[имер], рассказать, что три волка съели друг друга – можно только под занавес – это равносильно тому, что захлопнуть крышку фантазии, или коротко говоря „невообразимое да не изображается“.
Эта граница может переступаться на разные лады. Вы подходите к этой границе, напр[имер], когда пишете:
„Не отстают за чумичелой в острых хохолках пери и мери, нуды и муды шуты и шутихи ягиные: сцепились куцые ногами и руками, катаются клубком, как гаденыши“ [490]490
Цитата, используемая также и в книге, взята Ильиным из ремизовской «Русалии» (Берлин; Пг.; М., 1922. С. 30).
[Закрыть].Это – великолепно: но уже на гранивообразимого и изобразимго. Это подход к границе – через истончение или улетучение образа; воображение соглашаетсяна это, если ведет большой мастер и если ему (воображению) есть за чтозацепиться („острые хохолки“, „шуты и шутихи“, „куцые“, „руками и ногами“ etc.).
В „Николиных легендах“ Вы переступаетеэту грань и не через „истончение“ или „улетучение“ образа, а через
смешение– заведомо не уживающихся атрибутов.Нельзя рассказывать, – пишет он, – напр[имер], о том, что „Иван Царевич – забеременел, и что у него прекратились месячные“…; нельзя рассказывать о том, что „Марья Царевна сама себя выплюнула и потом сама себя опять проглотила“, – т. е. можно, но это загранью художественности [491]491
Напротив этих строк с начала абзаца имеется помета рукой Ильина: «Это не из Ремизова, а из Ильина».
[Закрыть]. Так, нехудожественен миф о Зевсе, рожавшем из головы и из прочих частей тела; нехудожественны картины, на коих Бог тащит Еву из Адамова бока; нехудожественен рассказ о святом, „прелюбезно лобызавшем“ свою отрубленную голову.Все это нарушает законы образного плана в искусстве, подобно картине Пикассо – разложившего на куски лица по различным углам полотна.
В „Николиных притчах“ – Вы нарушаете закон вероимности совсем по-особому: заведомым, вопиющим анахронизмом. При первом же анахронизме – воображение спотыкается и говорит: „Э-э! Да это он нарочно“ или „ах, это просто выдумка“ – оно тотчас же перестает верить и больше воображать не хочет.
Полет Николы на ковре-самолете нарушает тот же закон вероимности, но еще иначе: в легенде о чуде – вероимность обострена с самого начала, доверчивость воображения необходимо беречь по-особому, ибо эта доверчивость священно-трепетная и религиозная. Вплести ковер-самолет может простонародье, для которого религияи сказкасращены в магии: в магическом мифедуховный опыт у простонародья недифференцирован, примитивен – там искусство не выделилось из жизни, там собирается только материалдля художественности, а самое художественное произведение еще надо создать отбором. Там все идет „durcheinander, wie Mäusdreck und Koriander…“ [492]492
Дословно: вперемешку, как мышиный помет и кориандр (нем.).
[Закрыть]И вот вероимность священно-трепетного, религиозноговоображения, которое особенно чутко, но зато готово верить в подлинную окончательно-жизненную реальностьрассказа – нельзя разочаровывать „ковром-самолетом“, т. е. говорить: религиозное и сказочноеесть одно и то же.
Измерение религиозно-художественное и сказочно-художественное имеют разныевероимности; и несоблюдение этой грани – убивает и разочаровывает всякуювероимность. А с погасшей вероимностью – кто же может и хочет читать художественное произведение. „Мемуарная“ и „повествовательная“ формы с „точными“ деталями быта стремится подкрепить вероимность в душе читателя; анахронизмы, срывающие бытовую достоверность, а также смешение сказки с легендою – угашают художественную вероимность. Читатель очень остро чувствует, что „эта бывальщина– небывальщина“; что это как бы балагурство о священном (ибо Никола – это священное); или еще хуже, что это разочаровывающее трактование священного – и протестует.
Если Вы хотите непременно „нарядить в современность“, то оставьте совсембытовой аксессуар четвертого или девятого века Византии! Никола может и долженявляться красноармейцам и комсомольцам. Это будет вероимно. Он может явиться к машинисту, к летчику, к члену совнаркома. Но сам летать на аэроплане он неможет, ибо он материализуется в пространстве, где хочет. Можно и „комиссаров“ к „стенке“ (такие случаи известны), но напр[имер], газовую бомбу он бросать не должен. Здесь есть художественные законы, преступание коих вредит делу.
Один комсомолец кощунственно с руганью выстрелил Николе в глаз; пуля рикошетом убила его самого в глаз наповал. Это в художественном смысле еще „не сделано“, но как образ-сюжет – вполне вероимно. И т. д. Простите мне эту диссертацию! Когда сто лет думаешь над чем-нибудь, живя и чувствуя, – то не дай Бог колупнуть; так и попрет. Но вот потому и прошу Вас – ничего не печатайте у „слоняющихся Осоргиных“ или у „осоргинских слонят“ из моего. Это будет духовно неверное делои я запротестую.
Душевно Вас обнимаю, и надеюсь, что Вы не опалитесь на меня за критику. Пущай будет так: „Ильин лает, а ветер носит“. А если я замечу, что Вы опалились на меня – тогда крышка, только Вы моих „откликов“ и видели. Каюк! <…>
«Новый критерий художественности», о котором шла речь в письме, был сформулирован Ильиным в трактате «Основы художества. О совершенном в искусстве» (1937). Согласно этому высшему эстетическому принципу, художественная материя(словесные средства, используемые автором) трансформируется в художественный образ(внешние и внутренние образы, предоставляемые автором), чтобы в конечном итоге воплотиться в художественном предмете(внутреннем авторском замысле, жизненно-духовных откровениях, к которым ведет автор читателя). Концептуальное ядро критики Ильина покоится на знаменитой триаде гегелевской философии (тезис – антитезис – синтез), используемой для схематического описания рождения совершенного искусства (материя – образ – предмет). Рассуждая о природе творческого акта, Ильин сформулировал и критерий художественного совершенства,которое достигается при условии, если «зрелый, цельный, точный, необходимый образ» подчинил себе эстетический план произведения, «а точность и необходимость образа определяются содержанием присутствующего в нем и развертывающегося в нем художественного предмета» [494]494
Ильин И. А.Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Кн. 1. М., 1996. С. 126.
[Закрыть]. Образ, создаваемый писателем не самодовлеющ, он всецело подчинен художественному («эстетическому») предмету: «Эстетический предмети есть то, что поэты и писатели предлагают людям для медитации – в одеянии описывающих слов и под покровом описанных образов. Чем духовно значительнее предмет и чем художественнее его образная и словесная риза, тем более велик художник, тем глубже его искусство, тем выше его место в национальном и мировом пантеоне» [495]495
Там же. С. 203.
[Закрыть].