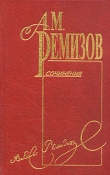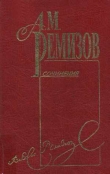Текст книги "Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя"
Автор книги: Елена Обатнина
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Размышления о сути бытия, облаченные в яркую художественную форму, образуют своеобразный центр «Огня вещей». Онтология буквально «прорастает» через все повествование и поднимается над ним темой «огня вещей», реальный смысл которой раскрывается в процессе чтения. Уже само название книги отчетливо указывает на натурфилософский дискурс, совершающий переход от мифа к логосу, и потому предоставляет широкие возможности для интерпретации. Согласно древнегреческой и древнекитайской традиции, «вещи» вбирают все сущее, окружающее человека, включая и его самого. Метафорический символ «огня» также восходит к натурфилософии, выделяющей эту стихию как одно из первоначал бытия. По Ремизову, художник идет единственно возможной «дорогой странника», «очарованного пустотой призрачного вийного мира, огнем вещей и чарующего своим волшебным вийным словом» [870]870
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 149.
[Закрыть]. «Огонь вещей» – это сама жизнь. Такое толкование находит свое подтверждение и в подписи к одному из немногих рисунков, опубликованных в книге: «Огонь вещей / Вещи жгут и в своем огне / распадаются / погасая в пепел». Все сущее – жизнь, бытование, существование – сгорает, в том числе и слова.
Оригинальные рассуждения Ремизова «о мыслях и словах» как отражениях глубинной сущности человеческой жизни складывались в единую систему мировоззрения постепенно. Понимание окружающего мира как бытия, а слова как его первоначала пришло к писателю не сразу. Впервые в его сознании метафора «огонь» из отвлеченно-умозрительного поэтического образа обратилась в чувственно-конкретную сущность в годы революции.
Ощущая себя свидетелем исторических событий, подобных древним космогоническим метаморфозам, Ремизов написал в 1918 году поэму «О судьбе огненной», в основу которой положил восходящую к натурфилософии Гераклита апологию Огня – первоосновы мироздания, главенствующей силы космического катаклизма, несущего и гибель, и возрождение Вселенной: «Пожжет огонь все пожигаемое. / В огненном вихре проба для золота / и гибель пищи земной. / И вместо созданного останется / одно созидаемое – / персть и семена для роста». Именно в этот трагический момент мировой истории Ремизову раскрылся внутренний смысл назначения писателя, описывающего мир и человека в этом мире при помощи слов, и слово обрело статус такого же первоначала бытия, как и огонь: «И я как вырос / И одно чувство наполнило мое, как мир, огромное сердце. / И сказалось пробудившим меня от моей падали словом – / У меня тоже нет ничего и мне нечем делиться – я уличный побиральщик! – но у меня есть – и оно больше всяких богатств и запасов – у меня есть слово! И этим словом я хочу поделиться: сказать всему разрозненному избедовавшему миру – / Человеку, потерянному от отчаяния беспросветно – / Человеку, с завистью мечтавшему о зверях – человеку, падающему от непосильного труда в жесточайшей борьбе – быть на земле человеком – / Уста к устам / И сердце к сердцу!» Всякому огню надлежит обратиться в пепел. «Яверую в пепел. И когда курю, сыплю на пол, не в пепельницу, и на рукопись, и куда попало, серый пепел. А исповедую огонь. Тогда в „огневице“ и мысль родится и воображение. И весь мир в „жару“ цветет. А из пепла первой же воскресной весной восстанет жизнь, верю и пропада не боюсь, подойдет оно и подымет. Кто оно? Пламя – желанное сердце» [871]871
Ремизов А. М.В розовом блеске. С. 328.
[Закрыть]. Огонь возникает «из самой природы вещей, поджигателей не было, и не будет» [872]872
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 167.
[Закрыть]. Самое очевидное воплощение вселенского пожара – «всепожирающее время»: «всякая жизнь на земле, будь она райская или насекомая, проходит под знаком всепожирающего времени: коли живешь, плати оброк смерти» [873]873
Там же. С. 139.
[Закрыть].
Семантическое сцепление мифологем «огонь» и «вещь» подразумевает другую первооснову сущего – «слово». «Огонь слов» – так Ремизов охарактеризует художественное дарование Достоевского, «растрепанные фразы» которого, «по встрепету ни с чем не сравнимые, единственные, навсегда памятные», рождают огонь мыслей и чувств: «Это как у Аввакума – не писатель – в канун венчающей его огненной судьбы: огонь слов» [874]874
Там же. С. 335.
[Закрыть]. Метафора «огонь вещей» напрямую соотносится Ремизовым с творчеством как таковым – не только с особенным гоголевским зрением, позволявшим ему видеть сквозь пелену Майи, но и с даром Достоевского, в словесном пожаре текстов которого «сгорают все занавешивающие мысль словесные украшения и всякие румяна показной мысли, обнажая исподнюю мысль» [875]875
Там же. С. 330.
[Закрыть]. Сочинитель более, чем любой другой человек, наделен даром слова; он дает имена вещам, оживляя их, вдыхая в них душу – но, когда умирает мысль, обрывается и единственная нить, связывающая человека с подлинным бытием. Именно так, по Ремизову, погасив «огонь вещей», покончил с собой Гоголь.
Ремизов на протяжении тридцати пяти лет создавал свой миф о Гоголе. Подобную практику можно было бы назвать вполне характерной для литературы начала XX столетия, если бы не принципиальные отличия между ремизовским и традиционным подходами к феномену Гоголя. Литераторы-модернисты, как правило, использовали различные сюжеты из произведений и события из жизни писателя-классика, вольно или невольно накладывая на гоголевский образ отпечаток собственных схем. Ремизов, выстраивая миф о душе и мире, напротив, руководствовался тем, что за метафорами и символами стоит судьба реального человека. Оттого идейное наполнение этого образа исполнено в «Огне вещей» подлинного трагизма. Гоголь – демон, «подобиечеловеческое» (розановская характеристика, отмеченная Ремизовым в «Природе Гоголя» эпитетом – «бесподобная»), «посвященный», принадлежащий к невидимому миру, хранящий память о своем глубочайшем сне – «о любви человека к человеку» [876]876
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 140.
[Закрыть]. «С сердцем угольночерным, черствым, пустынным» [877]877
Там же. С. 156.
[Закрыть], он был выгнан «из пекла на землю за какое-то доброе дело» [878]878
Там же. С. 155.
[Закрыть]. И здесь, на этой «живой земле», где человеческое существование отравлено страхом и страстями, память писателя о любви к человеку со всеми слабостями и пороками обрекла его «рожоное» (то есть от рождения наделенное волшебным знанием) сознание на противоборство осуждения и понимания, отторжения и притяжения. «Став человеком, он посмотрел на мир – наваждение чудовищного глаза, огонь вещей – люди живут на земле в гробах и под землей в гробах доживает их персть, человек вероломен, вор и плут, глуп и свинья, а власть над человеком страх» [879]879
Там же. С. 136.
[Закрыть].
Сравнение Гоголя с «нечистой силой» – общее место в литературе Серебряного века. Розанов не только писал, что Гоголь был «внушаем» и «обладаем» в том смысле, что между ним «и совершенно загробным, потусветным „х“ была некоторая связь, которой мы все или не имеем, или ее не чувствуем» [880]880
Розанов В. В.О писательстве и писателях. М., 1995. С. 75.
[Закрыть], но и утверждал: «никогда более страшного человека… подобиячеловеческого… не приходило на нашу землю» [881]881
Розанов В. В.Опавшие листья. Короб первый // В. В. Розанов. Уединенное. Т. 2. М., 1990. С. 315.
[Закрыть]. Мережковский в своей знаменитой статье «Гоголь и чёрт» прямо изображал Чичикова, а через него и самого автора «Мертвых душ» как воплощение и метаморфозу мирового зла: «Чичиков и Хлестаков – это две ипостаси вечного и всемирного зла – черта» [882]882
Мережковский Д. С.Гоголь. Творчество, жизнь и религия // Д. С. Мережковский. Полн. собр. соч. М., 1914. Т. XV. С. 228.
[Закрыть]; «Чичиковского было в Гоголе, может быть, еще больше, чем хлестаковского» [883]883
Там же. С. 229.
[Закрыть]. В стремлении Гоголя «очистить мутное сердце» Мережковский находил лишь повод для сарказма: «его бесконечная возня со своими добродетельными правилами <…> безнадежное „устроение души своей“ – что-то в роде „китайской головоломки“» [884]884
Там же. С. 228.
[Закрыть]. Сравнивая судьбу Гоголя с судьбой героя андерсеновской сказки, литератор вовсе не верил в его окончательное спасение: «Бедный Гоголь, бедный Кай! Оба замерзнут так и не сложив из льдин слова „вечная любовь“» [885]885
Мережковский Д. С.Гоголь. Творчество, жизнь и религия. С. 228.
[Закрыть]. Схожую мысль высказывал и Андрей Белый, утверждая, что дар Гоголя был ограничен: он «знал мистерии восторга, и мистерии ужаса – тоже знал… Но мистерии любви не знал. Мистерию эту знали посвященные…» [886]886
Белый А.Гоголь // Весы. 1909. № 4. С. 77.
[Закрыть]
В своей работе над «Огнем вещей» Ремизов определенно учитывал эту символистскую традицию художественно-критической интерпретации. Отмечая, что образ Гоголя, сочетающий демоническое и трагическое начала, по своему духовному складу близок образу Лермонтова, он указывал и на источник этой мысли короткой фразой: «Замечено В. В. Розановым: „смехач“, „вывороченный чорт“ Гоголь и „демон Лермонтов“» [887]887
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 158.
[Закрыть]. Розановскому «подобию человеческого» автор «Огня вещей» противопоставлял Гоголя-кикимору – не темную и злобную, а добродушную и несчастную, в которой все «от лесавки и человека» [888]888
Там же. С. 241.
[Закрыть]. Недаром он так сокрушался, что Розанов пренебрег своим незлобивым, случайно сорвавшимся по отношению к Гоголю: «кикимора!» [889]889
Там же.
[Закрыть]В другом случае, цитируя отрывок из исповеди Чичикова, – «Вот, скажут, отец, скотина, не оставил никакого состояния», – Ремизов поместил лапидарное замечание: «Эту „скотину“ Розанов не мог простить Гоголю» [890]890
Там же. С. 193.
[Закрыть]. Что, в свою очередь, отсылает к известному розановскому пассажу из этюдов о Гоголе: «Какой ужас, какое отчаяние, и неужели это правда? Разве мы не видели на деревенских погостах старух, которые сидят и плачут над могилами своих стариков, хотя они оставили их в рубище, в котором и сами жили? Разве, видя отходящим своего отца, где-нибудь дети подходят к матери и спрашивают: „останемся ли мы с состоянием“?» [891]891
Розанов В. В.Легенда о Великом Инквизиторе. Два этюда о Гоголе. СПб., 1906. С. 18.
[Закрыть]Словно продолжая вести диалог с Розановым, Ремизов предложил весьма оригинальное объяснение душевной черствости главного героя «Мертвых душ»: «Но и то подумать, отец ли это Чичикову, вымещавший на его ушах свои сомнения в верности жены и свою обиду?» [892]892
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 193.
[Закрыть]
В отличие от литераторов-современников, Ремизов был убежден, что Гоголь владел даром любви и выражал его посредством слова. Оттого и мысль, несомненно адресованная автору статьи «Гоголь и чёрт», звучала столь полемически остро: «На театре чёрт у места, но на суде о человеческих судьбах пора прекратить забавляться „чёртом“» [893]893
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 165.
[Закрыть]. По Ремизову, сама природа Гоголя совмещала противоборствующие силы: «засмеяв своим инфернальным смехом и сам не зная, для чего, и свою жалость <…> к „мизерному“ человеку, задушенному жабой <…> выжегши смехом и свою любовь единственную, выдержавшую пятилетний „век“, любовь Старосветских помещиков» [894]894
Там же. С. 156.
[Закрыть]. Но есть в гоголевской памяти «и страда и жалость, то несгораемое ни на каком огне, что прорывается и светит белым самым жарким и самым пронзительным светом» – боль человеческая, «а эта боль неразрывна со всей сущностью „всего“ и мир начался с боли и очищение мира через крестную боль и родится человек из боли и то, что называется „счастьем“ – мое горькое счастье! – неуловимое, но вспоминаемое до боли…» [895]895
Там же. С. 156–157.
[Закрыть]. Именно благодаря знанию об этой боли, демонической душе Гоголя открылись озаренные светом любви видения, которые он гениально описал в малороссийских, в петербургских повестях и даже в своей знаменитой поэме: «…Да прочитайте начало „Мертвых душ“, откуда взяться тоске и грустной России?», – утверждает Ремизов, опровергая пушкинское: «Боже, как грустна наша Россия!» [896]896
Там же. С. 151.
[Закрыть]
Гоголь для Ремизова – первый и избранный среди писателей, «только Гоголь делал словесные вещи», и в то же самое время он «сам по себе кипь и хлыв слов, без сюжета и без материала». Гоголь – творец, создатель художественного бытия, которое появляется и оживает вместе с «чарующим, волшебным, вийным словом». «Гоголь родился посвященным: в детстве ему слышались голоса; внешне это выражалось в том, что у него текло из ушей; и с ранней юности его не покидала мысль совершить какое-то важное дело, которое и означит его жизнь. Конечно, он умер без такого сознания совершенного дела, очень хорошо понимая, какой величайший дар ему был отпущен – владеть, как никто, словом» [897]897
Там же. С. 267.
[Закрыть]. Такое толкование прямо опровергает суждения Розанова: «Известен взгляд, по которому вся наша новейшая литература исходит из Гоголя; было бы правильнее сказать, что она вся в своем целом явилась отрицанием Гоголя, борьбою против него» [898]898
Розанов В. В.Легенда о Великом Инквизиторе. Два этюда о Гоголе. С. 15.
[Закрыть]. Критик-философ, который не мог не ценить литературный дар признанного классика, отказывал ему в умении раскрыть душу своих героев – «двигатель всех видимых фактов» (таким талантом, по Розанову, отмечены произведения Тургенева, Толстого и Достоевского): «Гениальный художник всю свою жизнь изображал человека и не мог изобразить его души» [899]899
Розанов В. В.Легенда о Великом Инквизиторе. Два этюда о Гоголе. С. 21.
[Закрыть]. Достаточно вспомнить его негативное мнение о поэме «Мертвые души»: «у всех этих героев мысли не продолжаются, впечатления не связываются, но все они стоят неподвижно, с чертами, докуда довел их автор, и не растут далее внутри себя, ни в душе читателя, на которую ложится впечатление <…>. Это – мертвая ткань, которая каковою была введена в душу читателя, таковою в ней и останется навсегда» [900]900
Там же. С. 265.
[Закрыть].
В свою очередь, Ремизов, когда его работа над книгой о снах в русской литературе еще только начиналась, писал литератору В. В. Перемиловскому: «Я верю в Силув напоенность Слова и мне кажется М[ертвые] души I ч. величайшей своей, несравненной, силой слова зачарует русским» [901]901
Собрание Резниковых, Париж. Набросок письма В. В. Перемиловскому от 18 сентября 1929 г.
[Закрыть]. Вариации этой мысли позже попадут и на страницы книги: «Чары Гоголевского слова необычайны, с непростым знанием пришел он в мир. Еще при жизни образовался „оркестр Гоголя“: имитаторы, кописты и ученики. <…>. Из „оркестра“ Гоголя вышли: Достоевский, Аксаков, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Писемский, Мельников-Печерский» («Судьба Гоголя»); «Толстой следует Гоголю… У обоих изощренность зрения: мир явлений – пестрота Майи, непроницаемая простому глазу, для них сквозная. <…> Растолковать таинства, как это сделал Гоголь, и разложить таинства, как это сделал Толстой, одно и то же» («Гоголь и Толстой»). «А между тем вся русская литература вышла из Гоголя и без „Мертвых душ“ не было бы и „Войны и мира“» [902]902
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 194.
[Закрыть].
Пожалуй, наиболее пристальное внимание литературно-философской критики приковывала к себе тема смерти художника. Уход Гоголя часто рассматривался как определенный нравственный урок, причина которого лежала в душевной смуте последних лет жизни писателя. Затрагивая эту тему, Белый и Мережковский цитировали слова из повести «Вий», относящиеся к Хоме Бруту: «умирает Гоголь со страху» [903]903
Весы. 1909. № 4. С. 72.
[Закрыть], и «„он умер от страха“, так же, как Гоголь». Оба заключения пересекались и с розановским: «Он умер жертвою недостатка своей природы» [904]904
Розанов В. В.Легенда о Великом Инквизиторе. С. 21.
[Закрыть]. Для Ремизова творческая жизнь «вывороченного чёрта» – это всего лишь ряд сновидений: «Гоголь в каждом своем сне воплощается в человека… <….> А дальше что? Чтобы на это ответить, надо проснуться не тут на земле, а там: умереть – уснуть» [905]905
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 152.
[Закрыть]. Единственный выход искупить вину собственного «грехопадения» – это добровольное самопожертвование.
Поэтому автор «Огня вещей» толкует смерть Гоголя как «подвиг – жертву»: «Из высших миров сновидений Гоголь проснулся. <…> Пробудившись, Гоголь принес последнюю жертву и, гася „огонь вещей“, уморил себя голодом» [906]906
Там же. С. 159.
[Закрыть]. Ремизов подчеркнуто отделяет смерть художника от физической гибели человека, сознательно умертвившего собственную плоть: «Отказавшись от своего несметного богатства слова, Гоголь сам погасил огонь вещей. Подвиг самосожжения ничтожен перед голодной казнью» [907]907
Там же. С. 157.
[Закрыть]. Смерть Гоголя – проявление его собственной воли [908]908
Там же. С. 150.
[Закрыть], которое понимается как «жестокий, но единственный исход» [909]909
Там же. С. 159.
[Закрыть]. И наконец, в интерпретации Ремизова смерть Гоголя имеет значение нравственного очищения: умереть – значит уснуть, чтобы проснуться в тех «заоблачных высотах», дорога к которым, по мнению Андрея Белого, была Гоголю заказана.
Залогом перерождения и достижения духовной цели – предстать перед Богом в незапятнанных одеждах – является извечная память Гоголя о «добром деле». Поэтому автор «Огня вещей» и пишет о том «пронзительном свете», который открывается Гоголю в его предсмертный час – свете любви и жалости к людям, живущим в его памяти. В представлении Ремизова, гоголевское «вийное слово» зачаровало «мертвую душу мира», вдохнув в нее жизнь, наполнив красками, звуками и чувствами: «…На последней дороге в канун своего отчаянного подвига-жертвы – Гоголь, хочется думать, закрыл свои распаленные глаза счастливый, найдя расколдовывающее слово, развеявшее перед ним те самые чары мира, за которыми пустыня, „мертвые души“, и в пустоте вой и свист вийных сил!..» [910]910
Там же. С. 156.
[Закрыть]Память души и вера позволяли Гоголю переживать ряд человеческих воплощений при жизни, но сон завершился, когда он проснулся в мире «мертвых душ», обреченных на смерть, и тогда душа его устремилась обратно, в иной мир, откуда пришла и куда ей суждено было вернуться. Ремизов расценивал смерть Гоголя как осознанное самоубийство, избавление от плотской оболочки, возможное лишь при бесповоротном отрешении от «призрачного» мира иллюзий и мечтаний «со звездами, поцелуями, мошенническими запятыми» [911]911
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 162.
[Закрыть]. Только этот отказ разрушает словесные чары мира, и в космическом распаде мироздания «сквозь вой и свист вийных сил» душа вновь возвращается к исходной точке своего рождения.
Интерпретация Ремизовым гоголевской жизни и смерти вызывает ассоциации и с некоторыми параллельными сюжетами – в частности, со взглядами и судьбой древнегреческого философа Эмпедокла. Согласно его учению, люди имеют неземное происхождение, все они – падшие боги, демоны, духи. Человек приходит в мир в результате сделанного им выбора – отказа от своей истинной природы. Эта мысль философа перекликается с ремизовским пониманием сути человеческой жизни: «Человек брошен на землю – „на свою волю“: живи и распоряжайся, смертный на земле переменяющейся, но тоже не вечной» [912]912
Там же.
[Закрыть]. Свое пребывание среди людей Эмпедокл сравнивал с жизнью изгнанника на чужбине, или, того страшнее, – с горестным томлением в непроницаемой пещере, похожей на могилу. Подобное мироощущение Гоголя описывает Ремизов, используя поэтический язык Лермонтова – другого поэта с демонической душой: «„Тяжелое чувство полное жалости и грусти“ возникает у „вывороченного чорта“ под чарами блистательной украинской ночи – мир необъятен и на душе необъятно, все торжественно и чудно – знакомая пятигорская ночь, когда под звездами кремнистый путь блестит и отчего-то „что же мне так больно и так трудно?“» [913]913
Там же. С. 157–158.
[Закрыть]. По преданию, Эмпедокл бросился в огненный кратер Этны, желая превзойти в себе человеческую природу: «Через смерть как свое собственное произведение он художнически преодолевает косный, духовно обесцененный мир и возвращается туда, откуда пришел: в первореальное космическое всеединство…» [914]914
Семушкин А. В.Эмпедокл. М., 1985. С. 59.
[Закрыть]
Мифологическая тема странствий человеческой души напрямую соотносится и с плотиновской философией, которая полно и поэтично завершает идеи Древнего мира. По Плотину, пока душа находится в соединении с тем или другим телом, она как бы переходит от одного сна к другому; истинное ее пробуждение настанет тогда, когда она, наконец, выйдет из этих оков. Для истории создания «Огня вещей» немаловажно, что примерно в то же самое время, когда Ремизов приступал к созданию своей книги, его старый друг Лев Шестов в своем сочинении «На весах Иова» объединил Гоголя с определенной культурно-философской традицией: «Плотин изображал нашу жизнь как представление марионеток или актеров, почти автоматически исполняющих заранее приготовленные для них роли. Марк Аврелий говорил о том же. Гоголь <…> чувствовал себя на земле, как в завороженном царстве, Платон, как в подземелье. В таком же роде изображали нашу жизнь и древние трагики: Софокл, Эсхил и Эврипид и величайший из новых поэтов Шекспир» [915]915
Шестов Л.Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 92.
[Закрыть]. Как нам представляется, особый интерес вызывают не почти дословные совпадения, а сходство мировоззренческих позиций писателя и философа. «Перекличка», по Ремизову, – «не заимствование, а общее восприятие» [916]916
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 143.
[Закрыть]. В частности, у Ремизова Гоголь «закрыл свои распаленные глаза счастливый, найдя расколдовывающее слово, развеявшее перед ним те самые чары мира, за которыми пустыня» [917]917
Там же. С. 156.
[Закрыть]. Аналогичное понимание находим у Шестова в оценке Плотина: «Плотиновское „забвение“ нужно понимать не в том смысле, что он стремился вытравить из своей души все, что ей дано было испытать. Наоборот <…> для Плотина уйти от внешнего мира значило расколдовать его от чар разума, повелевающего человека в естественном видеть предел возможного» [918]918
Шестов Л.Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 359.
[Закрыть].
Создавая собственную «художественную онтологию», опиравшуюся на опыт русской классической литературы, Ремизов воспринимал пространство художественной литературы и мировой культуры в целом как истинное выражение бытия. В письме к А. Ф. Рязановской (1950 год) он лаконично определил суть подлинного творчества: «Искусство – пламень жизни, но и работа – мысль, воображение сердца»; в измененном виде сентенция вошла и в текст книги «Искусство – пламень жизни, но и работа. Искусство – мысль, воображение и сердце» [919]919
Ремизов А. М.Собр. соч. Т. 7. С. 225.
[Закрыть]. Эти слова можно воспринимать как кредо писателя и вместе с тем как ключ к его герменевтическому методу постижения смысла русской классической прозы, взаимная связь с которой рождала плодотворную, поистине пламенную работу мысли и сердца.