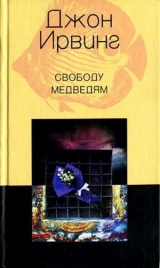
Текст книги "Свободу медведям"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
Тщательно отобранная автобиография Зигфрида Явотника:
Предыстория II (продолжение)
25 марта 1953 года. В мой седьмой день рождения мать отвезла меня на поезде в Капрун – ровно через двадцать дней после смерти Сталина и кремообразного исчезновения моего отца. Эрнст Ватцек-Траммер и дедушка встретили нас на гоночном мотоцикле «Гран-при», который проделал медленный и нервозный путь с неопытными водителями от Вены.
Итак, остатки нашего семейства обосновались в Капруне, небольшом городке в то время; было это еще до того, как в горах на дамбе построили электростанцию и как большой лыжный подъемник привел в город толпы туристов.
Мой дед занял место почтмейстера Капруна; Ватцек-Траммер стал городским мастером на все руки и разносчиком почты, которую в грубых коричневых мешках таскал зимой за веревку на санках, становившихся моими, когда почты не было. Иногда я разъезжал, сидя поверх мешков с почтой, позволяя Эрнсту катать меня по горбатым зимним улочкам. Моя мама сплела красный шнур, чтобы связывать мешки, и прикрепила красный шнурок с шерстяными помпонами на концах к моей вязаной остроконечной шапочке.
Летом Ватцек-Траммер доставлял почту на двухколесной тележке, которую прикреплял к заднему крылу гоночного мотоцикла «Гран-при», отчего Готтлиб Ват перевернулся бы в своей могиле, если бы только она у него была.
Мы жили в Капруне вполне счастливо, само собой разумеется, что теперь мы находились в американском секторе и в границах вещания радио Зальцбурга. По вечерам мы слушали американскую станцию, которая передавала негритянское пение в сопровождении гитар – скорбные причитания грудных женских голосов, трубный йодль [23]23
Йодль – напев альпийских горцев в Австрии.
[Закрыть]и бряцание гитар – душещипательные блюзы. Я помню эту музыку и без Ватцека-Траммера – нет, правда помню. Поскольку однажды в гастхофе «Эннс» один американский солдат аккомпанировал радио на своей гармонике и подпевал, напоминая своим пением стук дождя по большому жестяному ведру. Была зима, на фоне снега он казался самым темным предметом в Капруне, люди дотрагивались до него, чтобы посмотреть, каков он на ощупь. Он проводил из гастхофа домой мою мать, таща меня за собой на санях поверх мешков с почтой. Он пел пару строчек, затем подавал мне знак, и я пиликал на его гармонике с санок – так мы шли по узким улочкам ночного городка. Я думаю, мой дед разговаривал с ним по-английски, и позже Ватцек-Трамамер получил от него книгу о гражданских правах в Америке с фотографиями.
Кроме этого я мало что помню. Но даже избирательная память Ватцека-Траммера не сохранила ничего примечательного о нашей жизни в Капруне в течение этих трех лет, пока мне не исполнилось восемь, потом девять. Кроме одного: когда 19 сентября 1955 года последний советский солдат покинул Вену, у моего деда случился легкий удар – он повалился на груду сваленной корреспонденции. Люди видели, как маленькие квадратики писем посыпались с их стороны почтовых мешков. Но дедушка скоро поправился. Кроме одного: седые брови деда за одну ночь побелели. И это еще одна подробность, которую я запомнил сам, если только Ватцек-Траммер не напомнил мне об этом, – или, что более всего вероятно, это было комбинированное воспоминание с обеих сторон.
Хотя я помню только важные вещи – сам по себе, я уверен. Поскольку Ватцеку-Траммеру или тяжело вспоминать об этом, или, что скорее всего, он не желает при мне вспоминать это вслух.
25 октября 1956 года, в День флага, первого официального празднования окончания оккупации, мне исполнилось десять с половиной. Дедушка и Эрнст пропьянствовали несколько часов в гастхофе «Эннс», после чего принялись шарить по старым сундукам, хранившимся в подвале здания почты, – одновременно это было наше семейное хранилище. Я не знаю, что они там хранили, но мой дед нашел (или он искал именно это) костюм орла, совершенно облысевший, поскольку жир давным-давно испарился, немного сальную, поблескивающую конструкцию из местами поржавевших форм для пирога; голова и клюв – совершенно ржавые. Но мой дед напялил его на себя, настаивая, что теперь его очередь быть орлом, так как и Эрнст и Зан Гланц уже красовались в нем. А какой день может быть более подходящим, чем День флага?
Если не считать этой шутки, первый День флага оказался подпорченным. По крайней мере, для моей матери. Всего за два дня до этого улицы Будапешта обагрились кровью; к счастью, венграм, по крайней мере, было куда бежать, поскольку австрийские власти, после того как русские покинули Вену, убрали колючую проволоку и очистили минное поле вдоль австро-венгерской границы. Хорошее дело. Так как красная венгерская полиция и Советская армия прогнали более 170 ООО человек через границу, Вена, как всегда сочувствующая преследуемым людям, приняла их под свое орлиное крыло. И в День флага беженцы все еще продолжали прибывать.
Я могу лишь догадываться, почему это так сильно подействовало на мою мать, – корнями это уходит в март 1938-го, когда Зан Гланц пересек венгерскую границу у Китсии, если он только вообще пересекал ее. Но она предпочитала думать, будто он ее пересек, тогда она могла вообразить, что он пересек ее и обратно – возможно, вместе с другими 170 ООО венгерских беженцев.
Я думаю об этом лишь потому, что, должно быть, именно эти мысли пришли в голову Хильке, заставив ее именно так отреагировать на моего деда, величественно вышагивающего по нашей кухне в Капруне и пронзительно выкрикивающего из-под облысевшего птичьего шлема:
– Кавк! Австрия свободна!
Она застонала, вцепилась в меня пальцами в том месте, где заколола вязаный свитер, который примеряла на мне. Затем вскочила и стремительно бросилась за удивленным лысым орлом, которого поймала в дверном проеме. Она сунула колено между его ног, приподнимая край кольчуги; она все дергала и дергала, стараясь сорвать с него шлем.
– О господи, Зан! – застонала она, так что мой дед резко отпрянул от нее и сам сорвал с себя шлем.
Не смея прямо глянуть ей в лицо, глядя в сторону, он пробормотал:
– О, я всего лишь нашел это в наших старых вешах в подвале почты, Хильке. Дорогая, мне так жаль, но, Хильке, прошло уже восемнадцать лет! – И он по-прежнему не решался встретить ее взгляд.
Она стояла, обмякнув и прислонившись к дверному косяку; ее лицо, казалось, не имело возраста и даже пола и совсем ничего не выражало. Голосом диктора радио она произнесла:
– Они продолжают поступать. Более ста семидесяти тысяч к настоящему моменту. Все беженцы из Венгрии прибывают в Вену. Тебе не кажется, что мы должны вернуться в Вену… на тот случай, если он попытается нас отыскать?
– О, Хильке! – воскликнул дедушка. – Нет, нет, нет! В этом городе нам нечего делать.
Все тем же дикторским голосом она сказала:
– Редактору Ленхоффу удалось успешно бежать из Венгрии. Это факт.
Дедушка старался стоять неподвижно, чтобы не греметь жестянками, но она уловила их звон и повернулась к нему; ее прежнее выражение лица и голос вернулись к ней.
– Ты уже бросил его там однажды, – проговорила она. – Ты заставил его остаться, чтобы забрать твою банковскую книжку, когда он должен был поехать вместе с нами.
– Поосторожней, девочка, – сказал Ватцек-Траммер, хватая ее за волосы одной рукой. – Держи себя в рамках, ты слышишь?
– Ты бросил Зана в Вене! – закричала моя мать на птицу, трепетавшую под своими жестянками и пытавшуюся отвернуть от нее лицо.
Ватцек-Траммер дернул мою мать за волосы.
– Прекрати! – прошипел он. – Черт тебя побери, Хильке, твой Зан Гланц не должен был оставаться так долго, как он остался. Он не должен был везти никакого редактора в Венгрию, поняла? Какого черта ты решила, что он уехал туда?
Но моя мать вырвала волосы из его рук и бросилась снова ко мне, стоявшему на стуле и старавшемуся сохранить равновесие, словно распятый в не довязанном мамой свитере, который был пришпилен на мне булавками.
Ватцек-Траммер отнес злосчастный костюм орла обратно в подвал почты. И в ту ночь моя мать разбудила меня очень поздно, прижавшись ко мне мокрым, холодным лицом и щекоча пальто с меховым воротником, которое она надевала только в дорогу. В которую она и отправилась. Не оставив после себя никаких символических свидетельств, которые можно было бы интерпретировать – чтобы мы могли догадаться, например, как долго она будет отсутствовать или как и с кем она закончит свое существование.
Она не оставила нам ничего такого: ни мазков крема на стенах, ни подошв ботинок, по которым ее можно было бы опознать.
Хотя моему деду не понадобилось никаких доказательств, чтобы решить, что она никогда не вернется обратно. Меньше чем две недели спустя, в ноябре 1956-го, в Капруне и окружающих Зальцбург горах выпал первый в этом году снег; мокрый, тяжелый ураган превратил за ночь снег в лед. Итак, после ужина дедушка взял почтовые санки и – хотя его никто не видел – облачился в орлиные доспехи; он проделал две с половиной мили вверх по леднику, направляясь к вершине Кицштейнхорн. При себе у него имелся фонарик, и, после того как прошло несколько часов, Ватцек-Траммер поднялся из-за кухонного стола и взглянул в окно на горы. Он увидел слабый свет, почти неподвижный, мерцавший на полпути с ледника, под черным пиком Кицштейнхорн. Затем свет спустился ниже – должно быть, санки катили вниз, поскольку свет шел к подножию, прыгая, делая зигзаги, следуя по обходному маршруту – по проделанной дровосеками просеке через невысокую гору ниже ледника. Бывалые лыжники окрестили этот маршрут «След катапульты». Он спускался круто, четырнадцатью S-образными кривыми и заканчивался в трех с четвертью милях до городка.
Сегодня, разумеется, там есть подъемник, который поднимает лыжников наверх, и новые лыжники называют этот маршрут «Пробежка сумасшедшего».
Но дедушка спускался по «Следу катапульты», а Траммер и я следили за нисходящим светом фонаря из окна кухни.
– Это твой дедушка, парень, – сказал Эрнст. – Ты только посмотри, как он идет.
Мы проследили за ним через восемь, затем девять S-образных кривых по лесу – должно быть, он сидел на санях и управлял ногами, – но затем свет фонаря стал расплывчатым, похожим на ограничительную линию на скоростном спуске. Однако Ватцек-Траммер уверяет, будто он насчитал по крайней мере еще одну кривую, пока мы не потеряли луч его фонаря из виду. Тогда выходит десять из четырнадцати, что не так уж и плохо для почтовых саней в ночи.
Эрнст сказал, что я должен остаться, и запер меня на кухне, откуда я наблюдал за тонкой лентой огней – это прочесывали гору под Кицштейнхорн до самого низу. Потом они нашли моего деда, который был выбит с «Катапульты» ударом бревна, почти полностью занесенного свежевыпавшим снегом. Почтовые санки, по некой мистической причине, которую я так и не смог разгадать, спустились до города сами собой.
Когда в лесу нашли дедушку, Ватцек-Траммер захотел, чтобы нашли санки. А когда сани были найдены и привезены к нему, он положил дедушку поверх мешков с почтой и свез его вниз с горы и, через весь город, доставил в гастхоф «Эннс». Там Ватцек-Траммер выпил четыре чашки кофе с бренди, пока дожидался священника, который страшно огорчился, когда Ватцек-Траммер отказался снять с деда орлиный костюм. Ватцек-Траммер торжественно заявил, что дедушка должен быть похоронен в том, в чем он есть: в кольчуге, без перьев, но в маске. Эрнст слегка подискутировал на эту тему. В свое время дедушка дал ясно понять, что после предательства кардинала Иннитцера в 1938 году католики никогда не смогут сотворить с его телом свой обычный обряд. С целью положить конец затянувшийся дискуссии, Ватцек-Траммер сказал:
– Вы помните кардинала Иннитцера, отец? Он продал Вену Гитлеру. Он призвал все свое стадо смириться с Гитлером.
– Но Ватикан никогда не одобрял этого, – парировал священник.
– Ватикан, – возразил Ватцек-Траммер, – прославился в истории тем, что всегда опаздывал. – Старый Эрнст по-прежнему читал все, что попадало ему в руки.
Затем послали за мной, и мы вместе, Эрнст и я, выпрямили жестяные формы бедного дедушки и обложили его вокруг снегом, чтобы сохранить тело холодным, пока не будет готов гроб.
– Это был удар или что-то в этом роде… его сердце не выдержало, одним словом. Но, на худой конец, это не самые плохие похороны, о которых мне доводилось слышать.
После чего мы пошли домой, Эрнст и я. Я был уверенным в себе десятилетним мальчуганом; если я и ощущал себя брошенным своей семьей, то я, по крайней мере, ощущал себя в хороших руках. Вряд ли чьи-то руки могли быть лучше, чем Эрнста Ватцека-Траммера. Хранителя семейного альбома – птичника, почтальона, историка, человека, сумевшего прожить долго. Ответственного, наконец, за то, что я уцелел и принял оставленное мне наследство.
Двадцать первое наблюдение в зоопарке:
Вторник, 6 июня 1967 @ 6.45 утра
Уборщики клеток появились немногим позже 6.30. О. Шратт открыл им центральные ворота. Он протянул цепочку через вход, хотя над ним висит табличка «ВХОДА НЕТ» – но висит она так, что я не могу ее прочесть.
Уборщики клеток народ угрюмый и грубоватый; они вошли в Жилище Рептилий и вышли оттуда со своими принадлежностями, после чего всей толпой направились в Жилище Толстокожих.
Затем я подумал, что, если О. Шратт отойдет подальше от ворот, я сразу же попытаюсь уйти. Мне хотелось оказаться, как бы невзначай, за пределами зоопарка, когда О. Шратт будет уходить. Может, я даже увижу, куда он пойдет!
Завтракает ли О. Шратт, как нормальные люди?
Но кто-то вроде утреннего сторожа встретил его у ворот. Они перекинулись между собой несколькими фразами. Возможно, новый сторож пожурил О. Шратта за то, что он напялил при таком солнце дождевик. Но О. Шратт просто испарился: он перешагнул через цепь в воротах, и я даже не заметил, в какую сторону он повернул.
Мне пришлось ждать, пока новый сторож совершит свой первый раунд обхода. Когда он, наконец, вошел в Жилище Мелких Млекопитающих, уборщики клеток все еще торчали в Жилище Толстокожих. Но прежде чем я покинул свою зеленую изгородь и вышел через центральные ворота, я успел увидеть, как новый сторож включил инфракрасный свет! Забавно, но я не помню, когда О. Шратт успел его выключить. Эти наблюдения, кажется, измотали меня вконец.
Но когда я вышел за пределы зоопарка, никаких следов О. Шратта я не обнаружил. Я пересек Максингштрассе, направляясь в кафе. Сел там за крайний к тротуару столик и сказал, что буду ждать семи, когда они откроются.
Мой забавный официант расставлял по столикам пепельницы. Должно быть, он работает с утра до полудня, оставляя свободные вечера для того, чтобы стряпать тайные отчеты и готовить следующий день.
Он окинул меня взглядом с неизмеримым лукавством. Он позволил мне встретиться с ним глазами и дал понять, скосив глаза, что заметил мой мотоцикл на том же самом месте, что и вчера днем. И это все: он просто показал мне, что он это знает.
И неожиданно я начал ощущать легкое беспокойство по поводу моего возвращения в Вайдхофен – и того, что этот чертов официант узнает меня в день освобождения. Я должен замаскироваться! Поэтому я решил сбрить волосы.
Но когда официант принес пепельницу на мой столик, послав ее легонько, словно карту, через стол, я набрался храбрости и спросил, был ли он в Хигзингере, когда здесь попытались выпустить на волю зверей – лет двадцать назад.
Он сказал, что здесь его не было.
– Но ведь вы должны были слышать об этом, – настаивал я. – Никто не знает, кому пришла эта идея. Его так и не опознали.
– Да, – сказал он, – от него остались лишь косточки, как от ягненка.
Видишь? Хитрый паразит. Он обо всем знает.
– Как вы думаете, какой человек мог это сделать?
– Сумасшедший, – ответил он. – Настоящий псих.
– Вы хотите сказать, – произнес я, – что это был кто-то с врожденным умственным изъяном? Или кто-то, кто в прошлом испытал разочарование и крушение всех надежд?
– Вот именно, – кивнул он, по-прежнему насмехаясь надо мной – о, пройдоха! – Именно это я и хотел сказать.
– Выход чувства обиды, – сказал я.
– Несправедливый приговор, – откликнулся он.
– Отсутствие логики, – добавил я.
– Полное отсутствие логики, – согласился официант; он широко улыбнулся мне. Стопка граненых пепельниц отбрасывала маленькие треугольные блики солнца на его лицо.
Но у меня было собственное соображение, кем мог быть этот сумасшедший освободитель зоопарка. В конце концов, вполне справедливо иметь на этот счет собственную теорию – это вопрос открытый. И мне приходит в голову мысль о человеке, который как нельзя лучше годится для этой роли; по крайней мере, исходя из того, что я слышал о нем, он должен был созреть для этого – как для прекрасной идеи, так и для совершения свойственной его молодости ошибки, в результате которой он и был съеден. Косвенным образом он имеет отношение и ко мне; по слухам, он должен был везти одного известного редактора в Венгрию и, по тем же слухам, не должен был возвращаться обратно. Но также известно, что редактор остался в живых, так что вполне возможно, что его водитель побывал в Венгрии и вернулся обратно. Правда, те, кого он больше всего хотел видеть, оказались далеко от него. Что ж, такое вполне возможно. Этот человек очень любил животных. Я случайно знаю, как однажды в парке он страшно расстроился из-за маленькой белочки с выжженной на голове свастикой – так сильно расстроился, что его разум отказывался воспринять это.
Это мог быть он, точно так же, как и кто-то другой – скажем, некий испытывающий вину родственник Хинли Гоуча.
Потом этот хитрый официант с Балкан спросил:
– Сэр, вы в порядке? – Он пытался заставить меня обратить внимание на то, что это не так, – намекал, что я размашисто выделываю руками какие-то странные жесты и шевелю губами.
С этими парнями с Балкан надо быть начеку. Когда-то я знал одного, который не признал своего лучшего друга в уборной.
Но я не собирался позволять хитрецу с Балкан дурачить меня.
– Разумеется, со мной все в порядке. С чего вы взяли? – вскинулся я, представля то вскоре утром случится со стопкой его пепельниц, когда он поднимет лукавые глаза и потеряет все свое чопорное самообладание, увидев Редких Очковых Медведей, пересекающих Максингштрассе.
– Я лишь подумал, сэр, – сказал официант, – что, может, вы хотите воды. Вы выглядите потрясенным или потерянным… как говорится.
Но я не дал ему вытянуть из меня самое дорогое. Я произнес:
«Bolje rob nego grob!»
«Лучше быть рабом, чем гроб».
Затем я сказал:
– Ведь правда? Ведь это так, да?
Невероятно скрытный, непробиваемый как камень, он ответил:
– Не хотите чего-нибудь съесть?
– Только кофе, – буркнул я.
– Тогда вам придется подождать, – сказал он, думая, что поставил меня в трудное положение. – Мы не обслуживаем раньше семи.
– Тогда сообщите мне, где находится ближайшая парикмахерская, – усмехнулся я.
– Но ведь уже почти семь, – возразил он.
– Мне нужно в парикмахерскую, – капризно протянул я.
– Вас не станут стричь раньше семи, – сказал он.
– Откуда вы знаете, что я хочу постричь волосы? – удивился я, и это заставило его замолчать.
Он указал рукой через площадь; я сделал вид, будто не видел вывеску парикмахерской.
Затем, чтобы сбить его с толку, я посидел за столиком до семи – царапая в своей записной книжке. Я притворился, будто набрасываю его портрет, не сводя с него глаз и заставляя его нервничать, пока он обслуживал нескольких ранних посетителей.
В семь часов открылся зоопарк. Хотя никто не ходит туда так рано. В билетной будке сидит лишь толстяк с зелеными шорами карточного игрока, самодовольный, как султан. Над его будкой, время от времени, маячит голова жирафа.
Тщательно отобранная автобиография Зигфрида Явотника:
Эпилог (продолжение)
Я вырос в Капруне начитанным ребенком, поскольку Ватцек-Траммер понимал важность книг; ребенком с исторической перспективой, поскольку Эрнст пополнял мои знания по мере того, как я рос, – пропуская те или иные события, можешь быть уверен, пока я не стал достаточно взрослым, чтобы выслушать все.
Перед тем как послать меня в университет в Вену, Ватцек-Траммер позаботился, чтобы я научился водить гоночный мотоцикл «Гран-при 1939», – он считал, что мотоцикл почти генетическое наследство. Так что я практически ничего не лишился: у меня был даже свой транспорт. Первое, что я сделал, – это отвязал дегенеративную почтовую тележку.
Но после того как я начал размышлять о Готтлибе Вате, я стал смотреть на «Гран-при» как на нечто слишком ценное, чтобы бесцельно носиться на нем во время моего полового созревания, и, получив от Эрнста все детали, совершил свою первую дальнюю поездку из Капруна. Было это летом 1964-го. Мне было восемнадцать.
Я отправился на мотоцикле на завод «NSU» в Некарсулме, где попытался поговорить с одним из менеджеров о своем бесценном мотоцикле, который достался мне в наследство. Я сказал сначала механику – он оказался первым, кого я встретил на заводе, – что это мотоцикл принадлежал непревзойденному гению, механику Готтлибу Вату, принимавшему участие в «Гран-при Италии 1930», но механик не слышал о Вате; не слышал о нем и молодой менеджер, которого я наконец отыскал.
– Что это у вас? – спросил он. – Трактор?
– Ват, – сказал я ему. – Готтлиб Ват. Он был убит на войне.
– Да что вы? – хмыкнул менеджер. – Я слышал, что такое случилось со многими.
– «Гран-при Италии 1930», – повторил я. – Ват был там главным.
Но молодой менеджер помнил только водителей, Фредди Харрела и Клауса Ворфера. Вата он не знал.
– Хорошо, вернемся к мотоциклу. Сколько вы хотите за эту рухлядь?
И когда я заметил, что это, можно сказать, музейный экспонат, поинтересовавшись, есть ли у «NSU» место, где они с честью хранят свои старые гоночные мотоциклы, менеджер рассмеялся.
– Из вас выйдет отличный торговец, – сказал он мне, и я не стал говорить ему, что собирался подарить мотоцикл – если у них есть для него подходящее место.
На выставке мотоциклов было полным-полно злобных моделей, производящих шипящие звуки при увеличении скорости. Так что я завел свой гоночный мотоцикл и – мысленно – разобрал их все на алюминиевые запчасти.
Я вернулся обратно в Капрун и сказал Ватцеку-Траммеру, что мы должны хранить мотоцикл где-нибудь и ездить на нем только при крайней необходимости. Разумеется, с его исторической перспективой он согласился.
Затем я поехал в Вену и попытался окунуться в студенческую жизнь. Но я не встретил ни одной интересной личности; большинство людей читало многим меньше меня, а сравнить кого-либо с Ватцеком-Траммером было совсем невозможно. Был там один студент, которого я запомнил очень хорошо, – еврейский паренек, который по совместительству шпионил для тайной еврейской организации, охотившейся за бывшими нацистами. Этот парень потерял всех восемьдесят девять членов своей семьи. «Все они исчезли», – сказал он. Но когда я принялся расспрашивать его, откуда ему известно, что он из этой семьи, он признался, что он «усыновил их всех». Потому что, насколько он знал, на самом деле никакой семьи у него не было. Он не помнил никого, кроме пилота RAF [24]24
RAF (Royal Air Forces) – Королевские воздушные силы Великобритании (англ.).
[Закрыть], который переправил его на самолете из района Белсена, после того как взорвали лагерь. Но он «усыновил» эту семью, поскольку из тех записей, что он видел, он сделал вывод, что это самая большая семья, бесследно исчезнувшая как одно целое. Ради них, сказал этот чудак, он решил стать девяностым членом этой семьи – уцелевшим и, по крайней мере, сохранившим их фамилию.
Он был довольно забавен со своей шпионской деятельностью по совместительству, но явно переусердствовал. Его фотография попала в одну из венских газет, прославляя его как героя, в одиночку раскрывшего и сдавшего полиции некоего Рихтера Мюлля, нацистского преступника. Но такая популярность сделала парня нервным, и его тайная еврейская организация отреклась от него. Он имел обыкновение сидеть в студенческих подвальчиках, вспоминая, что случилось с американским Диким Биллом Хикоком, он никогда не садился спиной к двери или окну. Когда я рассказал Ватцеку-Траммеру о нем, Эрнст сказал:
– Типичная военная паранойя. – Видимо, он где-то это прочел.
Был еще мой добрый друг Драгутин Свет. Я познакомился с ним, когда катался на лыжах в Тауплице во время своего второго года обучения в университете. Он был студентом с Балкан, сербом по рождению, и мы вместе много катались на лыжах. Он очень хотел познакомиться с Ватцеком-Траммером.
Но мы рассорились. Из-за глупости. Однажды я поехал с ним в Швейцарию, снова кататься на лыжах, и, когда мы находились там, в холле гастхофа нам повстречалась группа людей, говорящих на сербохорватском. Как оказалось, там было что-то вроде съезда эмигрантов-сербов, в основном это были недружелюбные пожилые люди и несколько молодых, наивных и воинственно настроенных парней. Кое-кто из пожилых – как говорили – сражался бок о бок с генералом четников Дражей Михайловичем.
Нам приходилось обедать с ними в одном зале, хотя наш возраст и наша энергичность вызывали у них подозрения. Я попытался припомнить несколько остроумных выражений на сербохорватском, когда один из пожилых сербов спросил на немецком, неприветливо глядя на меня через их стол:
– Ты откуда, парень?
На что я вполне искренне ответил:
– Из Марибора, точнее, Словеньградца.
И сидевшие за столом опустили свои стаканы и одновременно уставились на меня:
– Хорват? Словенец?
А поскольку я не хотел смущать своего друга Драгутина Света, серба по рождению, я пробормотал единственную сербохорватскую фразу, которую помнил:
«Bolje rob nego grob!»
«Лучше быть рабом, чем гроб!»
Это, как объяснил мне потом Ватцек-Траммер, было прямо противоположно тому, что я хотел сказать. Эта негероическая импровизация моего отца послужила причиной моего конфликта с ветеранами-четниками. Потому что во главе стола сидел глубоко оскорбленный человек, который наклонился ко мне через свой стол; у него была только одна рука, но он действовал ею на редкость ловко, когда плеснул мне в лицо скотчем.
Мой друг Драгутин Свет отказался участвовать в инциденте, посчитав недостойной мою интерпретацию лозунга, к которому сербы относились настолько серьезно. Так что после этого я виделся с ним редко.
Я нашел себе работу у герра Фабера, чтобы занять руки и иметь возможность видеть мотоциклы. К тому же я нуждался в деньгах, чтобы оплачивать свое образование, которое явно затягивалось. И все потому, что некий герр доктор Фихт завернул мою диссертацию.
Моей диссертацией должна была быть моя «Тщательно отобранная автобиография», поскольку, как я считал, она достаточно подробно и даже творчески изложена. Но этот Фихт пришел в негодование. Он заявил, что это намеренно предвзятое и неполное изложение истории, к тому же довольно несерьезное – без примечаний и комментариев. Что ж, пытаясь оправдать его позицию, я обнаружил, что герр доктор Фихт некогда был герром доктором Фихтштейном, евреем, который отсиживался, как крыса, на голландском побережье во время войны – он был пойман только однажды и сбежал после того, как ему в челюсть ввели омертвляющий зубы химический состав, слишком новый и неопробованный, чтобы после него остаться в живых. Бывший Фихтштейн пришел в ярость: я позволил себе быть настолько субъективным, что прошелся через всю войну, почти не упоминая о евреях. Я пытался объяснить ему, что он должен воспринимать мою автобиографию как беллетристику – роман, я бы сказал. Поскольку мой труд не претендует на исследование истории. К тому же я добавил, что считаю, что доктор стоит скорее на русско-американской точке зрения, заявляя, что ни одна картина военных зверств не может быть полной без миллионов убитых евреев. Снова количество, как видите. Фихт, или Фихтштейн, как мне кажется, не понял мою точку зрения, но я признаю, что статистика – вещь упрямая. Она сама по себе способна почти на все, что угодно.
Но эти дебаты затянули мое образование. Мне пришлось остаться в университете до тех пор, пока я не овладею в совершенстве каким-нибудь академическим предметом или чем-то еще, – глупо пытаться доказать, что я уже что-то знаю и сумел это написать.
Ватцек-Траммер, разумеется, ничего не смыслит в университетах. По его мнению, профессора, должно быть, слишком много читали, прежде чем заинтересовались чем-то, и потом это помешало им заинтересоваться тем, о чем они читали. Он в этом убежден. Сам себя образовавший человек, знаете ли, непоколебим.
Эрнст по-прежнему читает как ненормальный. Я вижусь с ним на каждое Рождество и никогда не приезжаю без новой стопки книг для него. Однако, не в пример большинству пожилых людей, его чтение стало более избирательным: он больше не читает все, что попадется ему под руку. На самом деле зачастую книги, которые я привожу ему, не производят на него особого впечатления. Он берет книгу, листает ее, останавливается на десятой странице.
– Я уже знаю, о чем она, – говорит он и откладывает книгу в сторону.
Можно сказать, я приезжаю на Рождество скорее читать те книги, которые имеются у Ватцека-Траммера, чем всерьез думаю, будто я привожу ему нечто особенное.
Сейчас Ватцек-Траммер на пенсии и весьма уважаемый горожанин. Он держит за собой три комнаты в гастхофе «Эннс»; иногда его даже показывают туристам, если он позволяет.
Одну из комнат Ватцека-Траммера полностью занимают его книги, вторую – гоночный мотоцикл «Гран-при 1939»; в одной из комнат кровать и кухонный стол, хотя Эрнст теперь почти всегда столуется в гастхофе. Кухонный стол для того, чтобы за ним сидеть и разговаривать, – привычка, говорит он, которая сильнее его, несмотря на то что сейчас он один.
Когда я бываю дома, я сплю в комнате с мотоциклом. И я очень люблю Рождество.
И уж поверь мне на слово, Ватцек-Траммер может много о чем рассказать.








