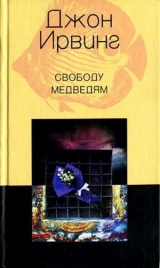
Текст книги "Свободу медведям"
Автор книги: Джон Ирвинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)
Тщательно отобранная автобиография Зигфрида Явотника:
Предыстория I (продолжение)
9 марта 1938 года, среда, время чаепития: моя бабушка Мартер выпрямляет зубья вилки, дедушка Мартер, как всегда, не может дождаться пфлауменкюхен [10]10
Сливовый пирог (нем.).
[Закрыть]; сливовые шкурки вздулись пузырями, и всем ясно, что сливовый пирог еще слишком горяч, чтобы его есть. Однако мой дед постоянно обжигает себе язык. Потом он выходит на кухню и украдкой подливает себе в чай еще рому.
– Терпеть не могу ждать, когда остынет этот чертов пирог, – ворчит он. – Если бы его поставили пораньше, то мы бы уже попили с ним чаю.
А бабушка нацеливает на него вилку.
– Тогда ты захотел бы чаю еще раньше, – возражает она. – Тогда ты начал бы ждать его еще раньше, все сдвинул бы, так что нам пришлось бы пить чай раньше обеда.
Зан держит чашку с чаем на коленях, поэтому он готов подставить ее для рома, когда дедушка обходит вокруг стола. Дедушка наклоняет бутылку прямо из кармана брюк.
– Будь осторожен с моей Хильке, Зан, – говорит он. – Будь осторожен с ней, она не такая всезнайка, как ее мутти.
– Мутти права, – говорит Хильке. – Ты вечно всем недоволен и вечно обжигаешься, когда бы пирог ни вынули из духовки.
– Ты видишь, Зан? – говорит дед.
– Теперь все вилки выправлены, – провозглашает бабушка. – И никто больше не уколет себе губу! – добавляет она. – Видишь ли, Зан, это настоящее серебро, поэтому зубья такие мягкие и так легко гнутся.
– Мутти, – говорит Хильке, – теперь у Зана есть работа.
– Но ведь ты еще учишься, Зан, – удивляется дед.
– Он водит такси, – сообщает Хильке. – Он может покатать меня по городу.
– Я работаю лишь часть дня, – говорит Зан. – Я продолжаю учиться.
– Обожаю ездить на такси, – заявляет бабушка.
– Когда это ты разъезжаешь на такси? – удивляется дед. – Когда мы с тобой куда-нибудь идем, ты всегда садишься в трамвай.
Бабушка протыкает сливовый пирог вилкой.
– Ну вот, теперь он вполне остыл, – провозглашает она.
– Всезнайка, – ворчит дед. – Теперь кругом одни всезнайки. – И перед тем как придвинуться к кухонному столу, он считает необходимым – к великой радости Зана – подкрутить ручку радио, чтобы убрать треск.
Зан доволен. Новости Радио Иоханнесгассе, прямо к чаю, и он ждет знакомых позывных. По средам можно не смотреть на часы: к тому моменту, когда вилки выпрямлены и пирог остужен, наступает время новостей.
Международных: Стинокерзельский замок в Бельгии – место проживания претендента на трон Габсбургов. Фрейхерр фон Виснер призывает всех монархистов Австрии противодействовать непрекращающемуся давлению нацистской Германии, которая намерена присоединить Австрию к рейху. Фон Виснер обращается к канцлеру Шушнигу с воззванием о возвращении монархии, оно могло бы помочь противостоять Германии.
Австрийских: уроженец Тироля, Курт фон Шушниг, на многолюдном митинге в Инсбруке объявил своей родной провинции и всему миру, что через четыре дня, в воскресенье, в стране состоится плебисцит. Избиратели смогут решить сами – независимая Австрия или аншлюс с Германией. Канцлер Шушниг заканчивает свою речь обращением на тирольском диалекте к двумстам тысячам собравшихся на Мария-Терезия-плац: «Народ, час пробил!» Разумеется, эти слова в Инсбруке производят особый эффект, поскольку сто тридцать лет назад народный герой, крестьянин Андреас Хофер, воодушевлял своих соотечественников на борьбу с Наполеоном тем же самым лозунгом.
Местных: молодая женщина, опознанная как Марта Мадофф, дочь торговца одеждой и тканью Сигизмунда Мадоффа, этим утром была найдена повешенной прямо в пальто на платяном крюке в гардеробной балкона второго этажа Венской государственной оперы. Обнаруживший тело сторож Одило Линц утверждает, что эта гардеробная никогда не использовалась – по крайней мере, вчера вечером, когда в опере давали «Лоэнгрин». Одило проверял эту гардеробную во время исполнения прелюдии; он уверяет, что тогда там ничего не висело. Компетентные органы констатировали, что смерть молодой женщины наступила от нанесенных пяти колотых ран в форме звезды в области сердца и незадолго до окончания оперы. Власти утверждают, что попытки изнасилования не было, однако чулок на женщине не оказалось, а туфли были снова надеты на голые ноги. Позднее, тем же вечером, некий очевидец утверждал, что видел группу юнцов в Хархоф-Келле, у одного из которых вместо шарфа был завязан женский чулок. Однако у сегодняшней молодежи принято похваляться подобным способом.
И еще из местных: представители нескольких административных групп уже выразили свою поддержку плебисциту Шушнига. Карл Миттлер пообещал поддержку социалистов-подпольщиков; полковник Вольф высказался за монархистов; доктор Фридман – за еврейское сообщество; кардинал Иннитцер – за католиков. Канцлер Шушниг прибывает ночным поездом из Альп в Вену рано утром, где его с нетерпением ждут.
– Еще как ждут! – восклицает Зан. – Он хоть что-то сделал, чтобы показать, что мы не просто задний двор Гитлера?
– Всезнайка, – хмурится дед. – Кем он себя воображает? Новым Андреасом Хофером, восставшим против Наполеона? Его приветствовали в Тироле – охотно верю. Но что о нем скажут в Берлине? На этот раз мы имеем дело не с французами!
– Господи, – произносит Зан. – Окажите ему хоть немного доверия. Голосование – это верный путь. Никто в Австрии не хочет немцев.
– Ты рассуждаешь как таксист, – фыркает дед. – Никто не хочет – говоришь ты, но какое это имеет значение? Я тебе скажу, чего хочу я и как мало это значит. Я хочу такого человека, который бы сделал то, что обещал сделать. Таким был Дольфус, но его убил один из тех «ничтожеств», о которых ты говоришь. И теперь мы имеем Шушнига, вот кого.
– Но он призывает к открытому голосованию, – возражает Зан.
– И уже через четыре дня, – мрачно произносит дед; он замечает крошки пирога, которые рассыпал по столу; язык у него слегка заплетается, уши покраснели. – Говорю тебе, студент… или таксист, или кто ты там еще, – ворчит он, стараясь обращаться с пирогом поаккуратней, – хорошо, что этот мир не плоский, а то твой Шушниг давно бы с него свалился.
– Да ты просто старый пессимист, – упрекает его Хильке.
– Уж это точно, – говорит бабушка, сгребая вилкой крошки со скатерти. – К тому же самый большой всезнайка из всех. И еще у тебя самые дурные манеры за столом, какие мне только доводилось видеть среди людей твоего колоссального возраста.
– Моего чего? – восклицает дед и крошит кусок пирога. – И где ты только научилась так выражаться?
А бабушка высокомерно слюнявит палец и снимает им крошки с дедушкиного галстука.
– Прочла в книге, которую ты принес домой, – гордо заявляет она, – и сочла, что это звучит поэтично. Ты же, всезнайка, постоянно укоряешь меня за то, что я мало читаю.
– Обязательно покажи мне эту книгу, – ворчит дед, – чтобы я нечаянно не прочел ее.
Зан строит рожи деду, силясь показать, что в его чае почти не осталось рому.
– Что ж, – говорит он, – завтра здесь состоится торжество. И у меня будет куча клиентов.
А Хильке размышляет, что бы ей такое надеть. Красную накидку из шерстяного джерси с большим отворачивающимся воротником. Если только не будет снега.
Пятое наблюдение в зоопарке:
Понедельник, 5 июня 1967 @ 11.45 ночи
Сторож начинает свой обход без четверти девять и возвращается к Жилищу Мелких Млекопитающих к четверти десятого. Следующий раунд он начинает с без четверти одиннадцать и заканчивает в четверть двенадцатого. И на этот раз он поступил точно так же.
Во второй раз я притаился за живой изгородью, позволив ему пройти совсем рядом со мной. Теперь я могу сказать, как он выглядит ниже пояса. На кожаной портупее военная кобура, которая способна вместить в себя двенадцатиразрядный ствол; я не знаю, сколько патронов вмещает его тупорылый пистолет. На портупее висит также связка ключей – для обычного ремня она слишком тяжела. У фонаря в металлическом корпусе имеется петля для запястья – это объясняет, почему у сторожа нет дубинки. Серые форменные брюки из саржи, без манжет, чудные, полосатые носки, один из которых постоянно сползает на ботинок, он все время останавливается, чтобы подтянуть его. Черные ботинки самые обычные, какие носят каждый день. Он явно не придаст большого значения своей форме.
Я мог не опасаться того, что сторож меня заметит. Он освещал фонарем и живую изгородь. Но она слишком густая, чтобы свет мог проникнуть через нее. Возможно, если бы он встал на четвереньки и осветил бы землю у самых корней – и, для начала, обладал бы острым зрением, – то смог бы заметить за нею меня. Но можешь быть уверен, убежище я выбрал себе подходящее.
Этот сторож не кажется таким уж плохим. Временами он светит фонарем просто так, направляя луч света в сторону, где услышит негромкое фырканье или шевеление. Однако, я полагаю, он должен прекрасно знать ночные повадки своих подопечных и не бросаться проверять каждое сопение. И все же, как мне кажется, он действует без злого умысла. Может, он просто нервный или ему скучно – поэтому и пытается ничего не упустить и получше разглядеть.
Похоже, что у него даже есть любимчики. Я наблюдал, как он подзывал через ограду зебру:
– Иди сюда, смешная лошадка.
И эта зебра, по всей видимости не спаитпая, подошла и просунула к нему морду через изгородь.
Сторож чем-то покормил ее – что наверняка против правил – и потрепал за уши. По-моему, человек, который любит зебр, не может быть плохим.
У него особые отношения с одним из мелких кенгуру. Мне кажется, это валлаби или более крупный валлару; с того расстояния, откуда я вижу их, они практически одинаковы. Но это точно не самец большого серого кенгуру: я смог бы различить этого монстра даже в дальнем конце дорожки. В общем, сторож кого-то подозвал.
– Эй, ты, австралиец, – произнес он. – Эй, ты, денди, иди сюда, побеседуем.
И он тут же притопал к нему: длинные острые ушки настороже, твердый хвост стучит по земле. Возможно, голос сторожа прозвучал немного насмешливо, и, возможно, не слишком вежливо с его стороны подходить близко к окрестностям австралийцев. Но у меня появилось чувство, что этот сторож – человек очень добрый. Если окажется, что мы будем вынуждены схватить и куда-нибудь запереть именно его, то я бы желал проделать все это как можно деликатней.
Но тут произошло что-то странное. В Жилище Мелких Млекопитающих зазвенел звонок; я отчетливо слышал этот звон. Животные тоже слышали его. И весь зоопарк пробудился: послышался кашель, хрюканье, испуганное фырканье, сиплое сопение, настороженное частое дыхание. Множество тех звуков, которые издают животные, когда хотят затаиться, – хруст суставов, урчание в животе, громкое сглатывание.
Вначале прозвенел звонок, потом из Жилища Мелких Млекопитающих вышел сторож. Я видел, как он качнул фонарем. Затем я заметил луч света на одной из дорожек, кажется, он шел от главных ворот зоопарка, и я подумал, что сторож дал фонарем ответный сигнал.
Вдоль линии ограждения, за моей изгородью, забили копытами Смешанные Антилопы. Что-то происходит, это точно. Я это знаю наверняка: уже полночь, а весь зоопарк не смыкает глаз.
Тщательно отобранная автобиография Зигфрида Явотника:
Предыстория I (продолжение)
Среда, 10 марта 1938 года: теплый, бесснежный день, как раз подходящий для красной пелерины из шерстяного джерси с большим мягким воротником.
Ранним утром, незадолго до прибытия поезда канцлера Шушнига из Инсбрука на Вестбанхоф и сразу после того, как Зан Гланц вывел на черном капоте своего такси «Ура Шушнигу!», фермер из предместий Хикинга, который разводит кур, начинает одеваться для ожидаемой в городе торжественной встречи. Этим утром Эрнст Ватцек-Траммер пренебрег сбором яиц, собрав вместо них перья. Это не менее странно, чем то, чем он был занят всю ночь, – прокалыванием и связыванием проволокой жестяных форм для выпечки кексов; он смастерил себе что-то вроде кольчуги и затем намазал ее жиром, чтобы к ней прилипли куриные перья, по которым он теперь катался. Любой, кто увидел бы Эрнста Ватцека-Траммера в подобном наряде, никогда больше не купил бы у него ни единого яйца. Но никто не видит, кроме цыплят, разбегающихся во все стороны с его пути, пока он туда-сюда катается в куче перьев на полу курятника. И, более того, никто не смог бы обвинить Эрнста Ватцека-Траммера в расточительности – костюм не стоил ему ни пфеннига. Форм для выпечки кексов у него более чем достаточно, к тому же они по-прежнему пригодны для продажи яиц; а куриные перья были использованы с куда большим толком, чем когда-либо прежде. В самом деле, даже верхняя часть костюма – что-то вроде шлема – состоит из жестяных форм: две вместо наушников, одна сверху и еще одна прикрывает лицо, на ней дырки для глаз, для рта и еще две маленькие дырочки, чтобы прикрепить проволокой сплющенный молотком клюв. Достаточно острый, чтобы проткнуть человека насквозь. Между глазными отверстиями приклеено изображение австрийского орла, отодранного при помощи пара с бампера грузовика Эрнста Ватцека-Траммера и заново приляпанного при помощи жира. И это также ничего ему не стоило. Костюм орла получился пугающе похожим – если не похожим, то, по крайней мере, впечатляющим. Облепленная перьями кольчуга свисает до колен, рукава из жестянок прикреплены достаточно свободно, чтобы хлопать крыльями. Шлем Эрнст оставил без перьев, однако смазал жиром – не только чтобы держалась эмблема орла, но и для большего блеска.
Эрнст Ватцек-Траммер, орел сегодня, – австрийский орел, конечно, – заканчивает наряжаться в своем курятнике и, громыхая кольчугой, торопится к окраине города, надеясь, что его впустят в трамвай.
А тем временем Зан Гланц, по пути к дому моей матери, останавливается лишь затем, чтобы выпустить немного воздуху из шин и заставить их визжать, и теперь он практикуется в визге при поворотах на круглой площадке между высшей технической школой и церковью Святого Карла.
А дедушка Мартер этим утром решил на работу не ходить, поскольку все равно в читальном зале иностранной литературы Международного дома студентов читать сегодня никто не будет, так что старший библиотекарь вряд ли кому понадобится. Дед выглядывает такси Зана, потому что он, по крайней мере, может порадоваться юношескому оптимизму, как выразилась бабушка, и уж точно порадовать себя выпивкой, которая полагается в такой торжественный день.
Совершая четвертый круг по площадке, Зан видит прихожан, выходящих после ранней мессы из церкви Святого Карла. Лишь отчасти заботясь о деньгах, Зан думает, что неплохо бы немного заработать перед тем, как появиться у моей матери. Не заглушая двигатель, он останавливает такси у обочины, прямо напротив церкви Святого Карла, и, раскрыв «Телеграф» на руле, углубляется в газету. Передовица Ленхоффа одобряет плебисцит Шушнига, задавая коварный вопрос по поводу реакции на это Германии.
Тем временем на остановке «Хёттельдорф-Хикинг» по маршруту трамвая номер 49 угрюмый трамвайный вожатый отказывается везти человека в костюме орла. Эрнст Ватцек-Траммер поправляет клюв, шуршит перьями на груди и с достоинством покидает вагон.
А на Баллхаузплац канцлер Курт фон Шушниг, осторожно выглянув из окна здания администрации канцлера, замечает транспарант, натянутый через всю Михаэлерплац от балюстрады Святого Михаила до балюстрады выставочного зала Хофбург. На транспаранте, изготовленном из сшитых вместе простыней, большими четкими буквами выведено: «Шушниг за свободную Австрию!» И канцлер догадывается, что, для того чтобы он мог видеть лозунг с такого расстояния, одни только запятые должны быть размером с человеческую голову. Мысль о том, что за транспарантом по всей Августинерштрассе до Альбертинаплац и еще дальше – по всему центру города – толпы людей приветствуют его, наполняет Шушнига теплом до самого верха его тирольской шляпы.
Он растрогался бы еще больше, если бы увидел решимость Эрнста Ватцека-Траммера, подвергнутого унижению и выгнанного из трамвая на остановке «Вейт», прямо на глазах у детей, которые набились в трамвай по всему маршруту от самого Хикинга и следовали за ним на безопасном для их насмешек расстоянии. Орел оставляет несколько перьев, он с достоинством шествует вперед. Но канцлер фон Шушниг не в состоянии увидеть через весь город эту уникальную демонстрацию патриотизма.
Дедушка Мартер сказал бы, что канцлер никогда не обладал особой дальновидностью. К примеру, он говорит моей матери:
– Хильке, надевай пальто, это Зан, – в то время как Зан находится еще за три кварталах от них и только начинает догадываться, что ранние посетители мессы убежденные пешеходы, а потом решает покинуть площадку перед церковью. Но – дальновидность это или просто нетерпение – дедушка и Хильке стоят уже в пальто, когда Зан сворачивает на их улицу.
– Не впутайся в какую-нибудь драку, – предостерегает его бабушка.
– А ты почитай хорошую книгу, – советует ей дед.
Дело идет к вечеру, когда дедушка Мартер замечает сквозь тусклое окно подвальчика «Келлер [11]11
Подвал (нем.).
[Закрыть]Августин» странное видение; он обливается пивом и, прижимаясь лицом к воротнику Зана, хихикает.
– Папа, – в замешательстве произносит Хильке.
– Вам нехорошо? – спрашивает Зан, а мой дед снова поворачивается к окну; он все еще держится за лацкан пиджака Зана, готовый спрятаться обратно, если видение появится снова.
– Это самая большая птица, что я видел, – бормочет он, и тут его видение неясно вырисовывается за вращающимися дверьми, оно влетает в «Келлер Августин», ошеломляя негромким хлопаньем жестяных крыльев, пугая жующих за столом сосиски посетителей; они волной хлынули назад; толстый кусок мяса шлепается на пол, и все таращат глаза на видение, будто это чье-то сердце или отрезанная рука. – Господи! – восклицает дедушка и снова тыкается лицом в лацкан пиджака Зана.
Видение устрашающе взмахивает крыльями и лязгает жестянками на пернатой груди.
– Кавк! – выкрикивает оно. – Кавк! Кавк! Свободная Австрия!
И очень медленно, в мертвой тишине, пьянчуги, один за другим, спешат обнять национальный символ.
– Кавк! – с пафосом произносит дед, а Зан хватает орла за кольчугу и тащит к своему столику; его орлиный клюв едва не пронзает моего деда, заключающего огромную птицу в свои медвежьи объятия. – О, вы только посмотрите! – восклицает мой дед. – Какой великолепный орел!
– Я проделал весь путь до Европаплац пешком, – сообщает орел, – лишь там мне позволили сесть в трамвай.
– Кто посмел высадить тебя? – возмущается дед.
– Да эти чертовы вогоновожатые, – говорит Эрнст Ватцек-Траммер.
– На окраинах города явно не хватает патриотизма! – восклицает мой дед.
– Этот костюм я соорудил собственными руками, – сообщает орел. – А вообще-то я торгую яйцами.
– У меня куры, – поясняет он, касаясь пальцами перьев и барабаня ими по жести на груди. – Эти формы я использую для продажи яиц.
– Восхитительно! – произносит Зан.
– Вы просто неотразимы, – говорит Хильке орлу и поправляет те места, где перья сбились в комки и образовали утолщения: под подбородком, по всей груди и в углублениях крыльев.
– Снимите вашу голову, – просит Зан. – Вы не сможете в ней пить.
Позади орла мгновенно образовалась любопытствующая толпа.
– Да, снимите же вашу голову! – кричат они и, распихивая друг друга, стараются пробиться поближе к орлу.
– Не толпитесь! Имейте хоть какое-то уважение! – одергивает их дедушка.
Скрипач на балконе над их столиком усмехается, к нему нагибается виолончелист, который что-то бормочет и тоже улыбается. Они разворачивают свои носовые платки.
– Музыка! – восклицает дед, который теперь главенствует в «Келлере».
Скрипач отвешивает поклон. Виолончелист дергает толстую струну; все выпрямляют спины, словно виолончелист шлепнул их по позвоночнику.
– Тихо, – продолжает командовать дед.
Орел расправляет крылья.
– Снимите голову, – шепчет Зан, и тут зазвучала музыка – «Фолькслинд» [12]12
Народная песня (нем.).
[Закрыть], вызывающая слезы на глазах.
Хильке помогает орлу освободиться от головы. Эрнст Ватцек-Траммер морщит лицо эльфа с ямочкой на подбородке. Моей матери хочется поцеловать его; дед целует – хотя, вероятно, не без разочарования, поскольку замечает седые волосы, торчащие из ушей орла. Только человек поколения моего деда мог быть австрийским орлом.
Эрнст Ватцек-Траммер в восторге – за его здоровье пьет и его целует образованный человек, как он понимает. Во время исполнения «Фолькслинда» он испытывает настоящие мучения. Его голова почтительно передается по кругу; она переходит из руки в руки, теряя по пути жир и, отчасти, блеск.
Окна погребка заиндевели. Кто-то предлагает план полета орла – подвесить его и раскачать на балюстраде Святого Михаила. Если подвесить его именно у Святого Михаила, то тогда Шушниг сможет его увидеть. Тут же предлагаются подтяжки. Похоже, орел не против, но мой дед решительно возражает.
– Господа! – говорит он и протягивает обратно широкую пару красных подтяжек. – Прошу вас, господа! – Он обводит взглядом раскрасневшиеся лица собравшихся мужчин, придерживающих брюки руками. – С нами моя дочь, – произносит он и ласково приподнимает лицо моей матери к толпе.
Пристыженные, патриоты отступают, а орел избегает неминуемого болтания в воздухе – опасного полета на связанных в единый жгут подвязках, как тугих, так и изрядно растянутых.
Эрнст Ватцек-Траммер беспрепятственно добирается до такси Зана. По совету моего дедушки он накалывает на клюв винную пробку, чтобы не поранить кого-нибудь по дороге. Так, с пробкой на слегка погнутом клюве, он забирается в такси, где садится на заднее сиденье и обнимает моего деда и мать, а Зан везет их через Михаэлерплац, под смятыми простынями, прославляющими Шушнига, и далее по улочкам с кофейнями за пределами Грабена.
Выкриками и сигналами клаксона Зан провозглашает появление Австрии.
– Кавк! Кавк! – выкрикивает он. – Наша страна свободна!
Но усталые ротозеи, мрачно сидящие за своим кофе и глазеющие на улицу сквозь проделанные в заиндевевших стеклах глазки, почти не обращают на это внимания. Они уже устали от чудес. Это всего лишь огромная птица на заднем сиденье такси.
Их ждет моя бабушка – книга открыта, чай остыл. Когда она видит, как в ее кухню вводят орла, она поворачивается к деду с таким видом, будто он привел в дом домашнее животное, которое они не в силах прокормить.
– Господи, вы только посмотрите на него! – выговаривает она деду. – И твоя дочь туда же.
– Кавк! – произносит орел.
– Что он хочет? – спрашивает бабушка Зана. И деду: – Надеюсь, ты его не купил, а? И ничего не подписывал?
– Это австрийский орел! – гордо провозглашает дед. – Прояви к нему уважение!
И бабушка внимательно смотрит на птицу, без особого, впрочем, уважения; она пытается разглядеть, что там за глазными отверстиями.
– Фрау Мартер, – обращается к ней орел. – Я Эрнст Ватцек-Траммер из Хикинга.
– Настоящий патриот! – восклицает дед, похлопывая орла по плечу. С него сыпятся перья; кажется, они будут сыпаться вечно.
– Мутти, – говорит Хильке. – Он сам смастерил свой костюм.
И бабушка осторожным жестом касается перьев на груди орла.
А дед тихо говорит:
– Это мой последний разгул, мутти. К тому же за нашей дочерью был надлежащий присмотр.
– О да, совершенно верно, – подтверждает Зан и похлопывает орла.
А дедушка печально добавляет:
– О, это последний разгул и Австрии, мутти! – И он преклоняет колена перед орлом.
Эрнст Ватцек-Траммер зажимает руками уши, дрожит перьями и начинает плакать, всхлипывая в клюв.
– Кавк! Кавк! – говорит Зан, все еще веселый, но орлиный шлем сотрясается от рыданий.
– О, хватит! – восклицает дед. – Не надо плакать. Вы такой замечательный патриот, верно? Ну, будет, будет… мы ведь так чудно провели вечер. А Зан собирается отвезти вас домой.
– О, бедняжка, – вздыхает бабушка.
И они все вместе провожают орла до такси.
– В вашем распоряжении все заднее сиденье, – говорит Зан.
– Сними ему голову, – просит дед. – Как бы он не захлебнулся.
А Хильке выговаривает отцу:
– Это ты во всем виноват, старый ты пессимист.
– Всезнайка! – ворчит бабушка.
Но дед захлопывает дверцу машины и регулирует воображаемое движение на пустынной улице. Он подает сигнал Зану, что тот может спокойно выезжать.
Зан проезжает сквозь тишину вымерших окраин города: Хадик, Санкт-Вейт и Хёттельдорф – Зан может только гадать, призраки прошлого и нынешние духи рады или нет приветствовать Священную Римскую империю в лице Гитлера?
А тем временем орел на заднем сиденье разбирает себя по частям. К тому времени, когда Зан находит темную ферму, которая прячется за ярким светом спящего курятника, в зеркале заднего обзора он видит взъерошенного пожилого человека, который плачет, а по всему салону летают перья.
– Успокойтесь, – говорит Зан, но Эрнст Ватцек-Траммер набрасывается на пустой костюм орла, прислонив его к переднему сиденью. Он пытается сломать ему хребет, но орел сделан на удивление прочно: он складывается в полусидячем положении; соединение форм для кекса прочнее, чем настоящий позвоночник. – Ну, будет, будет, – успокаивает Зан. – Только посмотрите, что вы сделали со своим костюмом.
Но Эрнст Ватцек-Траммер сгребает перья целыми пригоршнями и колотит ногами по днищу машины, стараясь найти и расплющить свалившуюся голову.
Зан перебирается к нему на заднее сиденье и силой выталкивает наружу. Эрнст Ватцек-Траммер хватает его за руки. Зан захлопывает дверцу машины и ведет птичника к дому.
– О, ради бога, – просит Зан, – вам следует хорошенько выспаться. Потом я приеду за вами и отвезу вас на выборы.
Птичник сгибается пополам, Зан позволяет ему упасть на колени, но заходит вперед и поддерживает ему голову. Они нагибаются, стоя липом к лицу.
– Постарайтесь запомнить, – говорит Зан. – Я приеду за вами и отвезу вас на избирательный участок. Договорились?
Эрнст Ватцек-Траммер набычивается, принимая нелепую позу бегуна на старте, он дергает головой, словно желая избавиться от соблазнов Зана, и резво обегает его – на четвереньках, затем выпрямляется. Остановившись, он оглядывается на Зана. Зан решает, что пора ехать.
– Хватит вам, – говорит Зан. – Вы ведь ляжете сейчас спать, да? И не станете впутываться в неприятности?
Руки Эрнста Ватцека-Траммера безвольно падают.
– Не будет никакого голосования, – говорит он. – Они не дадут нам избавиться от этого, дурачок. – И он направляется к курятнику; Зан двигается за ним, но потом останавливается. Ему виден освещенный дверной проем, затем Эрнст Ватцек-Траммер входит внутрь и захлопывает за собой дверь. Курятник прогибается под крышей и стонет – это тот самый момент, Зан в этом уверен, когда яйца застревают в проходе, так и оставаясь неснесенными. Потом раздается кудахтанье; Зан видит курицу, то ли вылетевшую, то ли выброшенную из окна; свет внутри пляшет и раскачивается. Еще-одна курица – или, может быть, та же самая – громко кудахчет. Потом все смолкает; да, сегодня вечером яиц не будет. Зан ждет, пока не убеждается, что Эрнст Ватцек-Траммер нашел кровать – или согнал кого-то с насеста. Однако тот, кого он согнал, не стал, по крайней мере, возмущаться.
Зан вразвалку возвращается к такси, усаживается на крыло и отхлебывает глоток коньяку из бутылки, оставленной ему моим дедом. Он пытается закурить, но никак не может зажечь папиросу. Он уже усаживается за руль, намереваясь уехать, когда замечает пустую оболочку орла, прислоненную к переднему сиденью. Зан усаживает орла рядом с собой, но тот все время падает; Зан находит голову орла и кладет себе на колени, предлагая ей глоток дедушкиного коньяка.
– Да, утром у тебя была голова что надо, – говорит Зан и хихикает, после чего разражается приступом неудержимого хохота, достаточно громкого, чтобы вызвать в курятнике переполох. Зан никак не может остановиться, у него начинается истерика, он вдруг представляет себя в костюме орла, неожиданно вваливающегося в курятник, включающего свет и кавкающего до тех пор, пока ошалевшие куры не начинают нести яйца – если только не теряют навсегда способность нестись; он кавкает так громко, что Эрнст Ватцек-Траммер сносит яйцо – самое большое из всех яиц.
Но Зан лишь предлагает орлиной голове выпить еще, а когда она не откликается, он льет коньяк в ротовое отверстие.
У Зана появляется ощущение, будто они беседуют уже несколько часов, передавая бутылку друг другу, наблюдая за темным курятником и охраняя сон Эрнста Ватцека-Траммера, который примостился на своем хозяйском насесте.
– Выпей, храбрый орел! – предлагает Зан и замечает, как отверстие в голове орла тянется к откупоренной бутылке.








