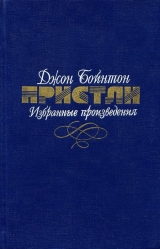
Текст книги "Дядя Ник и варьете"
Автор книги: Джон Бойнтон Пристли
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Когда мы вышли, то Барни – дрожащего и нетвердо стоявшего на своих ходулях – с одной стороны поддерживал я, а с другой – дядя Ник, выглядевший очень величественно в одеянии индийского мага; мы чуть ли не на руках донесли его до машины, дверцы которой уже открыл Стэн, почтительный и важный одновременно.
– Для меня было большой честью и удовольствием, доктор Дасс! – восторженно выкрикивал дядя, пока я заталкивал обеспамятовавшего Барни на заднее сиденье и усаживался рядом. Теперь дядя Ник сам держал дверь, загораживая нас от постороннего глаза, пока Стэн садился за руль.
– Надеюсь, что мы еще встретимся, доктор Дасс! – воскликнул дядя Ник, захлопнул дверцу, и мы укатили. На наше счастье смеркалось быстро. Иначе нам вряд ли удалось бы скрыть подмену: Барни был чуть ли не в беспамятстве. Только мы двинулись, как мне, к моему ужасу, послышалось, что кто-то крикнул: «Стой!», но я не был уверен, да и Стэн Браун был не из тех, кого можно так просто остановить.
Мы ехали довольно быстро, но не настолько, чтобы привлекать внимание, и свернули не к Северному пляжу, на дорогу во Флитвуд, а к Южному.
– Вы не ошиблись дорогой? – спросил я.
– Нет, друг, все рассчитано, – ответил он. – Поспешишь, так угодим в каталажку. Я знаю, что делаю.
Где-то на краю города, за Южным пляжем, он подвез нас к гаражу. Это было большое, плохо освещенное здание, там стояло с полдюжины машин.
– Вылезай. Пересадка, – крикнул он, когда мы остановились. И, выйдя, обратился к кому-то невидимому: – Все в порядке, Чарли, это я, Стэн. Я возьму маленького «туриста».
Я не вывел, а просто выволок Барни из машины.
– Почему вы привезли нас сюда, Стэн?
– Сменим машину, сменим платье и станем другими людьми. Уж мы-то с ним наверняка… А ты можешь надеть большую кепку, где она у меня тут? Смотрите, шофера больше нет. Он снял свою форменную куртку. – Помоги ему принять обычный вид. И если он таков, как я думаю, то устроится сзади, на полу. Значит, вместо двух знатных особ и шофера в большой машине мы теперь просто двое ребят – в маленькой. Я ведь Стэн Осторожный, хотя ты этого, может, и не подозреваешь. А до Флитвуда всего десять миль, и сейчас темнеет с каждой минутой.
Мне и тут пришлось помочь Барни переодеться и снять грим. Когда я вынул его из ходуль, то подумал, что ему придется ехать в Голландию босым, но в свертке оказались домашние туфли. Бороду, тюрбан и сапоги я завернул в халат и засунул в багажник. Барни сел сзади на пол и исчез. А я устроился на переднем сиденье и стал ждать Стэна, которому надо было потолковать с невидимым Чарли. Около десяти часов мы выехали из гаража, а в половине одиннадцатого были уже около «Флоры» во Флитвуде. Стэн выгрузил нас с Барни и заявил, что ему надо повидать приятеля и что за мной он приедет сразу после одиннадцати.
Капитан Фрилер оказался толстым, широкозадым коротышкой. Я таких сроду не встречал. Он с презрением взглянул на Барни с его узелком и велел одному из матросов присмотреть за ним. Я попрощался с Барни и последовал за капитаном в каюту, где передал ему четыре пятифунтовых банкноты, которые мне дал дядя Ник.
При виде денег капитан Фрилер покрутил носом.
– Я надеялся получить ваши прекрасные английские соверены.
– Вы можете получить их утром в банке, капитан, – сказал я. – Когда вы отплываете?
– Только днем. Так что последую вашему совету и схожу в банк.
– Пожалуйста, спрячьте Барни, карлика.
– Конечно, конечно. Его никто не увидит. А в Роттердаме его встретят, да? Это все организовано? Тогда выпьем.
От голландского шнапса меня так и передернуло.
– Слишком крепко?
– По правде сказать, капитан Фрилер, я устал – день был трудный – да еще на пустой желудок.
– О, на пустой желудок! Тогда мы закусим. Садитесь, молодой человек. Через пять минут будет еда.
Пока он ходил, я выпил еще шнапса, на этот раз с осторожностью. Слышно было, как капитан Фрилер кричит что-то по-голландски. Теперь, когда наш обман – самый грандиозный фокус дяди Ника – удался, я испытывал не подъем, а скорее упадок сил.
– Голландский гороховый суп, – объявил капитан Фрилер, возвращаясь в сопровождении человека с большим подносом в руках. – Лучшая еда в мире, в любое время дня и ночи. Теперь добавьте побольше сала, бекона – вот так.
И через минуту я уже сдабривал суп крошечными кусочками поджаренного бекона. Суп был очень вкусный и такой густой, что хоть режь его, так что через много лет, когда я ездил в отпуск писать картины в Голландии, я часто заказывал гороховый суп и вспоминал капитана Фрилера и ту ночь, когда Барни бежал из Англии.
Время близилось скорее к двенадцати, чем к одиннадцати, когда Стэн подвез меня почти к самой берлоге и остановился в нескольких шагах от нее. Я сказал, что хочу забрать платье и другие вещи. Но он остановил меня.
– Послушай, друг, – процедил он, почти не открывая рта, – на твоем месте я бы ничего не брал. Там у дома торчит сержант полиции. Свое добро заберешь завтра. Я буду в гараже. А сейчас тихонько вылезай, не обращай на него никакого внимания и иди себе домой, как невинный младенец.
Я видел сержанта, но притворился, что не замечаю его, а он тоже сделал вид, что меня не заметил. Под дверьми столовой виднелась полоска света, и я вошел. Дядя Ник сидел у стола, курил сигару и пил шампанское. По другую сторону стола сидел инспектор Крабб: он был очень зол.
– Где вы были? – спросил Крабб резко.
– Какое вам дело, где он был? – сказал дядя Ник. – Хотя нет, Ричард, уважь его, ответь. Ему и мне. Я тоже сижу и гадаю, где тебя носит. Ты ужинал?
– Да, этим я и был занят. Ужинал… с приятелем. Закон этого не запрещает, инспектор?
– Сколько времени у вас работает карлик по имени Тьюби?
– Он приехал в прошлый вторник. Я сам его встречал.
– А когда отбыл второй, этот Барни?
– По-моему, через несколько дней, инспектор. Они так похожи в костюме и гриме, что я даже не заметил, как Барни уехал, а Тьюби занял его место.
– Еще сегодня видели, как Барии выходил и входил в служебный подъезд «Паласа».
Я покачал головой.
– Это был Тьюби.
– Они арестовали беднягу Тьюби, – сказал дядя Ник, – но, конечно, им пришлось его выпустить.
– За что арестовали, дядя?
– Хватит переговариваться, – злобно вмешался Крабб и повернулся ко мне, сверкнув глазами. – Где Барни?
– Не знаю, инспектор. Откуда мне знать? Мы с ним не были приятелями. Вам надо обратиться в агентство Джо Бознби.
– Я уже говорил ему, – сказал дядя Ник.
Крабб оперся руками о стол и встал.
– Мы его найдем, так и знайте. Можете не сомневаться. И он у нас заговорит. И тогда я готов съесть мою шляпу, и докажу, что один из вас – а может, и оба, – по уши увязли в этом деле.
– Доброй ночи, инспектор, – любезно сказал дядя Ник.
В ответ Крабб только хлопнул дверью. Потом с таким же шумом открылась и захлопнулась входная дверь.
– Молодей! Он вытянул из тебя не больше, чем из меня. Он отлично понял, что мы обвели его вокруг пальца, но не знает – каким образом. Великий инспектор Крабб ошарашен. Как я понимаю, там все в порядке? Отлично. Дело об исчезающем карлике поставило в тупик Крабба. Неплохо, а малыш?
По-моему, в некотором смысле это действительно был его лучший фокус.
12
В ту первую неделю августа, когда началась война, мы снова были в Лестере, но это уже не имело отношения к ланкаширским гастролям: они закончились в Блэкпуле, и с нами не было никого из прежнего состава. Дядя Ник хотел было взять отпуск, но Джо Бознби и лишних пятьдесят фунтов в неделю убедили его выступить несколько раз, возглавив программу вместо популярного комика Нормана Бентли, которому сделали операцию по поводу аппендицита. Выступления были назначены в четырех городах: Лестере, Ноттингеме, Шеффилде и Лидсе. В Лестере остальные номера программы были из рук вон плохи, – август вообще неудачный месяц для варьете в промышленных городах. Только заключительный номер программы был нашего уровня – супружеская пара вокалистов Айрис Хэмптон и Филипп Холл, исполнители арий из оперетт; великолепно одетые, чопорные и сверхизысканные, они вне сцены вели себя как дамы-патронессы, покровители искусств. Дядя Ник возненавидел их с первого взгляда, они его тоже терпеть не могли, так как считали, что гвоздем программы подобает быть только им.
Дядя Ник был главной звездой и зарабатывал больше денег, чем когда-либо: казалось бы, он должен бы быть доволен жизнью. Номер наш шел превосходно, потому что Дорис Тингли и Филипп Тьюби двигались быстрее, и работать с ними было легче, чем с Барни или Сисси. Мы были в отличной форме. Но хороший номер еще ничего не значит без хорошей публики. А на первое представление всю неделю народа ходило мало, так что дядя Ник признался мне, что не заслуживает дополнительной оплаты; и хотя на вторых представлениях дела шли лучше, но публика была шумная и бестолковая и к возмущению дяди Ника совсем не умела сосредоточиться.
Как только началась война, – хотя никто не знал, как глубоко мы увязли и что же на самом деле происходит, – дядя Ник начал завершать номер трюком, который сам называл «фокусом для детворы» – иронизируя над собой, он устраивал «большой флаговый финал»: вытаскивал из бумажной трубки множество флагов, а в самом конце доставал огромный флаг Великобритании, что вызывало больше рукоплесканий, чем все самые тонкие фокусы вместе взятые.
Однажды ночью, когда мы выходили, он шепнул мне:
– Скоро настанет сумасшедшее время, малыш. Я чувствую, как оно приближается. Проклятые идиоты!
Мне казалось, что он проклинает начавшуюся войну, потому что видит в ней соперника-артиста, более яркого, впечатляющего и требовательного, который вытеснит его и станет звездой программы. Когда по улицам, выкрикивая новости, пробегали разносчики газет, – я совсем было забыл, как это выглядело и звучало, пока не всплыли первые августовские недели, – я порой покупал газету, но дядя Ник никогда не делал этого, хотя, сохраняя вид презрительного равнодушия, старался узнать у меня последние известия. Он и раньше не любил обывателей, а теперь совсем рассвирепел в своем презрении к ним.
– Ты только посмотри, как они к ней относятся. Как к увеселительной поездке в Блэкпул или в Маргейт. Наконец-то они нашли что-то новенькое по части сильных ощущений. В своей стране Надежды и Славы они ведут такую унылую жизнь, – бьюсь об заклад, что на следующий день Айрис Хэмптон и Филипп Холл будут этой песенкой заканчивать свой номер – повторяю, они ведут такую унылую жизнь, что для них война, – пока она происходит где-то в другом месте, – своего рода пикник. Они проявляют патриотизм, бросая камни в немецкие оркестры и отбирая у мясников колбасу. Но это дурные страсти, малыш. Я чувствую это по зрителю. Они не желают есть, смотреть и слушать, получать удовольствие, как цивилизованные люди. Они только и ждут, чтобы кто-нибудь из нас сломал себе шею – вот был бы восторг. Видит бог, я очень жалею, что позволил Джо Бознби уговорить себя. Надо было уехать и отдохнуть в тихом уголке, где-нибудь в западной Ирландии. Но в тот момент я не знал, какую бы женщину мне пригласить с собой. А на отдыхе мужчине необходима женщина.
– Так найдите ее, дядя Ник, и поезжайте, как только мы отыграем.
– Ты все видишь в розовом свете. Я не о женщинах. Это несложно, я о том, во что это все выльется. Они-то воображают, кажется, что у них будут только неприсутственные дни.
Разговор был за ужином, – мы жили в общей берлоге и сидели одни, – и не успел дядя Ник сказать о свободных днях (а в ту первую неделю их было целых три подряд), как сквозь открытое окно из соседнего бара донеслись приветственные крики и аплодисменты.
– Вон они! – сказал дядя Ник. – Ликуют и чванятся. Да здравствует флот! Да здравствует Китченер, – а он только и умеет воевать с бурскими фермерами! Трижды ура красно-бело-голубому!
– Дядя Ник, вы говорите так, словно вы не на нашей стороне, – сказал я с улыбкой.
– Ты неправ, малыш. Но подождем недельку, другую, и тогда я точно выскажу все, что чувствую и думаю об этой войне, в которую мы ввязались. А теперь, ради бога, поговорим о чем-нибудь другом.
В следующие две недели, сначала в Ноттингеме, а потом в Шеффилде, я очень много времени проводил с дядей Ником, как будто в глубине души знал, что наше содружество скоро кончится. У него еще была машина, он часто возил меня туда, где было что рисовать или писать маслом, а затем с ревом уезжал прочь и возвращался, чтобы разделить со мной поздний завтрак на лоне природы. Два-три раза с нами ездили Дорис Тингли и Филипп Тьюби. Эти дни могли бы быть славными, но мы возили с собой свою тревогу, и я, например, всегда чувствовал, что где-то совсем рядом, за знойной дымкой лета, происходит что-то, чего мы не знаем и не способны понять, если бы и знали. Я не принадлежал к тем, кого осуждал дядя Ник, и не считал войну веселой забавой; но с другой стороны, мне не верилось, что все это всерьез, и потому на душе было смутно, и я писал из рук вон плохо. Мы как раз возобновили фокус с «Магическими картинами», и сентиментальная мазня, которую я разводил дважды в вечер – «сельский домик», «лес» и прочая чушь, – казалось, была не намного хуже той пачкотни, которой я занимался днем.
Однажды, когда с нами ездила Дорис Тингли, нам пришлось остановиться на перекрестке, чтобы пропустить батальон пехоты во главе с оркестром. Дорис заплакала и была вне себя от ярости.
– Как только я слышу звуки оркестра и вижу марширующих ребят, я не могу удержаться от слез. Ведь надо же! Меня довести до слез!
– Это еще только цветочки, Дорис, – сказал дядя Ник. – Прежде, чем удастся вырваться, нам предстоит пролить море слез. Бог ты мой, ну и пылищу они подняли.
Когда пыль осела и мы поехали дальше, машина остановилась у щита с афишами.
– Взгляни-ка на это объявление. Ты нужен Китченеру. Что ты на это скажешь, малыш?
Я промолчал. Тогда я еще промолчал.
13
К концу недели в Шеффилде и всю неделю в Лидсе дядя Ник больше не спрашивал, куда отвезти меня на машине. Я снова вернулся к трамваям и поездам, а он, как я понял, делил время между берлогой, варьете и Главным почтамтом, где писал письма, звонил в Лондон и рассылал телеграммы. Я понятия не имел, чем он был занят, но несмотря на настояния Дорис и Тьюби спрашивать остерегался, потому что он был явно занят делами, а деловые переговоры дядя Ник обычно предпочитал вести в тайне, а потом как бы невзначай сообщал результат. Правда, нам было известно, что после Лидса у нас выступлений нет, но по мере того как дни проходили за днями, а дядя Ник молчал, пресекая вопросы сердитыми взглядами, любопытство и волнение наше нарастали. Я говорю прежде всего о себе, за остальных не поручусь; так продолжалось до пятницы. Но когда прошел вечер пятницы, а он все молчал, я был удивлен не меньше других, хотя и не так разочарован. А между тем его сердитые взгляды становились все более мрачными.
В субботу на этюды я не пошел, – днем вокруг было слишком много народа, – но утром вышел прогуляться. А когда за обедом встретился с дядей, – мы по-прежнему жили в одной берлоге, – то сразу увидел, что произошло нечто важное и для него радостное, хотя он и старался эту радость скрыть.
– Вижу, есть новости, – сказал я. – Какие?
– Не сейчас, малыш. Все расскажу вечером, когда дела будут кончены, и мы будем посвободнее. После второго представления, когда переоденемся, я хочу, чтобы вы собрались в моей уборной. Так всем и скажи. И раздобудь стаканы, у меня всего три, так что надо достать еще три. Пить будем шампанское, об этом я сам позабочусь, пары бутылок, я думаю, хватит. Вот и все до вечера. Какие новости о храброй маленькой Бельгии? Это, видно, совсем не та Бельгия, которую я знаю.
Я не хотел с ним спорить и заговорил о другом:
– Как там поживает Барни?
– Да, совсем забыл тебе сказать. Он сейчас в Ганновере, с цирком. Я знаю это не от него, – он, наверно, и писать-то не умеет, – а от известного тебе голландского агента. Немцы люди дотошные, так что его, может быть, и интернировали, хотя сомневаюсь, чтобы даже немцы рыскали по циркам в поисках карликов. Кстати, Ричард, передай всем, что сегодня я хотел бы, чтоб труппа Гэнги Дана дала два блистательных представления. На то есть свои причины.
Конечно, я все передал Дорис, Тьюби и Сэму с Беном. Теперь, как правило, публика на втором субботнем представлении бывала совсем не в нашем вкусе: им хотелось только посмеяться и попеть хором. Да кроме того, как я уже говорил, военная лихорадка тоже работала против нас. Но тем не менее второе представление в ту субботнюю августовскую ночь 1914 года было самым лучшим из всех. Если не считать безвкусной концовки с флагами, дядиного «фокуса для детишек», мы показали все наши лучшие трюки и иллюзии, включая «Волшебный ящик», с которым Дорис справлялась куда быстрей, чем Сисси, «Мага-соперника», где Филипп Тьюби работал несравненно лучше Барни, «Исчезающего велосипедиста» и «Волшебную картину» В тот вечер все мы, можно сказать, были чародеями и мастерами своего дела. Все было абсолютно точно рассчитано и великолепно выполнено. И я готов поклясться, что от нас к публике словно протянулись невидимые нити, – это был именно тот случай, когда никакие события, проецируемые на киноэкран из железной коробки, не могут идти в сравнение с живыми исполнителями; и зритель почувствовал, что видит не обычное представление. Аплодисменты в конце не были как гром, – они никогда не похожи на гром, – но в ладони били дружно и сильно, точно град стучал по деревянной крыше. И дядя Ник вдруг сделал то, чего не делал никогда: он всех нас вывел на поклоны. Да. Но ведь это же было наше последнее выступление.
Когда мы пришли в его уборную, – она, как комната звезды, была самой большой, – он уже наполнял стаканы.
– До того, как я скажу несколько слов, я хочу, чтобы вы выпили со мной. Сэм и Бен, я знаю, предпочитают пару кружек крепкого эля, но и им придется разочек удовольствоваться моим любимым напитком. Итак, за ваше общее здоровье и за блестящее последнее выступление. Да, оно было последним. Но прежде чем объяснить почему, я хочу вручить вам вот это. – И он начал раздавать конверты. – Здесь деньги за две недели. Вы, Сэм, как только выслушаете то, что я должен сказать, спускайтесь с Беном и Тьюби вниз и начинайте паковаться. А ты, Ричард, останься, ты мне нужен. И чтобы в понедельник, с раннего утра, все было готово к отправке, а то я уже договорился с компанией гужевых перевозок: они приедут и переправят ящики на склад, в Лондон, где реквизит будет лежать до моего отплытия. Потому что я уезжаю в Америку. Все уже решено.
Мы все заговорили разом, но он допил свое шампанское и попросил нас замолчать.
– Я еду в Америку не просто потому, что меня приглашают и готовы заплатить хорошие деньги. Дело в том, что мне не по нраву эта война. Я в нее не верю. На мой взгляд, нечего было ее затевать. Но ее затеяли, и теперь никто не в силах ее остановить. И потому я уезжаю в Америку. – Он взглянул на меня. – То, что я сейчас скажу, к тебе не относится, так что не вмешивайся. – Я кивнул, и он, бегло улыбнувшись, повернулся к остальным. – По разным причинам я никого из вас не могу взять с собой. И мне очень неприятно оставлять вас без работы…
– Да уж конечно, Ник Оллантон. – Дорис не отрывала от него свирепого взгляда. – Да еще в такое время.
– Вы считаете, что сейчас плохо оказаться без работы?
– Безусловно. Я-то не пропаду, надо только посмотреть, как там дела у Арчи, но эти трое…
– Ошибаетесь, Дорис. Послушайте. Для работы время настало не плохое, а хорошее, это я насчет того, что искать работу не придется. Китченер требует сто тысяч человек. И он их получит. И еще сотню тысяч получит. А потом еще и еще. Они уже призвали всех солдат запаса и всю территориальную армию. А что это означает? Это означает, что через несколько месяцев будет острая нехватка рабочих рук, начнут брать подряд и мужчин и женщин, если женщины пожелают изготовлять амуницию. Да, да, Дорис, вы им очень понадобитесь, если только Арчи это допустит. Что касается Сэма с Беном, то они – механики, и им никак не может быть плохо. На будущий год в это время они будут получать втрое больше, чем я им плачу.
– А как же я, мистер Оллантон? – спросил Тьюби, и глаза его потемнели от огорчения. – До вашего приглашения дела мои шли из рук вон плохо.
– На вашем месте, Тьюби, я бы оставил сцену, если, конечно, не появится какое-нибудь заманчивое предложение. Есть работа, которую маленький человек может выполнить не хуже большого, а иногда и лучше. Кроме того, если из гражданской жизни призывают в армию сотни тысяч людей, то кто-то же должен их заменить. Пока что у людей о войне превратное представление: они думают, что война кончится через несколько месяцев. Но я знаю, что это не так. Вы будете нужны, Тьюби, уверяю вас. И все остальные тоже. Так что выбросьте из головы мысль, что я покидаю вас и бросаю на произвол судьбы, как говорится. Но я действительно покидаю вас, и на этом прощайте.
И он всем пожал руки.
– Я тоже прощаюсь с вами, – сказал я.
– Правильно, Ричард, мой мальчик, прощайся. Только сначала наполним стаканы.
Так я и сделал, а потом последовал примеру дяди Ника. Пожимая руки Сэму и Бену, я сказал вполголоса:
– Инспектору Краббу так и не удалось выжать признания, что Барни вовсе не уходил рано, вместе с вами.
– Он нас долго обрабатывал, этот инспектор, – сказал Сэм. – Упорный тип, ох упорный. Но и мы с Беном упрямы. Хейесы этим славятся.
– Точно, – подтвердил Бен, и это был один из немногих случаев на моей памяти, когда он вообще открыл рот. И больше не сказал ни единого слова.
– Для меня наша работа была большой радостью, мистер Хернкасл, – сказал Тьюби проникновенно. – И если когда-нибудь я оставлю сцену, – а нельзя не признать аргументацию мистера Оллантона, – то сохраню самые-самые приятные воспоминания о нынешнем ангажементе. Мне и сейчас порой кажется, что я на самом деле доктор Рам Дасс из Бомбея.
Когда я взял за руку Дорис, она негодующе закричала:
– Ну вот, сейчас я зареву в три ручья. Совсем сдурела. Ладно, давай уж поцелуемся.
Она вырвала свою руку, обняла меня и наградила сердитым поцелуем.
– Передай привет Арчи, он мне понравился.
– Я знаю. От него все без ума. Кроме будущих клиентов. Найди себе хорошую девушку, Дик. Это не так-то просто. Большинство из них и крыши над головой не стоят – неряхи и бездельницы.
Этот сердитый выкрик был последним, и больше я о Дорис не слышал лет восемь-девять.
У дяди Ника была машина, и мы в молчании поехали в нашу берлогу. Под влиянием шампанского я минут на десять повеселел, но потом чувствовал только грусть и внутреннюю пустоту. Дорис и маленького Тьюби я любил, и хотя не питал таких же чувств к Сэму с Беном, но с ними мы много месяцев проработали бок о бок в самых разных местах. А в этот вечер мы, все вместе, дали такое чудесное представление, которое многим зрителям запомнится на всю жизнь. Потом они станут рассказывать: «Вы только послушайте его. Отец всегда вспоминает индийского мага, которого мы видели в „Эмпайре“ в самом начале войны. И я могу подтвердить, что это был замечательный номер. Теперь такого не увидишь». Однако вы поймете, что я не мог упрекать дядю Ника за то, что он распустил свою труппу.
Мы ужинали в одиночестве: других постояльцев не было, и нам подали в маленькой задней комнате. Я как сейчас ее вижу: до отказа заставленная мебелью, обтянутой потертым плюшем пурпурного и ядовито-зеленого цвета; всю стену занимала огромная, очень плохая картина: по словам хозяйки, это был подлинник, масло, наследство, оставшееся после дядюшки; на полотне веселые кардиналы пили за здоровье друг друга и чокались бокалами с красной краской.
Пока мы управлялись с холодной бараниной, салатом и пирогом с черникой, разговор шел о Дорис, Тьюби и Сэме с Беном; дядюшка вспоминал и прежних своих помощников. Но когда он закурил сигару, а я – свою трубку, непринужденная беседа вдруг оборвалась.
– Ты, наверное, догадываешься, почему разговор в уборной не имел к тебе отношения. Я хочу, чтобы ты ехал со мной, мальчик. У меня там контракт с Китом на сорок недель, а потом еще на месяц – в Нью-Йоркском «Паласе». Работа будет трудная, трудней, чем здесь, – больше часов, длинней переезды, но зато – сколько впечатлений! Это воистину Новый свет, Ричард. Не стану утверждать, что это идеальная страна. Но пока Европа перерезает себе глотку, Америка будет расти и расти. Я еще не могу сказать точно, но полагаю, что дней через десять мы отплываем на «Лузитании».
– Простите, дядя Ник. Мне очень жаль, но вам придется ехать одному. Я иду добровольцем. В новую армию Китченера.
Он положил сигару.
– Черт возьми, парень! Ты рехнулся. Идти в армию? Зачем тебе армия? Я приведу тебе десять отличных доводов против, а ты попробуй привести хотя бы один – за.
– Это трудно объяснить… – начал я медленно.
– Невозможно, если только ты в своем уме.
Я в нерешительности медлил с ответом, тогда он сунул сигару в рог, глубоко затянулся и продолжал:
– Ну ладно, малыш, давай дальше. Давай! – выкрикнул он сквозь сигарный дым. – Должен же ты что-нибудь сказать в свою защиту, пусть даже глупость.
Я избегал встречаться с его гневным взором и, глядя на бражников-кардиналов, неуверенно проговорил:
– Я не хочу быть солдатом. Я очень желал бы, чтобы войны не было. И не такой уж я горячий патриот. Все эти маханья флагами и речи о короле и королевстве не вызывают у меня криков «ура!».
– Надеюсь, – зарычал дядя Ник. – Все это – дерьмо собачье. Но продолжай, продолжай.
– И все же, я знаю, что буду чувствовать себя отвратительно, если уеду в Америку. И никогда не смогу думать ни о чем другом. Я буду считать, что сбежал от опасности. У вас все это по-другому… Вас я не виню…
– И на том спасибо. Это чертовски мило с твоей стороны!
– Но я человек молодой… И живу здесь… И чувствую, что мой долг – испытать судьбу, как делают многие другие… – закончил я довольно нескладно, отчасти потому, что решение мое, твердое и ненерушимое, не было до конца продуманным и сознательным, но еще и по той причине, что наша с ним жизнь казалась мне бесплодной и пустой, а этого я не мог прямо сказать ему. Я шел в армию не потому, что хотел бежать из варьете, – все было не так просто, – но для меня эта жизнь была совсем иной, чем для него, и я уже начал понимать, что если раньше получал здесь пищу для ума, то теперь, несмотря даже на такие выступления, как сегодняшнее, варьете уже ничего не могло мне дать.
– Теперь мое слово, – заявил дядя Ник, и в глазах его сверкнул торжествующий огонек. – И я знаю, что говорю. Ты, как и все прочие болваны, хоть и не высказываешь этого прямо, но тоже считаешь, что война будет как пикник – несколько месяцев помаршируют, покричат «ура!», помашут флагами, а затем с Германией будет покончено, и вы вернетесь домой героями – вся грудь в крестах!
– Я так не считаю…
– Нет, уж ты слушай, – кричал он, – и заруби себе на носу. Я не таков, как эти. Я бывал в Германии. Выступал в Берлине, Гамбурге, Мюнхене и Франкфурте; я все видел и все слышал. Я знаю немцев. У них такая военная машина, что рядом с ними вы все – как оловянные солдатики. Не уверен, возьмут ли они Париж, но зато уж точно знаю, что они устроят дьявольскую бойню. Несколько месяцев! Детский лепет. Эта война протянется не месяцы, а долгие годы – и с каждым годом она будет все страшней. Ты просишься в кровавую мясорубку, малыш. Ты говоришь, что в Америке будешь чувствовать себя отвратительно. Так вот, уверяю тебя, это – ничто в сравнении с тем, как ты будешь чувствовать себя здесь через год или два, если только доживешь. Тот старик индиец был прав. Мы ввязались в самую кровавую бойню всех времен. А ты даже не желаешь ждать, пока тебя потащат. – Он помолчал и продолжал другим тоном: – Я, кажется, всегда неплохо к тебе относился? И очень хочу взять тебя с собой. Поехали, Ричард, покажи, что у тебя есть хоть капля здравого смысла.
Такому тону было труднее противостоять, но решение мое было твердо.
– Простите, дядя, мне очень жаль, но…
– Ну и катись ко всем чертям! – закричал он и одним прыжком выскочил из комнаты.
Утром он повторил, что стоит мне сказать слово, и я смогу ехать с ним в Нью-Йорк. Я ответил, что очень бы хотел, но твердо решил идти в армию. Он сказал, что если я передумаю, то могу позвонить Джо Бознби. Он уезжал в Лондон, и я помог ему погрузить багаж. Когда все было сложено, мы несколько минут стояли молча, глядя друг на друга. На улице было тихо, утро было воскресное, теплое и сонное. Мы пожали друг другу руки, и я долго смотрел вслед его машине. Больше я никогда его не видел.








