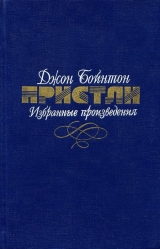
Текст книги "Дядя Ник и варьете"
Автор книги: Джон Бойнтон Пристли
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
Мы обнялись, поцеловались, и она сказала, снимая пальто:
– Заждался, милый? Я ушла сразу, как только смогла. Томми пришлось тащить в постель вскоре после твоего ухода, но надо было еще убедиться, что он заснул. А сюда я, конечно, шла пешком.
– Вот мой подарок, Джули. – И я протянул ей брошь.
– Ах, какая прелесть! – воскликнула она. – Прелестная старинная вещь!
– Испания, восемнадцатый век, – сообщил я гордо.
– Милый, но мог ли ты себе это позволить?
– Не мог, но позволил.
– Дорогой мой! – Она поцеловала меня. – А вот что я тебе дарю. Я знаю, у тебя таких нет. – Это были красивые наручные часы, вещь тогда еще не столь распространенная, как позже, во время войны. Я был в восторге. Когда я поблагодарил и поцеловал ее, она сказала: – Надеюсь, у тебя тепло. На дворе мороз, да и тут внизу тоже прохладно.
– Совсем тепло. Увидишь.
– Я пойду туда. Подожди пять минут, милый, и поднимайся. Принеси с собой виски и бокалы. Если у тебя нет виски, возьми у Бентвудов, Роз не рассердится. Всего пять минут, милый, пожалуйста.
Ровно через шесть с половиной минут по моим новым часам я постучал в дверь своей комнаты бутылкой виски, из которой уже отхлебнул глоток, и вошел, не очень зная, чего мне ожидать. Она стояла передо мной обнаженная…
И тут произошло что-то неповторимое. Несколько мгновений, пока она молча улыбалась и я тоже молчал, я воспринимал ее красоту как пейзаж или прекрасную картину, вне желания, не думая о том, чтобы обладать ею. Теперь мы живем в мире обнаженных или полуобнаженных женщин, в мире рук и плеч, икр и бедер, так часто выставляемых напоказ и таких загорелых, что самая кожа их кажется своего рода одеждой; но когда женщины были закутаны с головы до пят, такая нагота была потрясающим откровением, словно свершилось чудо и ожившая статуя, жемчужно-опаловая, слабо светящаяся, вышла из темного вороха одежд. Джули воистину была прекрасна в своей наготе. Распущенные темные волосы обрамляли тонкое, нежное, чуть поблекшее лицо, а тело было полным, почти пышным – упругие полушария грудей, неожиданные после этих впалых щек; великолепные бедра над плотно сдвинутыми коленями, очень женственными и трогательными; я даже успел удивиться, почему художники изображают нечто розоватое и бесформенное вместо темного треугольника – последнего, резкого и сильного штриха, придавшего законченность этой непостижимой по совершенству золотисто-розовой скульптуре. Все это, может быть, звучит слишком бесстрастно и хладнокровно для нормального двадцатилетнего юноши, впервые увидевшего раздетой ждущую его женщину, но тут я ничем не могу помочь, ибо так оно было, хотя, конечно, этот чистый взгляд, эта бесстрастность художника длилась всего лишь несколько мгновений.
Но вот она шевельнулась, я бросился к ней, мы осыпали друг друга страстными поцелуями, моя одежда полетела на пол… Джули застонала. Это первое объятие было недолгим; помню только, что я, неуклюжий, неопытный юнец, был потрясен, почти испуган силой и глубиной ее чувственности, которой я до сих пор не подозревал в Джули Блейн: словно я не обладал ею, а был внезапно ввергнут в огромный незнакомый мир, океан стонов и неистовства плоти, – мир наслаждения, неотличимого от боли, унесен назад в те времена, когда все сущее было еще безымянно и безлично.
Мы растянулись возле огня в сверкающем изнеможении, выпили виски и немного покурили. Джули пыталась мне что-то рассказать, и в то же время говорить ей не хотелось, поэтому она произносила какие-то обрывки фраз, которые я должен был составлять вместе, хоть у меня и не было настроения заниматься исследованием ее интимной жизни. Но я понял, что человек, с которым она жила, был удивительным любовником, а теперь, с Томми, она месяцами лишена настоящего удовлетворения. Потом она сказала, чтобы я не шевелился, и неслышно вышла из комнаты. Вскоре она вернулась с полотенцем и губкой и очень осторожно и нежно, словно я был какой-то драгоценностью, обтерла мое лицо и тело; потом начались медленные прикосновения, поглаживания; и по ступеням невыразимого блаженства она повела меня в другой незнакомый мир, в восточный сад наслаждений. И потом на постели мы снова любили друг друга, на этот раз медленнее и, что касается меня, в общем более сознательно: я уже не был потрясен и испуган, я не уступал ей, и мы достигли вершины одновременно. Но даже тогда это было удивительно безлично, анонимно – не Ричард Хернкасл любил Джули Блейн, а просто мужчина обладал женщиной.
Ей давно уже было пора идти. Обнаружив это, она встревожилась. Она собиралась возвратиться в гостиницу одна, но я не мог этого допустить и, пока она одевалась в ванной, тоже быстро оделся и был готов задолго до нее. На обратном пути в Поултри она держала меня за руку, иногда прижимаясь ко мне, но почти ничего не говорила и все повторяла: «Правда, милый, это было чудесно?» Я инстинктивно чувствовал, что нам надо было бы жадно расспрашивать друг друга, говорить много, горячо и ненасытно, но этого не было: мы едва обменялись двумя словами, и я понимал, что это нехорошо. Мы остановились, не доходя до входа в гостиницу, быстро поцеловались и разошлись.
Бентвуды еще хохотали где-то до упаду, и я поднялся наверх в свою комнату, теперь слишком теплую и душную, полную запахов не только виски и табака, но еще и любви, и это был какой-то рыбный запах, словно мы только затем с таким пылом упали в объятия друг друга, чтобы возвратиться в океан, откуда некогда вышли наши далекие предки. Я отдернул занавески, распахнул окна и двери, и скоро в комнате стало совсем холодно от морозного ночного воздуха. Потом я закурил трубку, осторожно любовно разложил акварельные краски и кисти, которые мой удивительный дядя Ник так тщательно выбрал для меня, и с восхищением принялся их разглядывать. Может быть, из-за того, что последний раз я держал кисть в руках в обществе Нэнси, а может быть, по каким-то другим, более таинственным причинам, она вдруг возникла в моем сознании, хотя я старался изгнать ее образ и даже не помнил ясно, как она выглядит, зато ясным было мое представление о ней как о человеке. Тут я внезапно почувствовал, что проголодался, сошел вниз, прихватив остаток виски, и стал искать какую-нибудь еду; в конце концов я съел сандвич с языком и три куска сладкого пирога. Лег я рано, немного почитал, потом выключил свет и уже почти засыпал, когда мимо моей двери с обычным хохотом прошли Бентвуды.
Наутро, когда мы с Альфредом Бентвудом вымыли и убрали посуду после завтрака, я оставил его проверять запасы спиртного и бокалы (вечером они ждали гостей) и поднялся в свою комнату, где застал Роз, уже кончавшую стелить постель. Она весело взглянула на меня.
– Я не хотела говорить при Альфреде, – сказала она, – но, по-моему, ты вчера хорошо повеселился, а? Я хочу сказать, ты совсем не прочь был остаться в доме за хозяина?
– Ну… как вам сказать… пожалуй… – неопределенно ответил я, делая вид, что не замечаю ее взгляда.
– Еще бы, гадкий мальчишка! Ты думаешь, я не догадываюсь, чем ты тут занимался? В таких делах я настоящий Шерлок Холмс.
Уворачиваясь от ее наступления, я сказал:
– Да, миссис Бентвуд… Роз… я взял у вас немного виски. Вы простите… я вам верну…
– Не надо, что ты! У тебя была уважительная причина. – Роз покатилась со смеху. Я тоже смеялся вместе с ней, и вдруг, словно в кошмаре, она почудилась мне чудовищным и непристойным символом – заплывшей жиром ненасытной самкой. И к тому же еще, чтобы показать, что ни капельки не сердится, она влажно чмокнула меня в щеку.
6
До сих пор я описывал события неторопливо и пунктуально. Неделю за неделей. И хотя в дневниках того времени даты и места я указывал совершенно точно, все последующее припоминается мне словно кинофильм, лента которого сорвалась с катушки, и он идет скачками, прерывистый и невнятный.
Да так оно примерно и было с того дня, когда Джули стала моей. Мы стремились друг к другу, а до остального нам и дела не было. Свои обязанности я выполнял, и, кажется, неплохо, хотя порой чувствовал на себе любопытные взгляды дяди Ника и Сисси. Я переезжал из берлоги в берлогу, захлопывал за собой двери театров, порой пропускал стаканчик с Дженнингсом и Джонсоном и с улыбкой слушал их бесконечные воспоминания; ездил поездом и ходил пешком по чужим зимним улицам, гримировался и снова стирал грим; но все это я делал как во сне – во сне долгом и бессмысленном. О живописи, разумеется, не могло быть и речи, я и близко не подходил к картинным галереям и всякий раз уверял себя, что там плохое освещение. Я жил только для того, чтобы любить Джули, хотя на самом деле то, чем мы занимались, не было любовью; в подлинном смысле слова мы вообще любовниками не были, а скорее – заговорщиками, двумя фанатиками, охваченными одной страстью. Я думал об одном: где и как найти место для свидания. А короткие наши ежевечерние встречи за сценой – быстрый шепот и жгучие прикосновения – лишь подливали масла в огонь.
К концу недели в Ноттингеме и в начале следующей – в Лестере, угрюмом городе, который мы все ненавидели, ей было не до любви, о чем она мне напрямик и сказала, но потом от этого стало только, конечно, хуже. И вот, в среду вечером, в канун Нового года, мы решились на шаг, который еще неделю назад сочли бы чистым безумием. Они с Томми были приглашены к друзьям из лестерского театра, но Джули все жаловалась на головную боль и так долго тянула с одеванием, что Томми, до смерти любивший ходить в гости, не выдержал и ушел один. В ту неделю у меня была собственная маленькая уборная, где я и ждал Джули, сказав дяде Нику и Сисси, с которыми мы снова жили в одной берлоге, что хочу непременно закончить рисунок; она пришла ко мне, как только убедилась, что Томми ушел, я запер дверь, и в этой грязной каморке мы предались любви, лихорадочно и торопливо; а тут еще на беду к нам постучался пожарник, совершавший обход, я откликнулся, тогда он пожелал мне счастливого Нового года и долго топтался под дверью в ожидании чаевых. Полуодетые, обреченные на вынужденное молчание, мы уж и не думали о наслаждении и едва дождались, чтобы Джули могла выскользнуть незамеченной. Нет, такое не должно повторяться, решили мы.
Я как раз вовремя поспел к ужину, до того, как дядя Ник – он очень ценил торжественные церемонии – наполнил шампанским три бокала и предложил нам с Сисси встать и выпить в честь Нового года. Сигналом служил полночный бой часов.
– Ну, Сисси и Ричард, выпьем за тысяча девятьсот четырнадцатый год, и пусть он принесет нам хоть половину того, о чем мы мечтаем.
Сисси пустила слезу и поцеловала его. Я пожал дяде руку. С улицы доносился невнятный праздничный гул. Приход нового 1914 года праздновали даже в Лестере.
– А почему нельзя просить чего душе угодно? – с серьезным видом спросила Сисси.
– Это неразумно, – в тон ей ответил дядя Ник. – Попросишь слишком много – ни черта не получишь.
– Вот уж не думал, что вы суеверны. – Это сказал я.
Он закурил сигару.
– Я не суеверен. – И добавил после нескольких затяжек: – Благоразумие всегда себя оправдывает, даже если будущее покрыто мраком неизвестности и планов строить нельзя. Ну, а теперь идите оба спать – только не вместе, – а я начну Новый год с того, что покурю и подумаю над номером с двумя карликами.
Когда мы поднялись наверх, Сисси вдруг остановилась и поцеловала меня.
– С Новым годом, Дик! – Потом прищурилась и сказала шепотом: – А я догадалась, где ты был. От тебя пахнет ее духами. Он тоже знает, что тут дело нечисто, только я ничего не скажу, даже если он спросит. Но ты все-таки дуралей. Ведь мы же все тебя предупреждали.
Конечно, все меня предупреждали; но в то время было слишком рано, а теперь – уже поздно. В Бирмингеме нам повезло больше: у Джули там оказалась знакомая лавочница, и мы целых два дня не выходили из ее спальни – все то время, которое Джули осмелилась урвать. В Бристоле у меня был адрес от Рикардо, он там когда-то останавливался, и во вторник днем, пока он любезничал на кухне с хозяйкой, я сумел тайком провести Джули к себе, а потом незаметно выпустил ее из дома; в пятницу было еще проще, так как Рикарло водил хозяйку в кино. И за всем этим мне почти не запомнился сам Бристоль, он словно привиделся в долгом, смутном сне.
А ведь в другое время, не будь я как в чаду, и если бы зима была помягче, мне бы очень понравился Бристоль, где корабли заходят в самый центр, и над магазинами и трамваями вздымаются мачты; не гори я, как в лихорадке, да при менее суровой погоде я сделал бы много интересных зарисовок. Но мы все никак не могли насытиться друг другом, после встреч подолгу дразнили себя воспоминаниями, а потом ломали голову, где бы свидеться вновь; за сценой мы вечно шептались, строили планы и все больше и больше походили на фанатичных заговорщиков, которые, как одержимые, ничего вокруг себя не замечают и идут по жизни, точно призраки, – правда, не берусь утверждать, что Джули испытывала те же чувства.
Вскоре у меня с дядей Ником произошел разговор, прояснивший ближайшее будущее нашей бродячей жизни. Это было в субботу вечером, в Бристоле, когда я зашел к нему в уборную между представлениями.
– Не пойму, что с тобой творится, дружище, – начал он мягким голосом, хотя глаза смотрели строго. – У тебя такой вид, будто ты нашел два пенса, а потерял целый шиллинг. В чем дело?
– Это все зима виновата, дядя, – дни стоят темные, кругом ничего не разглядеть, я не успеваю даже открыть этюдник – до сих пор не испробовал те чудесные акварельные краски, что вы мне подарили.
Ответ убедил его. Сам он живописью не интересовался, но занятия мои уважал, считая, что я так же предан своему искусству, как он – своему. Для него это было именно искусство, а не просто способ хорошо зарабатывать.
– Сегодня утром я говорил по телефону с Джо Бознби, – помнишь его? Это мой агент… Он еще тебе не понравился.
– Верно, только я не подозревал, что вы это заметили.
– Я многое замечаю, малыш. Кстати, я и сам его недолюбливаю, как, впрочем, и он меня, хотя, если послушать наши беседы, это никому в голову не придет. Так вот, Джо составил новую программу. Взгляни-ка. На следующей неделе мы выступаем в Плимуте, вернее, в Девенпорте, но Плимут звучит красивее. Затем Портсмут и Саутси. И то и другое одинаково плохо: местечки порядком загаженные и полным-полно матросни. Но ничего не поделаешь, придется ехать. Затем – неделя отпуска, а со второго февраля – Лондон.
– И мы неделю будем свободны? – Я не знал, грустить мне или радоваться. Ведь Томми мог увезти Джули, но если он этого не сделает, у нас будет целая неделя. Только как быть с деньгами?
Дядя словно подслушал мой вопрос.
– О деньгах, малыш, не беспокойся. Эту неделю я тебе оплачу, а в следующие восемь, пока мы будем выступать в пригородах Лондона, я повышу тебе жалованье до семи фунтов десяти шиллингов, потому что жизнь в Лондоне дорогая.
– Спасибо, дядя Ник. Я тоже думаю, что дорогая, хотя совсем не знаю Лондона.
– Успеешь познакомиться с ним во время отпуска. Устроиться надо на все восемь недель. В Лондоне мы выступаем в разных варьете, но жить надо в одном месте. Сам я всегда останавливаюсь в одной и той же берлоге, в Фрикстоне, у старых друзей. Он бывший иллюзионист, голландец, по фамилии Ван Даман, женат на француженке, она – отменная повариха; для меня в Лондоне лучшего жилья не придумаешь. Сисси на неделю едет к своим, а потом будет жить там же, если захочет. Я на недельку думаю съездить в Париж. Хочу повидать по делу одного французского иллюзиониста. Что еще тебя интересует?
– Только одно: состав труппы тот же?
– Нет уж. Мы с Томми Бимишем не желаем стоять на одной афише. Я, как всегда, завершаю представление, а передо мной целый список звезд. Я предложил Джо включить Дженнингса и Джонсона. Рикарло месяца на два-три едет домой. Джо сказал, что с нами могут остаться Кольмары, я ответил, что мне все едино. Ты, кстати, не с крошкой ли Нони крутишь роман?
– Нет, и сомневаюсь, чтобы кто-нибудь с ней крутил. Она пустая вертихвостка, хотя мне-то это безразлично. Она не в моем вкусе.
– А кто же в твоем вкусе? – Вопрос был задан как бы невзначай, но сопровождался острым взглядом.
– Еще не знаю. – И чтобы перевести разговор на другую тему, я поспешил спросить: – А где в Лондоне все эти варьете? И хватит ли нам работы на восемь недель?
– С избытком. Холборн, Килберн, Стрэтфорд, Хэкни, Финсбери-парк, Вуд Грин, Чизик, Шепердс-Буш, – отбарабанил он. – Вот тебе восемь для начала, и все «Эмпайры». А есть еще и другие, не говоря уж об «Ипподромах», «Паласах» и прочих заведениях под Лондоном. Лондон – большой город, малыш, и нуждается в развлечениях. И зритель там хороший, особенно на северном берегу. Тебе понравится сезон в пригородах Лондона, Ричард. Я, во всяком случае, люблю там играть.
Я ответил, что мне, наверное, тоже понравится, и не солгал. А затем начал в тревоге раздумывать, как бы и где обсудить все эти новости с Джули во время второго представления. Нам приходилось вести себя осторожнее, потому что, по ее словам, Томми начал что-то подозревать и порой бросал на нее косые взгляды. И конечно, мы, как всегда, еще не знали, как нам удастся устроиться на следующей неделе, в Девенпорте или Плимуте. Одно я знал твердо: несмотря ни на какую Джули, я непременно должен увидеть мисс Нэнси Эллис, которая выступала в Плимутском Королевском театре.
7
Но все наши фантастические планы по поводу плимутской жизни рассеялись, как только мы прибыли туда в вихре больших мягких снежных хлопьев. Дело было в субботу. Хорошую берлогу найти оказалось трудно, и я смог отыскать лишь темную каморку в жалком домишке на мрачной боковой улочке Девенпорта, рядом с казармами. Домик принадлежал отставному флотскому старшине, и у жены его был такой вид, будто она тоже была старшиной: пять минут, проведенные за чашкой какао в обществе этой унылой четы, убедили меня, что прийти сюда с Джули все равно что привести с собой жирафу. Я, конечно, сказал об этом Джули. После трудной нервозной репетиции мы, как обычно, сидели в «Уютном уголке» соседнего кабачка – это был действительно уютный угловой зал: отблеск каминного огня играл на старой медной посуде, подчеркивая глубину темного полированного дерева, а огромные неправдоподобные сказочные снежинки за окном, казалось, падали где-то совсем в другом месте и в другом времени. Джули пила виски, я – горячий ромовый пунш. Поначалу мы были в зале одни.
– Ничего не поделаешь, милый, – говорила Джули. – Да и я в плохой форме. Мы остановились в Гранд-Отеле. Томми всегда очень горд и заносчив в тех городах, где не любит выступать. Севернее Бирмингема все идет иначе – там он чувствует себя как дома.
– А что же будет в Лондоне? Вы ведь выступаете во всех пригородных «Эмпайрах».
– Да, милый, хвала Господу! Хотя Лондон ему тоже не нравится. Правда, там у него есть любимая берлога и, – Дик, дорогой, об этом-то мне и не терпится рассказать, – он считает, что ему лучше пожить одному. Я всю неделю внушала ему эту мысль.
– Может быть, у него есть там женщина? – с надеждой сказал я.
– По мне – хоть десять. Лишь бы избавиться от оков. Я уже писала и спрашивала друзей, не сдаст ли кто уютную квартирку месяца на два. Поцелуй меня, милый, пока никого нет.
Я поцеловал ее, и это было лучше любого горячего пунша. А потом я добавил и пунша, а для Джули принес еще порцию виски.
– Спасибо, милый. Нам бы сюда медвежью шкуру да кучу подушек, и я готова остаться на весь день и почти на всю ночь. – На лице ее проглянула улыбка, и глаза засветились. Она казалась красавицей, и я сказал ей об этом.
– Кстати, ты, наверно, помнишь, что здесь, в театре «Ройял», выступает крошка Нэнси Эллис? – Она искоса взглянула на меня. – Повидать ее не собираешься?
– Собираюсь, – ответил я твердо. – И в театре, и, надеюсь, не только там.
– К чему такой вызывающий тон, милый? Если помнишь, я первая серьезно заговорила о ней, у нас с тобой тогда еще ничего не было. И я вовсе не хочу, чтобы ты или другие считали, что я отняла тебя у девушки вдвое моложе, с которой у вас начинался серьезный роман. А ты сказал, что между вами ничего нет, помнишь? Так стоит ли теперь стискивать зубы и с вызывающим видом заявлять, что ты намерен ее увидеть и в театре, и не только там? Почему бы и нет, милый, только скажи зачем тебе это?
– Честно говоря, я и сам не знаю. Вероятно, из любопытства. Для нас с тобой это не имеет значения. Я все равно не перестану думать о тебе.
– Это еще вопрос. – Она задумчиво посмотрела на меня. – А как ты ее увидишь?
– Оставлю в театре записку, а завтра приду на дневное представление. Сегодня они не играют.
– Томми хотел посмотреть их в среду. А я сыта по горло такими представлениями – скука смертная! Но Томми так и рвется в театр и меня с собой таскает, ему ведь надо кому-нибудь объяснять, почему комедийные актеры так плохо играют, а играют они и вправду отвратительно. Но если ты идешь завтра днем, а я – в среду, то что же будет с нами, даже если ты устоишь против ее хорошеньких ножек? Хотя мои тебе ведь тоже нравятся, верно?
Я ответил, что без ума от ее ног и от нее самой и что это ей отлично известно, однако пришлось признаться, что я сам не знаю, как нам быть на этой неделе.
– Обожаю тебя, милый. Давай подумаем. Фу-ты, черт! – Последнее восклицание относилось к тому, что мы уже не были одни в зале. – Допивай свой пунш, и пошли. Я все тебе скажу на улице.
Под хлопьями снега, разогретый желанием и горячим ромом, я согласился рискнуть и пойти в артистическую уборную. Мы решили только, что она пойдет вперед, а я выжду, пока в коридоре не будет ни души. Все удалось отлично, мы заперли дверь и уже через минуту предавались любви, торопливо, стараясь не шуметь, но с полным удовольствием. Конечно, куда лучше было бы иметь побольше времени да и места, чтобы была уютная постель и камин, но самая наша дерзость и бесстыдство придавали особую остроту чувствам.
Представление во вторник оказалось прескучным, если не считать тех минут, когда на сцену выходила Нэнси. В костюме пажа она была прелестна как никогда. И как никогда искрилась весельем – не то девушка, которую я так хорошо помнил, не то озорной мальчишка. Я сидел в первом ряду кресел, смотрел на нее, слушал, и чувства мои пришли в такое смятение, что я даже сейчас не берусь разобраться и описать их. Так было и потом, когда она вышла ко мне в гриме и в длинном плаще, накинутом поверх костюма. Мы стояли на маленькой площадке, у дверей кулис, кругом толпились люди.
– Дик, как я вам рада! – Она слегка запыхалась. – После этой глупой ссоры я все ждала письма или хотя бы поздравительной телеграммы к Рождеству и к Новому году. Я бы и сама вас поздравила, но по глупости не спросила, где вас искать. Вам понравилось представление?
– Не очень. Не считая вас, конечно. Вы одна стоите их всех, Нэнси.
Она сделала привычную гримаску.
– Я надеялась, что вы не станете так говорить, Дик. Вы же знаете, я этого не люблю. И потом – это неправда.
– Нет, правда. Но не будем снова ссориться, Нэнси. Может быть, вы переоденетесь, и мы пойдем посидим где-нибудь, где можно поговорить.
– Я бы с радостью, но сегодня не могу. Я приглашена к одной из наших девушек и обещала быть. По правде сказать, мне уже пора.
– Тогда завтра, Нэнси, Прошу вас.
– Хорошо. Только до двенадцати я занята, так что встретимся после дневного спектакля. Я постараюсь побыстрей переодеться, ведь времени будет совсем мало. Постойте-ка, давайте встретимся в Гранд-Отеле… Что с вами?
– Ничего, Нэнси. Я вас слушаю. Пусть Гранд-Отель. А там можно выпить чаю? Хорошо… В котором часу?
– Минут в двадцать пять шестого. А теперь мне и вправду надо бежать. Только, Дик… Ой, извините… – это относилось к рабочим сцены, которым мы загораживали дорогу.
– Не беспокойтесь, мисс Эллис, – сказал один из них с дружелюбной улыбкой. Она явно пользовалась симпатией персонала.
– Вы что-то хотели сказать, Нэнси?
– О, ничего особенного. Так, пустяки, а теперь я действительно должна бежать. Просто… вы в чем-то переменились. Ведь верно? Не надо, вы мне все расскажете завтра. – И она исчезла.
В среду после пяти я уже топтался в гостиной Гранд-Отеля. В половине шестого, когда мне показалось, что прошло уже несколько часов, я сел за столик и, чтобы убить медлительное время, попросил принести чай, булочки и пирожные на двоих. К шести я незаметно для себя выпил три чашки чая и сжевал большую часть булочек и пирожных. Конечно, я уже понимал, что она не придет. Затем, взглянув через зал на столик портье, я увидел Джули, которая спускалась по лестнице, чтобы сдать письма. Она огляделась вокруг и заметила меня.
– Дик, дорогой, неужели ты ешь все это один? И здесь, в самой гуще офицерских жен?
– Я ждал Нэнси Эллис. Но она не пришла.
– У-у, какой срам. – Джули не садилась, мысли ее где-то витали, и она словно тихонько посмеивалась. – По-моему, их представление ужасно, но сама Нэнси довольно мила. Так что же случилось? Вы опять поссорились?
– Я еще раз схожу в театр и вечером увижу ее. Если будет нужно, подожду у дверей.
– Дик, – начала она тихо и чуть наклонилась ко мне. И я почувствовал, что она снова здесь, рядом, и больше не разыгрывает светскую даму, отгороженную от меня стеклянной стеной. – Дик, милый, на твоем месте я бы не делала этого.
– Почему?
– По многим причинам. Если она просто не смогла прийти, а ты встретишь ее такой миной, вы снова поссоритесь. Если же она не пришла, потому что не любит тебя, то ходить под ее дверьми – это уж последнее дело. Нет, милый, послушай-ка лучше, что я скажу – это куда важнее. Если ты утром захочешь подать мне знак, оставь записку у служебного входа. Я забегу туда перед обедом за письмами для себя и для Томми. Оставь коротенькую, невинную записку.
После второго представления я быстро переоделся и пришел слишком рано; по словам швейцара театра «Ройял» ждать предстояло не менее получаса. Поэтому я зашел в соседний кабачок и заказал пиво, по оно не лезло мне в глотку. Я то и дело поглядывал на свои новенькие часы и всячески тянул время, но все-таки был на месте минут за десять до выхода первых актеров. Однако мимо прошла уже почти вся труппа, прежде чем я увидел Сьюзи Хадсон и Боба, а затем и Нэнси, которая шла позади. Так как я вовсе не жаждал встретиться с Сьюзи и Бобом, то старательно глядел в другую сторону, а потом прямо перед Нэнси круто повернулся и нетерпеливо окликнул ее. И снова, как бывало уже не раз, – точно один и тот же страшный сон, – она с каменным лицом прошла мимо, прибавив шаг, чтобы догнать Сьюзи и Боба и избежать моих попыток заговорить. Я сначала разозлился, а позже, за ужином, делая вид, что слушаю россказни отставного старшины о северном Китае, тыкал вилкой в кусочки вареной трески и чувствовал себя очень несчастным. Я вдруг понял, что чего-то ждал от встречи с Нэнси, – не секса, нет, тут безраздельно царствовала Джули. Я и сам не знал, на что надеялся, но, обманувшись в своих ожиданиях, словно окаменел от горя.
А утром я месил слякоть прокопченного и задымленного Девенпорта, чтобы оставить у служебного входа записку и уведомить мисс Блейн, что в три часа пополудни я буду проверять за сценой какую-то аппаратуру. Так оно и было. Джули бросила на ходу: «Здравствуй, Дик!» – и скрылась. А через десять минут я уже запирал за собой дверь ее уборной, где она ждала меня полураздетой. Мы не разговаривали и едва глядели друг на друга, мы были точно изголодавшиеся солдаты, которым вдруг подали жаркое и пудинг; но позже, когда мы оба почувствовали, что мерзнем, и принялись за виски, она вдруг обхватила ладонями мое лицо, нежно поцеловала меня и прошептала:
– Чудесный, милый мой мальчик! Мне очень жаль. Прости меня.
– За что, Джули?
Но она только закрыла глаза, покачала головой и сказала, что мне пора уходить и чтобы я был осторожен. Но в это время в театре уже не осталось ни души, не то что вечером во время представления: вокруг было холодно, тоскливо и пусто.
Последний вечер в Девенпорте я делал то же, что и все другие, и позволил себе только одно отступление от правил: между представлениями написал Нэнси письмо. Два первых длинных торжественных послания я разорвал, а когда времени уже не оставалось, сумел наконец выжать из себя несколько строк:
«Дорогая Нэнси, было время, когда я верил и надеялся, что мы будем друзьями, особенно после того замечательного дня среди лугов. Но Вы не сдержали обещания и не пришли в Гранд-Отель. А потом и вовсе прошли мимо, не сказав ни единого слова. Почему? Напишите мне, пожалуйста. Следующую неделю мы будем в Портсмуте, а затем девять недель – в Лондоне, и хотя в Лондоне у меня еще нет адреса, но Вы можете написать на имя нашего общего агента, Джо Бознби».
Закончил я искренним «Ваш». Я чувствовал, что непременно должен отослать это письмо; мне не с кем было поделиться, да и самому себе не мог толком ничего объяснить, но это желание мучило меня до тех пор, пока поздно вечером в субботу я не опустил письмо в ящик.
Неделя в Портсмуте была всего лишь долгим ожиданием последнего субботнего вечера. Мы с Джули несколько раз виделись и говорили о том, как все будет в Лондоне; мы ничуть не пресытились и не устали друг от друга, но любовных свиданий больше не было, хотя бы потому, что в начале недели я простудился, а в конце у Джули были свои заботы. Рикарло рвался домой и в субботу пригласил человек десять на прощальный обед. Томми Бимиш отсутствовал – к великому удовольствию Рикарло и моему, ему пришлось срочно уехать в Лондон, так что я сидел рядом с Джули. С берлогой в Лондоне мне помог Рикарло. Один из его друзей снимал квартиру в квартале доходных домов; здесь жили актеры, которые часто ездили на гастроли и потому подбирали жилье подешевле. (Уолхем Грин никак нельзя было назвать фешенебельным районом.) Приятель Рикарло устроил мне меблированную квартиру на четвертом этаже – две комнаты, с кухней и ванной – за тридцать пять шиллингов в неделю. Она принадлежала актерской чете Симпсонов, и хозяева как раз уехали на гастроли с пьесой «Молли Рафферта и Майк». Джули, у которой в лондонском театральном мире было полно друзей, тоже удалось снять очаровательную квартирку в Шеперд Маркете, в Мейфэре. Она не знала, как часто там пожелает бывать Томми, но очень надеялась выжить его из своей спальни, сохранив при этом роль и деньги, которые в Лондоне нужны как нигде. У нее там было столько друзей, что, как мне казалось, она скоро потеряет интерес к такому зеленому юнцу, хоть она и уверяла, что любовник я отличный; впрочем, должен признаться, что не заметил никаких признаков охлаждения или усталости: скорее наоборот, она с большим жаром строила планы нашей жизни в Лондоне.








