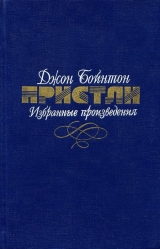
Текст книги "Дядя Ник и варьете"
Автор книги: Джон Бойнтон Пристли
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
3
Дом, в котором мы остановились в Шеффилде, был безусловно необычный. Владелец его, Джордж Уолл, был хорошим литейщиком и проработал несколько лет в Санкт-Петербурге, где обзавелся русской женой. Вернувшись в Шеффилд, он получил – не по своей вине – тяжелую травму ноги и на деньги, уплаченные в виде компенсации за увечье, купил этот дом. Его сестра-актриса посоветовала превратить дом в театральную берлогу. Он сильно хромал, постоянно ходил в рубашке с закатанными рукавами, открывавшими его толстые мускулистые руки, курил дешевый черный табак в маленькой и тоже черной трубке и выглядел очень свирепо, хотя в действительности был человеком добродушным и любезным. Его жена Варвара была смуглая невысокая, сухопарая женщина с пронзительным голосом, энергией и неутомимостью напоминавшая какое-то суетливое насекомое вроде муравьиной королевы. Она вносила в атмосферу дома что-то неповторимо-своеобразное, не определимое словами, и несомненно русское. И пахло в этом доме так, как ни в одном доме Шеффилда. Едва перешагнув порог, вы оказывались где-то за тридевять земель – может быть, в Санкт-Петербурге. Варвара была хорошая кухарка и потчевала нас русскими яствами – щами, борщом, крошечными пирожками с мясом и рыбой, цыплятами по-киевски, которые нравились только нам с Джули. Помогала ей прислуга – молодая толстуха по имени Анни, родом из маленького шахтерского городка (наши комнаты находились рядом, и храп ее отчетливо доносился сквозь стену), и таинственная старая русская женщина в черном платке, которая всегда молчала, но поглядывала на нас так, словно все мы были круглыми дураками.
Здесь не было принято кормить каждого постояльца отдельно, даже когда мы возвращались после представления. Все ели за одним большим столом в столовой. Кроме нас пятерых было еще двое постоянных жильцов на пансионе: тихая пожилая вдова, которая давала уроки игры на фортепиано, и тоже пожилой, но совсем не тихий профессор Ланселот Байерс – он преподавал где-то риторику и выступал с публичным чтением Диккенса. Этот человек высказывал одни ходячие мнения и банальности, причем изрекал их с невероятным апломбом и выговаривал каждую гласную и согласную так отчетливо, точно зачитывал государственный документ. Джули, дядю Ника и меня он раздражал или усыплял, но Сисси слушала его с открытым ртом, а Томми Бимиш, озорно сверкая глазами, старался его раззадорить. Потом, когда мы уехали из Шеффилда, он изумительно спародировал профессора Байерса в своем скетче, сочинив длинный нелепейший монолог.
Вынужденные проводить часть времени вместе, мы все сильно этим тяготились. Дядя Ник и Томми Бимиш уважали друг друга как артисты, совместно участвовали в спасении миссис Фостер-Джонс от тюрьмы, но настоящего расположения между ними не было. Джули не любила дядю Ника, презирала Сисси и должна была проявлять осторожность в отношении меня. Бедняжка Сисси совсем растерялась, но время от времени огрызалась на Джули. Томми я не нравился не только из-за того, что ко мне благоволила Джули, а он это знал. Я думаю, он не выносил меня отчасти потому, что я был молод и полон сил, вел иной образ жизни, и еще потому, что Джули наверняка рассказала ему о моей мечте стать художником, так что для него я не был настоящим артистом. Я не отвечал ему неприязнью, хотя под маской профессиональной веселости он разок-другой давал мне крепкого пинка, и пока еще не ревновал к нему Джули, это пришло чуть позже. Я пользовался впервые представившейся мне возможностью наблюдать его вблизи и пытался понять, что он за человек.
Я уже писал, что Томми, несомненно, был комик поразительный, почти великий. Когда он находился на сцене, вы чувствовали, что это прирожденный юморист, который не нуждается ни в трюках, придуманных другими, ни в каком-то специальном материале: он просто творил смешную до колик комедию из чего угодно и из ничего, заставляя вас хохотать просто потому, что он Томми Бимиш. На первый взгляд он оставался таким и вне сцены – человеком, для которого безудержная клоунада была чем-то естественным и необходимым, даже когда он второпях забегал промочить горло или занимал свое место за обеденным столом. (Впрочем, как почти всякий горький пьяница, ел он очень мало.) Пухлым круглым лицом, на котором пережитое не оставило никакого отпечатка, он часто напоминал веселого озорного мальчишку. Но его поблескивавшие любопытством глаза не были мальчишескими. Мне казалось порой, что они смотрят из-под маски на мир, который никогда не будет его миром. Правда, некоторые изумительные клоуны – Грок, например, – всегда представлялись нам наивными и полными радужных надежд пришельцами с другой планеты, серьезными существами, которые попали в незнакомые, трудные условия и совершенно подавлены тем, что дважды два равно четырем. Но к Томми это не относилось. Тут не было никакой наивности, никаких радужных надежд. В его клоунаде было что-то отчаянное и даже зловещее. Иногда я понимал, что за шутовской маской, сквозь которую глаза его смотрели так пристально и тревожно, таилась страшная бескрайняя пустыня, где он влачил свои дни среди побелевших костей, в жестокой опустошенности, растеряв и наивность, и всякую надежду. И в такие минуты я чувствовал, что он ненавидит всех нас, даже Джули.
Какая это была адская мука – жить с нею под одной крышей, постоянно чувствовать на себе любопытные взгляды и не иметь возможности ни минуты побыть вдвоем. Зачарованный ее мрачной, чуть поблекшей красотой, которую, кажется, один только я оценивал по достоинству, я тем не менее не был по-настоящему влюблен. Будь это Нэнси, я был бы счастлив просто одной ее близостью. Но Джули вызывала во мне чисто сексуальное возбуждение, которое она постоянно подогревала, доводя меня почти до кипения – отчасти из женского озорства, чтобы развлечься и рассеять скуку, но также и потому, – об этом я узнал позже, – что скоро сама начала закипать. Если мы случайно встречались на лестнице или на минуту оказывались наедине в гостиной или столовой, мы торопливо обнимались и целовались; и даже в присутствии остальных Джули умудрялась то мимоходом коснуться меня, то быстро и незаметно сжать мою руку, отчего я весь вспыхивал. Это была опасная игра, доставлявшая ей большое удовольствие, – по крайней мере, до тех пор, пока она не обнаружила, что сама охвачена пламенем. Вдобавок всю ту неделю в Шеффилде стояла скверная декабрьская погода, и я томился от безделья, потому что не мог, как ожидал, бродить по окрестностям с этюдником. Я без особой охоты пытался рисовать у себя на чердаке, но там было слишком уныло, да и к тому же мечты о Джули заслонили от меня все остальное; будь я в здравом уме, это можно было бы предвидеть.
Мы с Джули провели вместе только один день. Томми позавтракал с каким-то своим поклонником в клубе и вернулся домой, чтобы отоспаться. Джули сказала, что ей надо пройтись по магазинам. Мы вышли из дома по отдельности, но встретились в конце улицы. День был сырой и сумрачный, и мы первым делом зашли в маленький кинотеатр, где долго обнимались, глядя на Бронко Билли Андерсона и кейстоунских полицейских, а потом пили чай в соседнем кафе. Джули вначале была очень тихой и какой-то подавленной, но наконец заговорила.
– Что ты обо мне знаешь, Дик?
Я коротко пересказал ей то, что слышал от дяди Ника.
– Это правда, – сказала она. – Я жила с одним человеком, и вдруг все кончилось. Он исчез, а потом женился. Он любил выпить, вот и я пила с ним. А когда я осталась одна, начала пить за двоих. И тут я совершила роковую ошибку. Вместо того чтобы пить после работы, я пила до и во время спектакля. Однажды из-за меня пришлось опустить занавес, и тогда все всё узнали и меня выгнали. Тут уж не только с Вест-Эндом было покончено: меня даже в приличную гастрольную труппу не взяли бы. Мой единственный шанс, – а я хорошая актриса, милый, правда, хорошая, – состоял в том, чтобы получать сносное жалованье, скопить немного денег, бросить пить и уговорить кого-нибудь, чтобы меня взяли в Австралию или Южную Африку. После этого, если я буду в порядке, вест-эндские антрепренеры могут снова мною заинтересоваться. А такое жалованье, из которого можно что-то откладывать, мне предложил один Томми Бимиш. Он хотел мне помочь, потому что сам когда-то тоже оступился. Так нас стало двое. И я каждую неделю откладываю пятнадцать фунтов.
– Наверно, еще и потому, – сказал я язвительно, хотя, надеюсь, не злобно, – что у вас общая спальня.
Ее темные глаза сверкнули молнией, но голос звучал спокойно:
– Это, конечно, помогает. Но шлюхой я не стала, Дик, милый. Томми пришел мне на помощь. Я ему очень благодарна. Но не забывай, что я в состоянии подыгрывать ему в минуты, когда у любой другой актрисы вся роль вылетела бы из головы и она бы заявила, что бросает эту ужасную работу и что с ним невозможно иметь дело. Я каждый вечер по два раза отрабатываю свое жалованье на сцене, далеко от спальни, которую ты приплел к разговору, глупый мальчик. Ты что, ревнуешь?
– Нет, но скоро, наверно, начну.
– Ах, вот как? Разве ты не принимаешь какие-то вещи как само собой разумеющиеся?
– Нет, я бы не сказал. А спальню я помянул потому, что всю эту неделю думал о Томми и надеялся, что ты расскажешь, каков он на самом деле. – Я подождал немного, но она молчала, и я продолжал: – На сцене он удивительный, но в жизни я, пожалуй, его не люблю – как, впрочем, и он – меня.
– Это от зависти, – сказала Джули. – Просто потому, что ты молодой, сильный, красивый. Не думай об этом, милый.
– Рикарло говорит, он не в своем уме, – выпалил я.
Джули и бровью не повела.
– Чаще всего это очень умный и капризный ребенок, который может быть и очень добрым и благородным. Четыре дня из пяти, пожалуй.
– А что бывает на пятый день?
– Сплошной ужас. Но теперь ты понимаешь, почему я не могу бросить его. Это мой единственный шанс вернуться когда-нибудь в свой мир. Но все было бы иначе… Куда легче… если бы… – Она замолчала.
– Если бы что?
– Если бы кто-нибудь полюбил меня по-настоящему, – сказала она очень тихо, не глядя на меня. Потом взглянула и продолжала: – Знаешь, Дик, было бы лучше, если бы тебе не приходилось все время жить в одной берлоге со своим дядюшкой и его идиоткой. Почему ты не отстаиваешь свою независимость?
– Потому что они знают, где найти берлогу, а я нет. Все очень просто. На следующей неделе мы в Берманли. Я там никогда не был и ничего не знаю. А у них есть список адресов.
– У Томми тоже есть. И я тоже не знаю Берманли. Но после Берманли мы будем неделю в Ноттингеме – как раз на Рождество. Прекрасно. В Ноттингеме у меня есть знакомые, и ты сможешь у них остановиться. Ты пойдешь туда, если я договорюсь?
– Конечно. Только предупреди меня заранее и расскажи об этих людях, чтобы я мог притвориться перед дядей Ником и Сисси, что я их знаю. А как насчет Берманли?
Она засмеялась.
– Боюсь, что в Берманли снова придется видеться мельком, дорогой. Так же, как и теперь. Нам пора. Дик.
В субботу после ленча я понял, что под крышей Джорджа Уолла мы вели себя совсем не так умно, как нам казалось. Ленч был весьма плотный, за столом сидело в общей сложности десять человек: нас пятеро из «Эмпайра», двое постоянных жильцов, Уоллы и таинственная русская старуха, присоединившаяся к нам ради этого случая. Служанка Анни была простужена и ее уложили в постель, а я вызвался таскать из кухни тяжелые подносы. Миссис Уолл, невысокая и сухопарая Варвара Уолл, приготовившая почти всю еду своими руками, велела старухе и своему мужу Джорджу заняться мытьем посуды и увела меня в маленькую заднюю гостиную, о существовании которой я даже не подозревал. Там она налила бренди себе и мне, закурила русскую сигарету с длинным бумажным мундштуком, а после того как мы чокнулись и выпили, серьезно посмотрела на меня своими огромными черными глазами и заговорила. У нее все еще был сильный русский акцент, и я не всегда понимал, что она хочет сказать, поэтому я воспроизвожу ее речь довольно приблизительно.
– Дик, – начала она. – Я зову тебя Дик, потому что ты мне в сыновья годишься. Ты молоденький. И хорош собою, и сам, сдается мне, славный мальчик. Поэтому я говорю с тобой как мать. Я кой-чего заметила. И бабушка тоже заметила. И даже мой муженек Джордж говорит. Мы все это видим. – Она замолчала, выпустила клуб дыма и искоса посмотрела на меня.
– Не понимаю, миссис Уолл. – В тот момент я действительно не понимал, о чем идет речь.
– Дик, я говорю с тобой, как мать… о любви…
– О любви?
– Когда мужчина и женщина любят друг друга – это хорошо. Когда любят девочка и мальчик вроде тебя – это тоже хорошо. А между мальчиком и женщиной не бывает настоящей любви. Это не любовь, а просто переспать охота. И между тобой, Дик, и мисс Блейн ничего кроме этого нет, одно животное чувство. Нет, ты не вздумай отрицать, глупо. Мы же видим. Мы уже тут про вас говорили. Мы знаем. Ты, Дик, молодой, сильный. Тебе нужна девушка. А девушки у тебя нет. Мисс Блейн – другое дело. Она взрослая женщина, очень чувственная и изголодавшаяся, это всякому видно.
– У нее есть Томми Бимиш, – пробормотал я.
– Он ей не подходит. Ни ей, да и вообще, я б сказала, никакой женщине не подходит. Я была в понедельник на первом представлении и смеялась до упаду, а Джорджа, так того и унять было нельзя. Бимиш очень смешной комик. Мисс Блейн способная актриса – не комическая, но хороша для Бимиша. На сцене хороша. А после сцены, мне думается, ничего хорошего у них быть не может. Это все… – Тут она почти выплюнула какое-то русское слово, которого я, конечно, не понял; впрочем, она, по-моему, и не хотела, чтобы я его понял, а сказала просто, чтобы отвести душу. – Дик, повторяю, я говорю с тобой как мать. Ты спал с этой женщиной?
– Нет, миссис Уолл, – ответил я довольно резко.
– То есть «занимайся своим делом», верно? А я только им и занимаюсь. С театральным людом по-другому разве можно? Но ты молодой. Красивый мальчик. Славный. Носишь подносы. Кто еще носит подносы? Никто. Потому я и говорю с тобой как мать. Ты не спал с нею. Но она с тобой уже спала. Мысленно. Я вижу по ее глазам. Ома хочет тебя, Дик. Не ради любви – между вами это невозможно, – а потому что она адски изголодалась. И если ты будешь сидеть сложа руки, тебе этого не миновать. Она ведь не девочка – милая, мечтательная… как Татьяна в письме к Онегину… Хотя ты ведь не знаешь Пушкина. Она – женщина в угаре страсти. Тебе такие впервой. Это не то, что с девушками. Тебе такой женщины больше не встретить. Это наваждение. У моего кузена было такое с женщиной старше его и тоже изголодавшейся. Это как ужасная болезнь. Ничего похожего на настоящую любовь. Ни души, ни сердца. Нет ни гармонии, ни взаимопонимания. Дик, я тебе как мать говорю. – Она перегнулась через стол и постучала указательным пальцем по моей руке. – Предупреждаю. Найди себе хорошую молоденькую девочку. Только не мисс Блейн, слышишь. Кончай с этим. Если сейчас не покончишь, после пожалеешь. Предупреждаю тебя.
– Верно, – сказал Джордж Уолл, который в этот момент вошел, прихрамывая, в комнату с полотенцем через руку. – Ты, брат, слушай, что она говорит. И знаешь, почему? Варвара у нас вроде бы немного… Как это… провидица, и всегда такой была. Но она бы ничего не сказала, если бы ты ей не полюбился. Так что можешь быть уверен, она тебе добра желает. Хотя если ты такой же, как я был в твоем возрасте, то десять против одного, что все пропустил мимо ушей.
– Дурак ты, Джордж! – хрипло выкрикнула она. – Это очень серьезно. Я его предостерегла. Иди, мой посуду.
– Уже вымыли. – Он положил мне на плечо тяжелую руку. – Варвара знает, что говорит, а у нее дома, когда говорят о любви, все называют своими именами, не то что здесь, у нас. Так что слушай и наматывай на ус. – Он сжал мое плечо. – И не вздумай обижаться. Никто бы тебе ничего не сказал, если б ты нам не понравился. Но по-нашему, ты в этой компании лучше всех. А вовремя сказанное слово…
– Успокойся. Разговор окончен. Дик хороший мальчик… и теперь он предупрежден.
Очень скоро – правда, в другом месте и совсем при иных обстоятельствах – я внезапно, сам того не желая, вспомнил, как сидел в этой маленькой и душной гостиной, вдыхая ее странные русские запахи, а за окном густели субботние шеффилдские сумерки, и Варвара Уолл с огромными, во все лицо черными глазами предостерегающе похлопывала меня по руке. Это осталось самым отчетливым моим воспоминанием о той неделе. Но хотя она не сказала ничего нового, – где-то в темной и безмолвной глубине подсознания я сам все это чувствовал, – я быстро забыл ее предостережение, а потом было слишком поздно. А когда мне снова почудилось, что она похлопывает меня по руке, я был уже другим Диком Хернкаслом и самозабвенно предавался безумной радости, ошеломленный и терзаемый страстью.
4
В Берманли я снова жил в одной берлоге с дядей Ником и Сисси и, как обычно, в понедельник утром, уходя в «Эмпайр», их не видел. Берманли – город, в который я попал впервые, – состоял в основном из мрака, слякоти, трамваев и магазинных витрин, украшенных – если тут уместно это слово – хлопьями ваты, ибо было пятнадцатое декабря и до Рождества оставалось всего десять дней. Багаж наш доставили благополучно, но в то утро за сценой было холодно и грустно, и Сэм с Беном, кажется, простыли. Когда мы управились с делами, я увел их из театра и угостил кофе с ромом, а вернувшись, обнаружил, что репетиция с оркестром уже началась и я стою почти в самом хвосте. Я надеялся увидеть Джули, но на этот раз от них был только старый Кортней. Дженнингс был тоже один, без Джонсона; спустившись со сцены и увидев меня, он ухмыльнулся и ткнул меня кулаком.
– Стой тут, сынок, никуда не уходи, – сказал он. – Получишь колоссальное удовольствие. Сейчас очередь «Музыкальных Типлоу», вся троица в сборе. Я бы сам посмотрел, для науки, да меня Хэнк ждет в салуне за углом. Пока, сынок!
Трое Типлоу были на этот раз еще капризнее, чем обычно, и я освободился почти в половине первого. Тут я с удивлением обнаружил, что Билл Дженнингс вернулся и явно меня дожидается.
– Да, сэр, у нас там небольшое сборище в задней комнате бара, – сказал он. – Твой дядюшка пожелал, чтобы ты тоже был там, и я вызвался тебя доставить, сынок. Там директор театра… его зовут Карбетт – этакий герцог перед выездом на охоту. А также газетчик – мистер Пафф из «Берманли ивнинг мейл». И еще Томми и мисс Блейн. Словом, нечто вроде актерской конференции с выпивкой, сынок, – продолжал он, выходя со мной на улицу.
Никогда нельзя было понять, серьезно говорит Билл Дженнингс или шутит, но по дороге к бару мне удалось выяснить, что директор театра Карбетт обеспокоен: предрождественская неделя не обещала хороших сборов, и он жаждал, чтобы дядя Ник и Томми предложили какой-нибудь рекламный трюк для привлечения публики Мистер Пафф, ведавший в вечерней газете театральным отделом и светской хроникой, был приглашен на случай, если потребуется его помощь.
– Но при мне, сынок, – закончил Билл Дженнингс, – родилась только одна идея, хоть и вполне дельная, а именно: «Выпьем еще по одной».
Когда мы вошли в маленькую заднюю комнату бара, отданную в полное распоряжение компании, речь держал дядя Ник.
– Ну что же, тогда пусть это будет «Индийский ящик». Больше ничего у нас и нет. Я когда-то использовал его в номере, но потом бросил – он недостаточно эффектен. A-а, Ричард! У нас сохранился «Индийский ящик»?
– В глаза его не видел…
– Только, пожалуйста, не говори, что его нет. – Дядя сверкнул глазами. – Он должен быть. Это такой разукрашенный восточный сундук около двух футов в длину и по футу в ширину и высоту с большим красивым ключом.
– Не видел. – И прежде чем он снова прервал меня, я добавил: – Но у нас есть одна небольшая упаковка как раз таких размеров, только я ни разу ее не открывал, потому что Сэм сказал, что мы этим не пользуемся.
– Тогда порядок, малыш. Это он. – Дядя Ник оглядел собравшихся. – Вот как мы это устроим. Но должен предупредить, что мне понадобится помощь. Ваша, мистер Пафф, вашей газеты и, если возможно, одного из больших магазинов.
– Сделаю все, что смогу, мистер Оллантон, – сказал журналист, маленький толстячок в потертом и узковатом для него синем костюме. – Но это, конечно, зависит от того, что вы задумали.
– У меня было много случаев убедиться в дружественности вашей «Ивнинг мейл», – напыщенно сказал директор театра Карбетт, который и в самом деле изображал из себя помещика, – позже я узнал, что, надев фрак, он совсем уж терял чувство меры и вставлял в глаз монокль. – И я не сомневаюсь, что, если наш друг мистер Пафф одобрит эту затею, он сумеет убедить владельцев какого-нибудь из больших магазинов оказать нам содействие. Может быть, Смедли и Джонса, как вы полагаете? Хотя все, конечно, зависит от того, что вы задумали, мистер Оллантон.
– Спасибо, что предупредили, – сухо сказал дядя Ник. – Итак, вот вам фокус. – Он выдержал паузу, а я перевел взгляд на Джули, которая подняла бокал, как бы спрашивая, не хочу ли я выпить. – Вы объявляете сегодня вечером, что по особой просьбе друзей и почитателей из Берманли Ганга Дан будет предсказывать будущее. Сегодня вечером или завтра утром он положит в свой «Индийский ящик» кусочки бумаги с заголовками из «Ивнинг мейл», которая выйдет в четверг. Ящик будет заперт на замок, перевязан и опечатан завтра в магазине. Он останется в витрине магазина или в любом другом заметном месте до вечера четверга. Затем кто-нибудь из служащих магазина доставит его в «Эмпайр» на вечернее представление, вскроет на сцене и прочитает заголовки публике.
– Слушайте, вот это да! – воскликнул Хэнк Джонсон.
– Но вы действительно можете это сделать, мистер Оллантон? – спросил Карбетт.
– Если б не мог, какого ж черта я б завел этот разговор? – сказал дядя Ник раздраженно. – Я это уже делал. Не забывайте, что я волшебник.
– Там зеркала или электричество, маэстро? – спросил Томми. – Или там два ящика?
– Там нет никаких двух ящиков, – холодно ответил дядя Ник. – И с той минуты, как ящик завтра унесут, он уже перестанет быть моим. Он будет заперт, перевязан и опечатан в магазине на глазах у всех, а затем выставлен для всеобщего обозрения. Только вот что: меня там не будет, потому что я Гэнга Дан и не собираюсь средь бела дня шляться в костюме и гриме. За этим придется присмотреть Ричарду и кому-нибудь из вас. Ну как, – он взглянул на журналиста, – это вам подходит?
– Нет слов! – воскликнул мистер Пафф, вскакивая. – Я позвоню в редакцию.
– Один момент, – сказал Томми. – А как насчет олдермена Фишфейса?
– Вы имеете в виду олдермена Фишблика?
– Один черт. А, вы же его не знаете, – вспомнил Томми, поглядев на тех из нас, кто явно не имел представления об олдермене Фишблике. – Расскажите о нем, мистер Карбетт, представьте его во всей красе.
Карбетт важно откашлялся.
– Олдермен Фишблик – местный агент по продаже недвижимости и большая шишка в муниципалитете. Не пьет, не курит и до смерти не любит театры и мюзик-холлы. Особенно мюзик-холлы. Он их называет притонами разврата. На той неделе он опять поносил нас…
Постойте, – вмешался журналист. – Я должен идти в редакцию. Ну-ка объясните мне поскорее, какое отношение олдермен Фишблик имеет к «Индийскому ящику».
Если имя олдермена Фишблика будет в четверг стоять в одном из заголовков, – сказал дядя Ник, – я гарантирую, что тот, кто будет читать эти заголовки со сцены в четверг, непременно упомянет олдермена Фишблика.
– Со своей стороны ничего гарантировать не могу, – ответил журналист, – но я поговорю с нашими ребятами. Я знаю, что в четверг утром состоится заседание муниципалитета, а Фишблик почти всегда из-за чего-нибудь поднимает шум. Ну, мне пора. Я не буду звонить, а пойду прямо в редакцию. Итак, мистер Оллантон, могу я заявить, что вы приняли вызов и покажете свой волшебный «Индийский ящик» в Берманли? Превосходно. И вы завтра же готовы послать этот ящик к Смедли и Джонсу, чтобы они держали его до четверга? Превосходно. Я успею дать это в сегодняшний номер. Честь имею кланяться! – И мистер Пафф удалился.
– Я кое-что придумал для олдермена Фишблика, – сказал Томми. – Это касается его агентства по продаже недвижимости. И мне нужна помощь, Ник. Как вам в этом суфражистском балагане в Лидсе. Мне нужны вы, Сисси, молодой Хернкасл. Вы тоже, Билл, и вы, Хэнк.
– Мы не подкачаем, будьте уверены, приятель, – воскликнул Билл.
– Раз это сулит напасти олдермену Фишблику, – торжественно произнес Хэнк Джонсон, – можете на меня рассчитывать, шеф. И выпивку теперь ставлю я.
Дядя Ник велел мне идти распаковать ящик, проверить, на месте ли ключ, и отнести все наверх к нему в уборную.
– Мы перекусим в «Короне», – добавил он. – И прежде чем что-нибудь появится в газете, я проверю, в порядке ли ящик. Ну, беги, малыш.
Во вторник в три часа дня я нес этот ящик, на вид очень старинный и восточный, в мебельный отдел магазина Смедли и Джонса (3-й этаж). Там уже собралось человек сто, по меньшей мере – столько, сколько поместилось. Для нас освободили место в середине. В качестве эскорта – и это слово здесь вполне уместно, ибо все делалось с невероятной торжественностью, – меня сопровождали Томми и Джули, Дженнингс и Джонсон, на этот раз серьезные и важные, и директор театра Карбетт, отказавшийся от своего спортивного костюма и походивший на владельца похоронного бюро. Смедли и Джонс были представлены помощником управляющего, неким Р. Дж. Перксом, который накануне заходил к дяде Нику в «Эмпайр» между представлениями и уже тогда очень нервничал; сейчас он нервничал еще больше, словно боялся, что ящик вдруг взорвется. Прессу представлял мистер Пафф и несколько его более молодых и щеголеватых коллег, которые скептически поглядывали по сторонам, словно им все это было не в диковинку, хотя, конечно, знать они ничего не могли. (Я сам немало поломал голову над этим фокусом.) Только один человек нервничал еще больше, чем Р. Дж. Перкс, – это молодой Ричард Хернкасл, ибо я впервые появился на публике вне сцены и без индийского костюма и грима.
Когда мы все были готовы, Р. Дж. Перкс произнес, несколько заикаясь:
– Э-э… леди и… э-э… джентльмены… э-э… От имени… э-э… Смедли и Джонса… э-э… рад приветствовать вас… э-э… интересный эксперимент… слово имеет… э-э… мистер Карбетт… э-э… из театра «Эмпайр».
Карбетт сказал, что Берманли хорошо известен своим спортивным духом, что Гэнга Дан, сейчас выступающий в «Эмпайре» с одним из величайших иллюзионных номеров мирового варьете, любезно согласился продемонстрировать здесь, в Берманли, самое поразительное доказательство своей магической силы и что сейчас перед собравшимися выступят два популярных комика Дженнингс и Джонсон, также участвующие в грандиозной программе этой недели в «Эмпайре».
– Ребята, – начал Билл Дженнингс, – я немало времени провел на эстраде – не здесь, а по ту сторону океана. И я видел великих волшебников и угадывателей мыслей. Но то, что обещает сделать Гэнга Дан, превосходит все. Конечно, он этого еще не сделал, и не исключено, что это ему не под силу, – как по-твоему, Хэнк?
– Я думаю, Билл, и вы, друзья, – я думаю, что Гэнга Дан уже выполнил то, что обещал. В этом ящике – подними его повыше, сынок, чтобы людям было видно, – я говорю, в этом ящике уже находятся один или два листка бумаги, на которых Гэнга Дан написал – хотите верьте, хотите нет – заголовки послезавтрашнего номера «Ивнинг мейл». Верно, Томми? Слово имеет мистер Томми Бимиш, ребята.
Дядя Ник не хотел, чтобы Томми вылезал с речью: он понимал, что, если Томми начнет шутить, он рассмешит всех собравшихся, и никто по-настоящему не обратит внимания на меня и на ящик. Но Томми настаивал, и вот он уже говорил, взобравшись на стул:
– Ну-с, девочки, мальчики и налогоплательщики, я думаю, что мы уже в выигрыше. В четверг на втором представлении в «Эмпайре» кто-нибудь откроет ящик и прочтет заголовки, и если окажется, что они в точности совпадают с действительностью – значит, этот номер – номер века. А если все будет неправильно, тогда мы здорово посмеемся над бедным старым Гэнгой Даном – хотя, должен вам сказать, он не бедный и не старый, и я его боюсь до полусмерти. Он такой зло-ве-щий – честное слово, – зло-ве-щий и все-ля-ю-щий страх. Вчера он мне сказал, – по понедельникам он говорит по-английски, – что дело тут не в зеркалах и не в электричестве; тогда как же, черт побери, он это делает? Ведь вспомните, он не увидит этого ящика, пока его не вскроют в четверг на сцене «Эмпайра». А теперь моя блистательная коллега леди Макбет – ах, прошу прощения, мисс Джули Блейн – расскажет вам об этом ящике.
Надо сказать, что Джули, темноволосая, бледная, в черных мехах, и в самом деле выглядела так, словно она только что сыграла или собиралась сыграть леди Макбет. Она предупредила, что произнести речь экспромтом не сумеет, и мы с дядей Ником кое-что сочинили для нее, и она заучила текст наизусть. И теперь своим звучным голосом с красивыми модуляциями она произнесла самую эффектную речь дня. Но должен добавить, что утром дядя Ник с обычной своей дотошностью заставил нас долго репетировать, добиваясь совпадения ее слов и моих действий: пока она говорила, я запирал, завязывал и запечатывал ящик.
– Леди и джентльмены, я надеюсь, вам всем хорошо виден мистер Хернкасл, правая рука Гэнги Дана. Сейчас он запрет ящик. Готово! Теперь с помощью мистера Перкса, представителя господ Смедли и Джонса, он надежно перевяжет его. После этого узлы зальют сургучом и оттиснут на нем печатку с перстня мистера Перкса. Пока они будут это делать – я надеюсь, всем хорошо видно, – я объясню вам, что произойдет с ящиком. С этой минуты и до того момента, когда в четверг вечером его вскроют на сцене «Эмпайра», ящик останется в магазине, где будет выставлен для всеобщего обозрения в витрине, справа от главного входа, как сказал мне мистер Перкс. Не сомневаюсь, что вы полностью доверяете мистеру Перксу и господам Смедли и Джонсу – я, со своей стороны, им доверяю, – и поэтому, если в четверг вечером они скажут, что ящик не покидал магазина и никто не пытался вскрыть его, мы им поверим. А на мистера Перкса будет возложена доставка ящика отсюда прямо на сцену «Эмпайра». Гэнга Дан поклялся, что не взглянет на него даже через окно. Итак, леди и джентльмены, вот этот ящик, крепко перевязанный и опечатанный. – Раздались аплодисменты. – Теперь мистер Перкс отнесет его вниз и поместит в витрине. Это все, леди и джентльмены. Разумеется, до послезавтрашнего вечера. Благодарю вас!
Все снова зааплодировали, и когда Перкс, держа ящик высоко над головой, торопливо вышел, публика начала расходиться.







