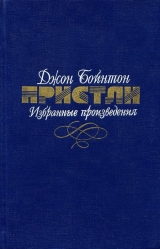
Текст книги "Дядя Ник и варьете"
Автор книги: Джон Бойнтон Пристли
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
– Ты была очень хороша, Джули, – сказал я.
– Спасибо, Дик. – Она понизила голос. – Но ты скажи мне, как же он собирается это сделать.
– Я бы сказал, если б знал. Но я не знаю. Знаю только, что он раньше этот фокус уже делал и не слишком высокого о нем мнения. Может быть, потому, что не сам его изобрел. Дядя Ник предпочитает фокусы собственного изобретения.
– Зная твоего славного, доброго дядюшку Ника, держу пари, что это именно так. О, Томми зовет нас. Да, Томми, дорогой?
– Я не тебя зову, дорогая. Это для гэнгадановцев. – Он повернулся ко мне. – Касательно олдермена Фишфейса. План завтрашней операции давно готов. Вечером приходи в мою уборную, я объясню, кто что должен делать. Скажешь Нику и этой дурочке Сис. Ладно? Только не в перерыве, чтоб не было спешки, а после конца представления.
Я понимаю, что ныне, в мире, столь неузнаваемо деловом и переменившемся, тщательно продуманный розыгрыш, который мы устроили олдермену Фишблику утром в среду в Берманли, может показаться ребячеством, недостойным шестерых или семерых взрослых актеров. Но в защиту этого можно привести три аргумента. Во-первых, в те дни еще жива была традиция театральных розыгрышей, восходящая ко временам Тула и Генри Ирвинга, когда он еще не стал великим и важным. Во-вторых, олдермен Фишблик, представления не имевший о мюзик-холлах, постоянно выступал с публичными нападками на них. В-третьих, такие актеры варьете, как Томми Бимиш и дядя Ник, радовались всему, что нарушало монотонность и скуку этих зимних дней, когда погода уже не позволяла им играть в гольф или совершать экскурсии на новой игрушке – автомобиле. Дядя Ник не раз говорил мне, особенно в счастливые часы, когда он бывал увлечен новой работой, что главная причина, почему многие звезды беспробудно пьют или очертя голову бегают за женщинами и наживают себе неприятности, состоит в том, что после вечернего оживления и подъема их невыносимо гнетут эти пустые дни в городах, от которых с души воротит. Берманли был одним из таких городов; погода в ту неделю стояла прескверная. Рождество то ли уже наступило, то ли еще нет, но повсюду торчали хлопья снега из ваты и потрепанные Санта-Клаусы; вот мы и устроили специальное представление для олдермена Фишблика, агента по продаже недвижимости. Штаб-квартиру по проведению операции – теперь, кажется, это называется так – мы разместили в баре неподалеку от контор Филипса и Фишблика, агентов по продаже недвижимости и аукционистов, поэтому мы знали все, что там происходит; и я теперь попробую увидеть это странное утро глазами бедного Фишблика.
Было пасмурно, дождь со снегом шлепал по стеклам, и Фишблик, накричав на свою секретаршу мисс Клит и выбранив мальчишку-конторщика, которому он предложил шевелить мозгами или убираться вон, принялся от нечего делать изучать список недвижимости, которую Филипс и Фишблик продавали или сдавали в аренду. Первым в списке стоял Хикерстон-Холл – имение огромное, дорогое и обременительное, как белый слон, потерявший свою белизну; оно пустовало уже более двух лет, и Фишблик, очевидно, снова ломал себе голову над тем, как же с ним быть, когда ему доложили о приходе мистера и миссис Примп, желающих видеть его по весьма срочному делу.
– Олдермен Фишблик, – сказал мистер Примп, крепко пожимая ему руку, – вы, наверное, слышали обо мне – Примп, чайная торговля, Минсинг-лейн. Да, Примп с Минсинг-лейн – это я. – У него была клочковатая борода, пенсне и высокий, срывающийся голос. (Когда Томми Бимиш старался, он бывал великолепен.) Миссис Примп, в мехах и под вуалью, была холодна и элегантна, и при взгляде на нее вы сразу понимали, что это очень богатая женщина, – Джули не раз приходилось играть такие роли.
– Ну-с, поговорим о Хикерстон-Холле, – сказал мистер Примп. – Я подумываю удалиться от дел, и вчера мы с миссис Примп осмотрели Хикерстон-Холл – снаружи, разумеется, – и миссис Примп он сразу поправился, не правда ли, дорогая?
Мне кажется, из него можно что-то сделать, – сказала миссис Примп глубоким контральто, богатым, как и ее наряд. – Но, конечно, мы должны осмотреть его как следует…
– Естественно, естественно, миссис Примп, – ответил Фишблик, стараясь не выдать своего волнения. – Превосходное имение… и не исключено, что я смогу сделать вам некоторую скидку с продажной цены…
Мистер Примп отмахнулся:
– Примп с Минсинг-лейн не торгуется, – заявил он. – Главное, когда вы можете показать нам дом? Предупреждаю вас, Фишблик, что к вечеру мы должны вернуться в Лондон.
– Мы можем поехать немедленно…
– Невозможно. Но если вы зайдете за нами в половине третьего в гостиницу «Мидлэнд»…
– Конечно, мистер Примп, я договорюсь, чтоб была машина…
– А до тех пор, – произнесла миссис Примп еще более низким голосом, – вы должны ознакомить нас со всеми подробностями…
– Я как раз собирался это сделать, миссис Примп. – Фишблик был до того взволнован, что никак не мог отыскать бумаги. – A-а, вот они. Отличное приобретение для человека со средствами…
– Мистер Примп – человек с большими средствами, олдермен Фишблик, – холодно сказала миссис Примп.
– Люблю вести дела вот так, – и мистер Примп ударил ладонью по столу, сквозь очки сверля глазами перепуганного Фишблика. – Значит, в половине третьего в гостинице «Мидлэнд». И не заставляйте меня ждать. Спросите у кого-нибудь с Минсинг-лейн, кто такой Примп. Я не люблю толочь воду в ступе. Сказано – сделано!
– Да, мистер Примп. Я уверен, что вам…
– Всего доброго, – сказал мистер Примп резко. – Пойдем, дорогая. Не провожайте нас, Фишблик. Вам надо подготовиться.
Спустя пятнадцать минут, когда Фишблик все еще пытался выяснить финансовое положение Примпа с Минсинг-лейн, доложили о приходе полковника Слоумена. Это был высокий, темноволосый, внушительного вида мужчина, чем-то напоминавший лорда Китченера, только помоложе. Он явился в сопровождении дочери (Сисси на этот раз была одета скромно и не накрашена) и сына – это был я с большими светлыми усами, которые дядя Ник сделал из крапе; себе он тоже наклеил усы, длинные и черные. Во время этого спектакля в честь Фишблика я случайно узнал, каким хорошим актером мог бы стать дядя Ник.
– Я полковник Слоумен, бывший шеф полиции в Пенанге. А вы тут, как я понимаю, агенты по продаже Хикерстон-Холла? Ну-ну, дорогой сэр, или да, или нет. Если нет, так прямо и скажите, у меня мало времени.
– Да, полковник Слоумен, да. Вы хотите осмотреть дом?
– Разумеется, хочу. И мои дети тоже хотят. Мы не собираемся покупать дом, не осмотрев его. Вы что, меня за идиота принимаете?
Ошеломленный Фишблик встал и вышел из-за стола. Он был рыжеватый, длинноносый и тонкогубый человек с глазами, несколько напоминавшими распространенные тогда стеклянные затычки для пивных бутылок. – Я могу немедля доставить вас туда, полковник Слоумен…
– Нет, не можете. У меня свидание с лордом-лейтенантом. Старый друг. Единственное время – сегодня днем. Зайдите за нами в половине третьего. Гостиница «Каунти».
– Боже мой! – Фишблик был в отчаянии. – Боюсь, что я… к сожалению…
– Это еще что такое? – загремел полковник Слоумен. – Если вы не желаете продавать имение, то так и скажите. «Боюсь, что я…» Великий Боже, неужели в этой стране не осталось ни одного делового человека!
– Просто я хотел бы перенести на другое время, кое-какие дела, – начал растерянный Фишблик.
– Перенести на другое время! Что за вздор! Я серьезно интересуюсь этим имением, и не мне вам говорить, что оно уже давным-давно объявлено к продаже, и если вы вообще заинтересованы в том, чтобы его продать, то покажите нам дом сегодня же, для чего зайдите за нами в гостиницу «Каунти» ровно в два тридцать. Ваши дела меня не касаются, у меня свои планы. Ровно в два тридцать в «Каунти». Дети, за мной!
Фишблика бросило в дрожь: он пошел за нами, пытаясь объяснить, что и почему он должен перенести на другое время, но дядя Ник не стал слушать и отмахнулся.
В гостинице «Мидлэнд», безуспешно пытаясь оставить записку для мистера Примпа, о котором там никто и понятия не имел, несчастный Фишблик наткнулся на двух экстравагантных американцев в огромных круглых очках и с бородками, как у дяди Сэма. Они тоже выразили желание взглянуть на Хикерстон-Холл – не как на возможное место жительства (они жили в Ошкоше, рядом со своей главной фабрикой), но как на здание, которое можно было бы приспособить для фабрики по производству игрушек.
– Да, сэр, – сказал один из них с ударением, – всемирно известных кукол и медвежат Саймона и Саймона.
– Кукол и медвежат? – запинаясь, пробормотал Фишблик, вообразивший, вероятно, что он сходит с ума.
– Радость малышей в семнадцати странах, сэр, – сказал другой американец, сурово глядя на Фишблика через огромные очки. – Мы хотим сделать Хикерстон-Холл центром нового процветающего объединения.
– А Саймон и Саймон не скряги, сэр, – сказал его партнер с таким же суровым взглядом. – Если место подходящее, цена тоже будет подходящей, да, сэр.
– Мы осмотрим его сегодня. Будем ждать вас в «Красном льве»… скажем, в половине третьего…
– Другого времени у нас нет, олдермен. Вы согласны или нет? Если хотите делать дело с Саймоном и Саймоном, то будьте там с машиной ровно в половине третьего.
Они не дали бедному Фишблику вставить ни слова.
– Саймон и Саймон. Оборотный капитал пять с половиной миллионов долларов. Куклы и медвежата, известные во всем мире. Увидимся в половине третьего.
– Слушайте, – закричал Дженнингс, появляясь вместе с Джонсоном в баре (это они изображали деловых американцев), – бедняга совсем спятил. Когда мы уходили, он слова вымолвить не мог.
– Ну, что-то будет на заседании муниципалитета! – сказал Джонсон. – Можете плюнуть мне в глаза, если имя Фишблика не попадет в четверг в газету. Мне виски, Томми.
Было решено, что «Индийский ящик» вскроют на втором представлении в четверг, не во время нашего номера, а после скетча Томми, когда он уже откланяется. И вот мы все выходим: дядя Ник в костюме и гриме Гэнги Дана, Томми и Джули, Перкс из магазина Смедли и Джонса с «Индийским ящиком» и я в своем лучшем костюме. Театр набит битком: после того как мы объявили о предстоящем угадывании заголовков, мистер Пафф каждый вечер устраивал нам в газете какую-нибудь рекламу, и дела наши пошли на лад. Под руководством дяди Ника мы заранее отработали все, что предстояло сделать на сцене.
Начал Томми. Он сказал:
– Леди и джентльмены! Друзья! Перед вами мистер Перкс от Смедли и Джонса. Он пришел сюда затем, чтобы засвидетельствовать, что волшебный ящик – вот он – находился в его, – Смедли и Джонса, – владении с тех пор, как во вторник днем он был публично заперт, перевязан и опечатан, и что Гэнга Дан ни разу не появлялся поблизости. Не так ли, мистер Перкс?
Отчаянно прокашлявшись, Перкс ответил, что это так.
Джули рассказала, как Гэнга Дан пообещал положить во вторник утром в ящик листки бумаги с заголовками сегодняшнего последнего выпуска «Ивнинг мейл».
– Если он это сделал, то как – одному Богу известно, – заключила она. – Но мы знаем, что последний раз он приблизился к ящику во вторник утром. А сейчас я прошу мистера Перкса и мистера Хернкасла, главного ассистента Гэнги Дана, сломать печати и развязать шнуры.
Перкс и я проделали это медленно и торжественно. Перкс весь обливался потом, и мне тоже было не по себе при всей моей вере в дядю Ника. Если фокус не удался, – а для меня все еще оставалось тайной, как он может удасться, – нас закидают гнилыми яблоками.
Настала моя очередь. Я уже полчаса бормотал про себя то, что мне предстояло сказать:
– Леди и джентльмены, сейчас я попрошу Гэнгу Дана вручить мне ключ и, во избежание всяких подозрений, передам его мистеру Перксу, чтобы он отпер ящик. – Я пересек сцену и почтительно поклонился дяде Нику, который церемонно достал большой красивый ключ. Держа его высоко над головой, я подошел к Перксу. Он отпер ящик, достал три листка тонкой бумаги и разгладил их, чтобы прочесть, что на них написано. Но Томми, которому наскучило стоять без дела, схватил их и прочел вслух три заголовка. В первом было что-то про Ллойд Джорджа, во втором – про цены на индюшек, а третий, вызвавший невообразимый смех в зале, был такой: «Скандал в муниципалитете: снова олдермен Фишблик». Под смех и аплодисменты публики Томми протянул листочки Перксу, чтобы тот подтвердил, что он правильно прочитал написанное. Перкс энергично закивал, но его не было слышно. Дядя Ник шагнул вперед, поклонился, был встречен аплодисментами, но тут же дал знак опустить занавес. Я видел, что он в ярости.
– Какого черта вам понадобилось встревать? – сердито спросил он у Томми. – Я договорился, что их прочтет этот Перкс.
– Так ведь куда лучше, что это прочел я, старина. У него бы они не стали так смеяться над Фишфейсом.
– Для вас главное смех, а для меня – мои фокусы. Теперь они все думают, что на этих бумажках ничего не было, что вы просто вспомнили сегодняшние заголовки.
– Не думаю, старина, – беззаботно возразил Томми.
– А вы вообще не думаете, вот в чем ваша беда, – проворчал дядя Ник и зашагал прочь. Томми с криком «ну-ну, постойте!» устремился за ним.
Мы с Джули вместе пошли наверх к нашим уборным, не спеша и держась как можно ближе друг к другу.
– Дик, милый, но как же все-таки он это сделал? Это ведь на самом деле были сегодняшние заголовки! И они были в ящике, я уверена, что маленький мистер Перкс не смошенничал. Но как Ник мог знать их во вторник утром? Неужто он и вправду может заглядывать в будущее!
И думаю, что, если бы я серьезно ответил ей «может», она бы не стала со мной спорить. Джули была далеко не дура, но в ней как во всякой женщине жило стремление презреть рациональность, логику, очевидность и приветствовать любое проявление необъяснимого, чудесного, сверхъестественного. Я пришел к убеждению, что эта женская черта скорее хороша, чем плоха, ибо предохраняет нас от сетей нашего рационализма и всяких теорий причины и следствия. Но я не мог признать дядю Ника провидцем и сказал ей об этом.
– Это фокус, сам дядя Ник его терпеть не может, но как он делается, я до сих пор не знаю.
– Мне это безумно любопытно, милый. – Она остановилась и подошла еще ближе. – А ты скажешь мне, когда узнаешь?
– Нет, Джули.
– Ах, скверный мальчишка! Впервые я тебя о чем-то попросила – и что ты мне отвечаешь! Ну ладно, тогда я не скажу тебе о тех людях в Ноттингеме… на следующую неделю. Ты помнишь, о чем речь?
– Конечно. Это те, у кого я должен остановиться. Но понимаешь, Джули, я поклялся дяде Нику никогда никому не объяснять его фокусы и иллюзии. Это ведь его хлеб, Джули, да пока и мой тоже. Не хочешь же ты, чтобы я нарушал свои клятвы.
Она рассмеялась.
– Конечно, хочу, пока ты не даешь их мне. Ладно, милый, я тебя прощаю. Вот фамилия и адрес этих людей. – Она достала из-за пояса сложенную бумажку. – Писать им не надо, разве только ты передумаешь.
– Да что ты, конечно, я остановлюсь у них.
– Тогда не трудись писать. Они тебя ждут. А ты, если нам повезет, надеюсь, будешь ждать меня в один прекрасный рождественский день. Нет, милый, пойдем. Томми может хватиться.
Когда я добрался до уборной дяди Ника, он выпроваживал оттуда двух молодых репортеров. Когда они ушли, он начал переодеваться и сказал:
– Они хотели, чтобы я объяснил им, как это делается. Прощелыги! Я не изобретал этого фокуса и невысокого о нем мнения, но уж дарить его газетам вовсе не собираюсь. Пускай сами разгадывают. Мне тоже пришлось поломать голову, когда я его впервые увидел.
– Джули Блейн просила, чтобы я ей объяснил, – сказал я как можно небрежнее.
– Это, наверно, Томми ее подучил. А что ты ответил, малыш?
– Что я не знаю, как вы это делаете, и даже если б знал, то не сказал бы. Я сказал, что дал клятву.
– Молодец. Хотя если б вы оба были в чем мать родила, она бы из тебя вытянула все что угодно. Держи с нею ухо востро, малыш. Кстати, эту бутылку прислала дирекция. – Он налил шампанского себе и мне. – Это самое меньшее, что они могли сделать за мою сверхурочную работу. Терпеть не могу фокус с ящиком. Одна сплошная наглость и никакого искусства. Совсем не в моем стиле. – Он выпил полстакана, потом взглянул на меня. – Ну-ка, подумай хорошенько, малыш, все взвесь, и если ты не сможешь мне сказать, как это делается, тебе не стоит работать в моем номере. Не торопись.
Я не торопился. Дядя Ник кончил переодеваться, привел себя в порядок, – он был человеком очень опрятным и не желал нанимать «костюмера», хотя вполне мог себе это позволить, – и только тогда снова обратился ко мне:
– Ну что, малыш, каков ответ?
– Наверняка дело в ключе, дядя Ник. Других объяснений я не вижу.
– Совершенно верно. Я просматриваю газетные заголовки, выбираю три из них и пишу на специальной тонкой бумаге. Затем эти три листочка сворачиваются в трубочку и засовываются в ключ. Ключ вставляют в замок, и он выбрасывает их, и, когда крышка поднимается, заголовки уже в ящике. В ключе есть маленькая пружинка – это тонкая работа, а все остальное – детские игрушки. – Он налил себе еще шампанского. – Держи язык за зубами, малыш: мне недавно пришла в голову одна идея – я еще ею вплотную не занимался, но сдается мне, из нее такое может выйти, что у всех мурашки забегают. Только мне понадобится второй карлик. Однако тут работы на несколько месяцев, – закончил он с довольным видом.
Помню, я подумал – мысль у меня тогда работала только в одном направлении, – что чем больше он будет занят этими двумя карликами, тем лучше будет для нас с Джули. Может быть, удача нам улыбнется.
В субботу я сказал ему и Сисси, что в Ноттингеме буду жить отдельно, потому что уже договорился и остановлюсь у знакомых. Он выслушал это спокойно, но Сисси огорчилась.
– Ну, Дик, а я так надеялась, что мы будем все вместе праздновать Рождество.
– Перестань, девочка, – сказал дядя Ник. – Терпеть не могу Рождество.
– Неправда, Ник.
– Правда. Все это глупости.
– А как же ребятишки?
– «А как же ребятишки?» – грубо передразнил он. – Как же, говоришь, ребятишки? Очень просто: они любят Рождество, потому что получают подарки. Они полюбят любой день, когда им станут дарить подарки. Середину апреля, конец октября – любое время. А взрослых водят за нос торговцы – взвинчивают цены, именно потому, что их переполняет рождественский дух доброй воли и благорасположения ко всем людям. Сегодня я получил рождественскую открытку – все про старую дружбу и добрые чувства и размышления у камина, – а прислал мне ее агент, и большего негодяя я в жизни не видел. Так что не говори мне о Рождестве, девочка. Я его вытерплю, но провалиться мне, если я стану ему радоваться. Я живу тем, что обманываю других, но самого себя мне обманывать ни к чему.
5
Ноттингем, в котором я оказался впервые, мне понравился; да и погода там была лучше, чем в Шеффилде и Берманли. Друзья Джули, Альфред и Роз Бентвуд, поселили меня в лучшей комнате из всех, где мне приходилось жить, – она была просторная, устланная коврами, с двуспальной кроватью и красивым новым газовым камином. Это, конечно, была комната для гостей, и они просто сделали мне любезность по просьбе Джули, хотя я и настоял на том, что буду платить им за жилье. До замужества Роз Бентвуд была актрисой на маленькие роли. Альфред Бентвуд служил у какого-то табачного торговца-оптовика и был вполне доволен своей работой. Это были жизнерадостные толстяки лет сорока, великие любители театра и вечеринок, на которых они, по-видимому, всегда были желанными гостями, потому что смеялись по всякому поводу и почти без повода. Когда я пришел, – дело было в воскресенье вечером, довольно поздно, – они так хохотали, что я даже забеспокоился, в порядке ли мой костюм, не забыл ли я застегнуть брюки; но скоро я обнаружил, что они смеются не переставая. Эти были добрые, гостеприимные и хлебосольные хозяева, и при желании в их доме можно было целый день есть и пить; первые полчаса с ними было занятно, но потом вам приходило в голову, что слишком уж много они смеются. В понедельник Джули пришла к чаю – они с Томми остановились в «Летающей лошади» где-то в Поултри, – но не успели мы наскоро обняться и обменяться поцелуями, как уже пора было идти на первое представление.
Будь это обычная педеля, мне, наверно, понравился бы Ноттингем и жизнь у Бентвудов. Но неделя была рождественская, и само Рождество приходилось на четверг (я прошу прощения, что в моих воспоминаниях все всегда случается в четверг, но так оно и было, и тут уж я ничего не могу поделать), и именно из-за Рождества все шло иначе и хуже, чем обычно. Мне приходило в голову, что нам вообще не следовало там появляться до Рождества. Зрителей было мало, и мысли их были заняты другим – подарками и вечеринками. Дяде Нику все это было отвратительно, хотя вообще Ноттингем ему нравился, и он выбросил из номера «Исчезающего велосипедиста», сказав, что публика его не заслужила. В среду, в сочельник, Томми так напился, что ко второму представлению еле держался на ногах, но должен признаться, – я пошел в зал и смотрел его номер, – играл он все равно замечательно. Что касается Дженнингса и Джонсона, то они всю неделю были слегка «под мухой».
Бездомные и сознающие свою бездомность, мы тем не менее как угорелые носились по переполненным магазинам, покупая подарки. Я купил коробку сигар для дяди Ника, шарфик – для Сисси, старого солодового виски для Дженнингса и Джонсона и брошь, которая мне, конечно, была не по карману, – для Джули. Я все думал, не послать ли телеграмму Нэнси в плимутский театр «Ройял», потому что несмотря на Джули я не мог выбросить ее из головы, особенно в сочельник, но в конце концов не послал. Я еще гадал, что же произойдет на Рождество, когда играть мы, конечно, не будем, и весь город закроется ставнями и отвернется от нас. Я знал, что Бентвуды уйдут на целый день к родственникам и будут там смеяться до упаду; до самого сочельника Джули не говорила мне, что она собирается делать, а только улыбалась и с таинственным видом шептала: «Потерпи, узнаешь!» После первого представления в среду я уже начал приходить в отчаяние.
Но в перерыве Джули прошла по уборным и пригласила нас от имени Томми на рождественский обед в «Летающую лошадь» (думаю, что это была ее работа). Были приглашены дядя Ник, Сисси и я, Дженнингс, Джонсон, Рикарло и еще какие-то знакомые Томми, игравшие в рождественской феерии.
– Как я рад, Джули, – прошептал я возле двери своей уборной (в ту неделю у меня была своя маленькая уборная). – Но какая нам с тобой от этого польза?
– Может, польза и будет. Когда я подам тебе знак, уходи. И за столом не увлекайся. – Она убежала, но я еще долго слышал ее смех.
В тот же вечер маленький эпизод в уборной дяди Ника еще раз показал мне, какой это удивительный человек. Мы говорили о том, что после Рождества надо снова включить в номер «Исчезающего велосипедиста». Вдруг я замолчал и потом воскликнул:
– Ах, я дурак… и свинья к тому же!
– Что случилось, малыш?
– Сэм, Бен и Барни! Понимаете, дядя, пока все в порядке, я о них и не вспоминаю. А на этой неделе мы одеваемся в разных уборных, так я и вовсе про них забыл. Не спросил, что они будут делать на Рождество. Не купил им подарков. А теперь уже поздно.
– Было бы поздно, если бы не я, – сухо ответил дядя Ник. – Они прекрасно проведут время в своих берлогах. Я спрашивал. Я послал им большую корзину, а в ней все, что их душе угодно. Корзина от меня и от тебя. И от Сисси, конечно, тоже.
– Ну, слава Богу! От сердца отлегло!
– Могу себе представить. Только надо все-таки думать, малыш. Завязывай узелки на память, вот как я. А теперь пожалуйте полсоверена, мистер Хернкасл, – это ваша доля.
– Конечно, дядя Ник. Вот десять шиллингов. А вы бы спросили их с меня, если бы я промолчал?
– И не подумал бы.
Я засмеялся.
– Значит, не заговори я о Сэме, Бене и Барни, я бы сэкономил десять шиллингов?
– Верно, малыш.
– И вы бы заплатили мою долю из собственного кармана…
– Да. Но ты бы упал в моих глазах, вот в чем штука, Ричард. А мое уважение, наверно, стоит десяти монет…
– Еще бы. Но признаюсь, дядя Ник, вас понять не так-то легко…
– Это потому, что я до мозга костей здравомыслящий человек. А вполне здравомыслящие люди – большая редкость. – Он сказал это без улыбки, он не шутил. – Вы теперь почти все с приветом – кто больше, кто меньше. А я – нет. Кстати, завтра на обеде у Томми следи за собой.
– А почему? Что вы имеете в виду?
– Не прикидывайся, малыш. Я имею в виду мисс Джули Блейн. Ты думаешь, никто ничего не заметил на позапрошлой неделе в Шеффилде? Сисси не больно-то умна, по и она все видит и слышит. Да и я тоже. Так что смотри, малыш, чтобы завтра ничего такого. Нам нужно веселое Рождество, а не неприятности.
– Я думал, вы не верите в веселое Рождество.
– И не верю. Мы ведь большей частью просто дурачим сами себя. Но что такое неприятности, я знаю и не хочу их. Так что завтра не распускай руки, малыш.
Рождественским утром я встал поздно, выпил чаю с ломтиком тоста, полюбовался подарками, которые Бентвуды сделали друг другу, поглядел, как они, нагруженные разноцветными свертками, уходили на весь день в гости к его брату, заливаясь по обыкновению радостным смехом. Это было примерно в полдень. В «Летающей лошади» нас ждали к часу, поэтому я с полчаса собирал свои подарки и снимал со стен веточки остролиста и розовые бумажные цепи, которые миссис Бентвуд развесила в моей комнате, – они тут были как-то не на месте. День был холодный, могло похолодать еще больше, и я оставил газовый камин включенным, только убавил пламя и поставил перед ним блюдце с водой, чтобы в комнате было чем дышать, когда я вернусь. Я не мог отделаться от ощущения, что еще до конца дня в этой комнате произойдет что-то очень важное.
Взяв подарки, я вышел из дома и не спеша – времени оставалось еще вполне достаточно – пошел по Северной, потом по Южной Шервуд-стрит в сторону Поултри. Во мне боролись два чувства – они должны были бы нейтрализовать одно другое, но этого не происходило. То ли эти чувства располагались на разных душевных уровнях, то ли я колебался между ними. С одной стороны, я был возбужден и полон страстного ожидания. Ведь как-никак я направлялся не куда-нибудь, а на веселый и обильный рождественский обед в знаменитой старой гостинице, к тому же там будет Джули, и кто знает, что может случиться – во время обеда или после него. Среди этих мыслей и радужных надежд Джули сверкала, как фея с рождественской елки. А с другой стороны, я чувствовал какую-то опустошенность и печаль. Может быть, меня подавлял вид Ноттингема в рождественское утро, с его пустынными и притихшими улицами, – словно город отворачивался от меня, показывая, что вот он дома, а я – бездомный. Может быть, отсюда и шло мое чувство печали и опустошенности. Но теперь мне кажется, было еще что-то, не связанное со временем и местом, а имевшее отношение только к роману с Джули. Я думаю, что еще до того, как этот роман по-настоящему начался, я уже представлял себе, чем он кончится.
На обед было приглашено четырнадцать человек. Кроме нас восьмерых были участники феерии: Первый Мальчик (пышная сорокалетняя женщина), Первая Девочка (вся в локонах и ямочках), Королева фей (крупная блондинка, радость Рикарло), Король демонов (пожилой баритон с густыми бровями и сизым подбородком), комики братья Бегби (оба маленькие, без возраста, с помятыми лицами). Я оказался между Сисси и Королевой фей из феерии напротив Томми и Джули. Я спросил Джули, где старик Кортней, но она покачала головой и нахмурилась, и я понял, что он у Томми в немилости. (Это относилось и ко мне, но потом я узнал, что Джули добилась для меня приглашения, сказав Томми, что я как-никак племянник Ника, и Ник без меня не пойдет.) Пока пили розовый джин и херес с горьким пивом, все обменялись подарками. Дядя Ник преподнес мне потрясающий набор акварельных красок и кисти, Сисси – два галстука, а Дженнингс и Джонсон, которым я подарил старое солодовое виски, вручили мне футляр с тремя прекрасными трубками. С Джули мы шепотом условились обменяться подарками позже. После этого уселись за стол, ломившийся от яств и вин. Женщины, за исключением Джули, которая на людях всегда была холодноватой и отчужденной, вначале держались чрезвычайно церемонно, хотя и очень мило, и трепетали ресницами, но затем, после первых бокалов вина и рюмок виски, когда хлопушки были разорваны и бумажные шляпы надеты набекрень, они почувствовали себя свободнее, читали вслух предсказания и загадки, найденные в хлопушках, и хохотали до упаду, слушая соленые актерские шутки. Дядя Ник, дымя сигарой и приступив уже ко второй бутылке шампанского, завернул три игрушки в цветную бумагу, повертел пакетик между ладоней, потом развернул его и показал нам, что игрушки превратились в пачку сигарет. Рикарло развлекал Королеву фей, он жонглировал вилкой, ложкой и четырьмя хлопушками. Томми надевал разные бумажные шляпы и произносил соответствующие каждой монологи; это было очень забавно, но под конец он расшумелся, и речь его стала бессвязной. Дженнингс и Джонсон, найдя более или менее подходящие шляпы, изобразили невадского шерифа и краснокожего индейца. Мы с Джули смеялись и аплодировали вместе со всеми, но всякий раз, когда наши взгляды встречались, я понимал, что на самом деле она не здесь, не среди них. Потом Томми, сильно взмахнув руками, качнулся назад и упал вместе со стулом; дядя Ник и Билл Дженнингс подхватили его и поставили на ноги, но он, ничего не видя и с трудом ворочая языком, требовал новой выпивки. К этому времени все уже вышли из-за стола. Джули посмотрела на меня, и я, пользуясь суматохой, незаметно выскользнул на улицу.
Помня, что говорила Джули, я ел немного, но выпил свою долю бургундского и, идя быстрым шагом к дому Бентвудов с подарками под мышкой, уже не чувствовал ни печали, не опустошенности. Я прошел прямо в свою комнату, прибавил огня в газовом камине, задернул занавески и начал устраивать разные световые эффекты. У Бентвудов было электричество – довольно большая редкость в 1913 году – и великое множество светильников; в моей комнате на потолке висела целая гроздь ламп, затянутых желтым шелком, а по стенам еще шесть ламп в розовых абажурах, поэтому можно было зажигать их в различных сочетаниях. Я распаковал подаренные дядей Ником акварельные краски, но был слишком неспокоен, чтобы рассматривать их и радоваться, – тот, кто желает усмотреть здесь нечто символическое, волен это сделать. Я надел шлепанцы, умылся, примерил один из галстуков – подарок Сисси – и остался им недоволен. Разумеется, я не переставал гадать, придет ли Джули, и если придет, то когда. Мысль, что я могу напрасно прождать много часов, была невыносимой. И все же если бы мне сообщили, что она не может прийти, я бы пережил это и даже почувствовал облегчение. Несообразность – верно? Но тут я ничего не могу поделать, ибо все было именно так. Я слонялся по дому, брал в руки какие-то вещи и, не взглянув, клал на место, несколько раз поднимался по лестнице и нарочно спускался вниз не обычным способом, а как-нибудь по-чудному, чтобы прошло больше времени. Конечно, я поминутно взглядывал на часы, хотя что толку было знать, двадцать ли минут пятого или уже половина; я все равно твердил себе, что мои часы спешат, чего в действительности не было. И вот, когда я уже почти решил, что она не придет, я услышал, как открывается входная дверь, и пулей помчался вниз.







