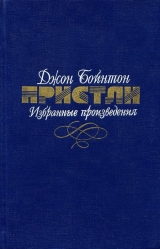
Текст книги "Дядя Ник и варьете"
Автор книги: Джон Бойнтон Пристли
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
10
Джо Бознби любил меня не больше, чем я его, но дядя Ник был одним из самых популярных артистов, поэтому можно было из-за меня чуть-чуть побеспокоиться, хотя, наверно, адрес Нэнси в Хемстеде нашел Питтер. Я получил его уже в Кеттлуэлле и спустя некоторое время написал ей еще раз. Это опять было длинное письмо, где я прежде всего упомянул о ее странном поведении в Плимуте, а потом подробно описал свое времяпрепровождение: длинные прогулки, этюды и нечто лучшее, чем этюды, – обильные ужины в кабачке, куда я возвращался, когда смеркалось, и где встречал занятных людей. А в конце добавил, что, по моему разумению, все это радовало бы и ее и что я всегда думаю о ней. Не берусь судить, хорошее ли получилось письмо; но мне хотелось, чтобы оно было хорошее.
Непосвященным, недостойным и неведающим должен сообщить, что Кеттлуэлл находится в Верхнем Уорфдейле и что окрестности его неслыханно красивы. В 1914 году, когда болотные тропинки еще не стали автомобильными дорогами, места эти казались глухими и нетронутыми. Я приехал, пожалуй, слишком рано, кроме того у меня сильно мерзли руки, и день-другой было темно и слякотно. Но мой приезд сюда на свободные две недели был самым разумным и бодрящим поступком за все время, что я работал с дядей Ником. Он окрылил меня и подбодрил. Острей, чем когда-либо, я почувствовал, что я – художник, пусть не талантливый, но способный; я ходил на этюды в любую погоду, кроме проливного дождя, и возвращался усталый, но счастливый, чтобы насладиться ароматом яичницы с салом и курить, подремывая, в мирном свете керосиновой лампы. Все варьете и «Эмпайры» казались далекими и почти неправдоподобными. Я словно жил в иной стране и дышал иным воздухом. И если я лишь мимоходом рассказываю об этой передышке, то не потому, что забыл о ней, ибо многое от нее вошло в самую плоть и кровь моего существования, но потому, что она не имела никакого отношения к жизни на сцене варьете, оттого и нет ей места в моем рассказе.
Но когда мне пришлось покинуть эти места, я знал, что здесь, среди высоких гор и болот, я обрел поддержку, очищение и душевную ясность. Только тогда я еще не подозревал, как скоро мне понадобятся накопленные там силы.
Книга третья
1
Наше турне начиналось в Ливерпуле, и в воскресенье вечером я присоединился там к дяде Нику и Сисси. Они были недовольны прежними ливерпульскими берлогами, поэтому мы все втроем остановились в маленькой старомодной гостинице («постель и завтрак – пять шиллингов») неподалеку от вокзала. Дядя Ник и Сисси только что провели неделю в Борнмуте, но там им не понравилось. И Ливерпуль дяде Нику был не по душе, о чем он мне заявил, как только я пришел к ним в гостиницу. И объяснил почему.
– Как видишь, малыш, тут есть несколько красивых зданий, – начал он. – И неплохая картинная галерея. Но когда повидаешь Роттердам и Амстердам, Гамбург и Бремен, Копенгаген и Стокгольм, то при виде этого города невольно задумываешься о том, что нас ждет в будущем. Те города чистые, этот грязный. Те цивилизованные, этот – нет, разве что местами. Здесь полно полицейских и уличных крыс. Там, где кончаются красивые здания, тянутся трущобы, целые мили трущоб. Я бы собаку в них не стал держать. Но выступать здесь хорошо.
– А с кем мы на этот раз, дядя?
– Могу выдать полный список, малыш, и даже по порядку – я сам приложил к нему руку. – Он вынул записную книжку. – Номер первый – «Собачки Даффилда»…
– Такие чудные собачки! – сказала Сисси.
– Вот и целуйся с ними, девочка, а меня уволь. Дальше – Кольмары…
– Нони опять будет на тебе виснуть, Дик.
– Не выйдет, – ответил я. – Но, надеюсь, на этот раз она и Барни оставит в покое.
– Следующий третий номер – братья Лаусон. Знаешь этот номер? Двое парней – амбиции много, а таланта маловато. Отплясывают, кстати, не так уж плохо, но грубияны страшные. Я поставил их перед нами, потому что они не настолько плохи, чтобы публика сбежала в буфет, и не настолько хороши, чтобы испортить нам прием. Так что мы на прежнем месте. Кстати, пока мы были в Лондоне, я отдал переписать оркестровые партии, а мой друг – немец Макс Форстер – просмотрел партитуру и кое-что исправил. Так что я, пожалуй, завтра схожу вместе с тобой на репетицию – только один раз, и все.
Я ответил, что буду ему благодарен.
– А что во втором отделении, дядя?
– Вначале эквилибрист Монтана, швейцарец. Он балансирует на шаре и при этом делает множество никому не нужных вещей. Скучнейший беспроигрышный номер. Дальше Лотти Дин – трико, бедра и идиотские песенки. За ней Лили Фэррис, которая не возражает против такого порядка, потому что контраст ей на руку. И последний номер – «Три-Рэгтайм-Три», они любят выступать в конце, потому что на втором представлении могут бисировать, если позволяет голос. Вот и все. Бывал я в лучших компаниях, но бывал и в худших. Пройдем, думаю, неплохо.
– А кто из них симпатичней? – с интересом спросила Сисси.
– Тебе придется дружить с твоими чудными даффилдовскими собачками, девочка. Все остальные или зануды, или дураки набитые.
– Жалко, что нет Билла Дженнингса и Хэнка Джонсона, – сказал я.
– Мне тоже жаль, малыш. Но Джо ангажировал их в Вест-Энд, и благодаря этому они в сентябре смогут возвратиться в Америку. За последние два-три года это единственные друзья, которых я завел среди коллег. Некоторые из вас… – тут он перевел взгляд с меня на Сисси, словно нас тут была целая толпа, – кажется, считают, что мне друзья не нужны. Конечно, мне не нужны добрые, старые приятели, которые вовсе не добрые, не старые и не приятели, но я люблю, когда рядом со мной есть человека два, с кем можно поговорить, в отличие от дураков и прихлебателей, вроде тех, что толкутся вокруг Томми Бимиша: слетаются к нему, словно мухи на мед.
– А что с Томми Бимишем? – спросил я.
– Он в полном расстройстве после тех неприятностей, – мрачно ответил дядя Ник. – Но Джо сказал мне, что он готовит новый скетч и собирается ехать по центральным графствам, Йоркширу, северо-западу и Шотландии. Рад сообщить, что мы с ним нигде не встречаемся. Да, малыш, пока не забыл. Когда увидишь утром Сэма, Бена и Барни, предупреди их, что после обеда мы прогоним «Исчезающего велосипедиста», – мы уж его порядком забыли.
– А как номер с двумя карликами, дядя?
– Я еще не перешел к чертежам, малыш. Ну, тебе завтра вставать рано, так что иди лучше спать.
Понедельник был дождливый – так бывало почти всегда, когда мне приходилось рано вставать, – и хотя весна уже началась, Ливерпуль казался огромным, хмурым и неприветливым. Все наше имущество было благополучно доставлено; я предупредил Сэма, Бена и Барни о дневном прогоне «Велосипедиста», потом, выпив отвратительного кофе, точно зачерпнутого со дна Мерси, послонялся в ожидании оркестровой репетиции и дяди Ника. Поскольку он опаздывал, я мог поглядеть на всех остальных. Ведь в конце концов нам многие месяцы предстояло выступать вместе.
Ни Даффилда, ни его собачек я не видел, из их группы была только усталого вида женщина, как мне сказали потом, сестра Даффилда, которая и делала всю работу. Появилась Нони Кольмар со своим дядюшкой Густавом; он кивнул мне, а она показала язык. Монтана и его жена, подававшая ему инструменты, когда он играл, балансируя на большом металлическом шаре, оказались скучной парой, – им скорей подошло бы держать небольшую гостиницу. Лотти Дин, лет пятидесяти, с рыжими крашеными волосами, была похожа на линкор, а вокруг нее, как эсминец вокруг дредноута, беспокойно кружила маленькая, тощая и бледная женщина, к которой Лотти обращалась всегда одинаково: «Этель! Ради Бога…»
Братья Лаусон, Берт и Тэд, прилизанные и причесанные на прямой пробор, были одеты в зеленые полосатые костюмы, розовые рубашки, оранжевые штиблеты и напоминали парикмахеров. Правда, должен признаться, что в ту минуту, когда мне пришло в голову это сравнение, настроение у меня было кислое. Тут как раз появились дядя Ник и Сисси, и я сказал им, что вся эта компания меня не слишком вдохновляет.
– Обычные середняки, – заметил дядя Ник. – И приехали развлекать зрителей, а не тебя, малыш.
– Дик все мечтает о своей Нэнси, – сказала Сисси. – Или о Джули Блейн. Вот в чем его беда.
– Ладно, хватит болтать. – Дядя Ник, с переписанными ногами под мышкой, собирался уже занять сцену, но с неудовольствием обнаружил, что «Три-Рэгтайм-Три», все втроем, завладели вниманием дирижера и шестнадцати оркестрантов. Дядя отступил, проклиная их.
– И вы здесь, мистер Оллантон? – Подошедший представился мне и Сисси как Отто Мерген, аккомпаниатор и менеджер Лили Фэррис (я слышал о нем от Джо Бознби); дядя Ник только кивнул ему и занялся своей сигарой, несмотря на запретительные надписи. – Мисс Сисси Мейпс? Да, разумеется. Мистер Ричард Хернкасл? Очень приятно. Племянник мистера Оллантона, желающий стать художником, не так ли? Да, он говорил нам о вас. Лили наверху у себя, но сейчас спустится. Как вам нравится Ливерпуль, мисс Мейпс?
– Он ей не правится, Мерген, – ответил дядя Ник, все еще пребывавший в плохом настроении. – И мне тоже. Хотя дела здесь должны идти неплохо.
– Я тоже так думаю. – Он добавил что-то еще, но говорил так тихо, что ничего не было слышно, потому что в этот момент загремел оркестр, и три молодых американца принялись за дело: толстяк играл на рояле, высокий – на саксофоне, а тот, что был среднего роста, начал не то петь, не то кричать.
– Что за вой и грохот! – не сказал, а прокричал дядя Ник. Но именно в эту минуту шум вдруг прекратился, и все услышали его слова. Кое-кто засмеялся, но не на сцене: там вся троица посмотрела в нашу сторону. Пока пианист и саксофонист спорили с дирижером, певец решительно направился к дяде Нику и свирепо прорычал:
– Кто назвал это диким воем?
– Я, – спокойно ответил дядя Ник. – И могу повторить, если желаете: что за дикий вой! – Он перекинул сигару в другой угол рта, слегка наклонил голову и бросил на парня такой взгляд, что у того гонор как рукой сняло. В облике дяди Ника было что-то необыкновенно устрашающее.
– Вы просто староваты для новой музыки, папаша.
– Я вам не папаша! – сердито сказал дядя Ник. – И нечего занимать оркестр на все утро. А что касается вашей новой музыки, то год назад я выступал с братьями Хеджес и Джекобсеном, которые привезли ее сюда. И это тоже был дикий вой и грохот.
– Давай продолжать, Маркус, – позвали со сцены.
– Да поскорее заканчивайте, – добавил дядя Ник и махнул рукой, отгоняя его.
– Не хотел бы я с вами поссориться, мистер Оллантон, – негромко произнес Мерген. – Но не отойти ли нам подальше? Лили вот-вот спустится.
Мы ушли из-за кулис, освещенных ярко-белым светом, и оказались на маленькой площадке лестницы, ведущей вниз, к служебному входу. Двери были распахнуты настежь так же, как и окно за сценой, где был сложен наш реквизит, и в них вливался дневной свет; он как-то странно смешивался со светом двух электрических лампочек – красной и желтой. Получалось какое-то удивительное смешанное освещение – такого мне еще не приходилось видеть, – когда даже знакомые лица дяди Ника и Сисси показались мне необычными и мрачными. Что касается Мергена, то я с первой же минуты почувствовал в нем что-то зловещее, и теперь, когда мы стояли рядом и можно было рассмотреть его поближе, впечатление это еще усилилось: он выглядел как олицетворение порока.
Это был человек без возраста, он мог сойти и за хилого человека лет сорока пяти и за шестидесятипятилетнего бодрячка; рыхлый, полноватый, глаза и волосы какого-то оловянного цвета, лицо желто-серое, но толстогубое, с выпяченным, как у куклы чревовещателя, ртом. Говорил он медленно и негромко, без всякого акцента, но очень старательно, как обычно говорят по-английски образованные иностранцы. (Позже дядя Ник сказал мне, что Мерген родом откуда-то из Прибалтики.) Голосом и явным желанием польстить он напоминал некоторых проповедников и священников; из него мог бы выйти миссионер какой-нибудь древней и жестокой религии. И главная ирония судьбы (правда, я узнал это много позже) заключалась в том, что Отто Мерген не только много лет аккомпанировал звезде английского варьете, но под другим именем сам сочинял те наивные, девические, сентиментальные и типично английские песенки, которые в исполнении Лили стали там популярны. Такие же песенки мне предстояло услышать позже, в войну: их ревели в кафе за линией фронта.
Лили Фэррис появилась в сопровождении молодого человека, похожего на перепуганного белокурого кролика. Звали его Альфред Дансоп, и он, по подсказке Лили, пригласил нас всех на ленч в гостиницу «Адельфи». После этого, оставив его с Сисси, мы вчетвером отправились на репетицию. Дядя Ник уступил Лили очередь. Мерген разложил ноты по пультам и пошел к роялю, освободившемуся после рэгтаймеров. Лили поговорила с дирижером, который, по-видимому, хорошо знал ее номер, Мерген взял несколько аккордов, и они управились за десять минут – опытные, собранные и быстрые. Дядя Ник всегда терял терпение с дирижерами, не выдержал он и на этот раз и, сказав мне, чтобы я сам справлялся с этим тщеславным болваном, размашистым шагом ушел за кулисы. Когда я освободился, оказалось, что Мерген ждет меня; он сказал, что остальные поехали в «Адельфи» на машине Альфреда. Дождь перестал, добавил он, и если я ничего не имею против, мы с ним можем прогуляться до гостиницы, где они с Лили остановились.
– Кто этот Альфред Дансоп? – спросил я, когда мы вышли.
– Он единственный сын очень богатого текстильного фабриканта, – ответил Мерген, как всегда негромко, старательно выговаривая слова. – Надо полагать, его отец снабдил набедренными повязками многие миллионы индусов. Можно сказать, все бедные родичи вашего Гэнги Дана – покупатели Дансопа-старшего. Однако еще не Альфреда. Альфред не слишком много внимания отдает делу. Он уже несколько месяцев без ума от Лили. Он ее раб.
– А что она? Она, кажется, помыкает им?
Да, беспрестанно. Она убеждена, что Альфред затем и существует, чтобы им помыкали.
До этого мы шли по людному тротуару, но тут нам пришлось переходить улицу, и на некоторое время мы замолчали.
– Я должен, думается, рассказать вам немного о Лили, – начал он, когда можно было возобновить разговор. – Она была третьим ребенком из восьми в семье столяра-краснодеревщика – не из лучших – в Западном Гемпшире. У нее нет тайн от меня, и однажды она взяла меня с собой, когда отправлялась навестить семью. Этот дом годится только для того, чтобы из него сбежать и никогда больше не возвращаться. Вы бывали в Западном Гемпшире?
Я не бывал, но не смог ему этого сказать, потому что тут как раз мы порознь обходили группу людей, продававших и покупавших дневные выпуски вечерних газет.
– Лили обожает петь о любви, – начал он снова, – и нравится мужчинам, но замужество, домашний очаг и семейная жизнь ее не привлекают. Альфреду не удалось стать ее любовником, и, наверно, поэтому он немедленно женился бы на ней, но она только смеется. Конечно, над Альфредом легко смеяться. У него глупый вид, и он на самом деле глуп. Он, можно сказать, полная противоположность вашему дядюшке мистеру Оллантону, человеку умному и явно очень трудному.
– Да, у дяди Ника сильный характер.
– Лили и я, мы оба глубоко ему признательны за позицию, которую он занял, когда речь шла о том, чтобы она возглавила программу. Чрезвычайно любезно и очень обходительно. Я надеюсь, вы не сочтете меня нескромным, если я спрошу, каковы его отношения с мисс… э-э… Мейпс…
– Она участвует в номере. Они живут в одной берлоге. У него есть жена, но они разошлись. – Я рассказывал это нарочно – мне было интересно узнать, что он замышляет, – я был твердо уверен, что он ничего не говорит просто так, зря, а все делает с задней мыслью.
– Вы хорошо его знаете, – как по-вашему, может он увлечься Лили?
– Нет, не может. – Я так и считал, а ответил кратко потому, что вести такого рода разговор с почти незнакомым человеком на запруженных ливерпульских улицах вдруг показалось мне полным идиотизмом.
– Почему же, позвольте спросить?
– Ну, как вам сказать… – Я помолчал: с одной стороны, надо было показать, что я отвечаю с неохотой, а с другой – стоило ли говорить, что дяде Нику не нравится номер Лили. – Я даже не знаю… ну, в общем, дядя Ник не так уж много думает о женщинах. Ему надо иметь кого-нибудь рядом, понимаете, но я не могу себе представить, чтобы он бегал за Лили Фэррис.
– Очень рад это слышать, – многозначительно сказал Мерген. – Чрезвычайно рад. Молодых людей, которых мы видели на репетиции, не назовешь трудными людьми, хотя, впрочем, Лили их еще не видела.
– Я проголодался, – сказал я. – Мне хочется поскорее добраться до ленча, на который меня пригласили. Давайте прибавим шагу.
Метрдотель, знавший Альфреда Дансопа, посадил нас за маленький прямоугольный столик. Альфред сел на одном конце, Лили справа от него, а Сисси – слева. Дядя Ник оказался рядом с Лили, Мерген на другом конце, напротив Альфреда, а я между Мергеном и Сисси, напротив дяди Ника и Лили. Пока мы заказывали еду и говорили о всяких пустяках, я через стол рассматривал Лили Фэррис. Номер ее показался мне скучным, потому что я не люблю сентиментальных баллад, исполняемых сладким девическим голоском, но на сцене ей можно было дать лет восемнадцать. Здесь, без светло-каштановых локонов и бело-розового грима, она выглядела на десять лет старше. Больше всего бросался в глаза ее нос, длинный, но совсем не выступающий вперед, прямой и тонкий. Глаза у нее были странные, мутно-карие, но дело не в цвете: они были не то чтобы навыкате, а как-то неглубоко посажены, и находились почти в одной плоскости со лбом и скулами, как у изящного зверька. Верхняя губа у нее была короткая и сухая, а нижняя – пухлая, но тоже какая-то узкая. Она не была ни красивой, ни даже хорошенькой, но я легко мог поверить, что если уж кому-то захотелось глядеть на это лицо, то он, как Альфред, будет глядеть на него не отрываясь. В ней было что-то от той милой невинной девочки, которую она изображала на сцене, это особенно чувствовалось в голосе, в ее обычном голосе. Здесь, за столом, она тоже старалась так говорить и, несмотря на следы простонародной интонации, производила впечатление примерной девочки, которая благодарит учителя за награду. К тому же у нее была привычка широко раскрывать глаза, когда она слушала или отвечала.
Я разговаривал с Сисси о других наших партнерах, как вдруг Лили перехватила мой взгляд, улыбнулась и сказала своим тоном благонравной девочки:
– Я слышала, вы очень гадкий мальчик.
– Кто вам сказал? Наверняка Сисси.
– Нет, Дик, я не говорила, – начала Сисси.
Но Лили – хотя и трудно было поверить, что у нее хватает голоса, – умела беспощадно прерывать нежеланного собеседника.
– А можно мне тоже называть вас Дик? Только чтобы и вы звали меня Лили.
– Хорошо, Лили. – Дядя Ник и Мерген о чем-то беседовали, наверно, о нашем турне и вообще о делах. Сисси отступила, но утешилась ленчем – она обожала полакомиться; Альфред сидел с открытым ртом и таращил глаза.
– Скажите, Дик, – спросила Лили, – вы рисуете людей?
– Нет, только пейзажи.
– А людей совсем не рисуете?
– Ну, я несколько раз делал наброски, но у меня плохо получается.
– Вы просто скромничаете.
– Он меня очень хорошо нарисовал, – подала голос Сисси, высунувшись из-за утиной грудки.
– В таком случае, – сказала Лили, даже не взглянув на Сисси, – вы сможете и меня нарисовать. Альфред купит ваш рисунок. Правда, Альфред?
Альфред сделал попытку – по-видимому, последнюю – казаться независимым.
– Могу купить, а могу и не купить.
На это я ответил ему в той:
– А я могу нарисовать, а могу и не нарисовать.
Тут я почувствовал, что мне кто-то наступает на ногу. Я понимал, что это не Сисси и, уж разумеется, не Альфред, а все еще занятые разговором дядя Ник и Мерген сидели слишком далеко от меня. Только Лили могла подать мне этот знак, но в укоризненном взгляде, которым она смотрела на меня, не было и намека на что-либо подобное.
– Простите, Дик, если я не то сказала. Но может быть, вы все-таки попробуете? – Нажатие усилилось и стало настойчивым.
– Я не думаю о том, купит ли кто-нибудь набросок, Лили. Просто не мое это дело. Тут нужен художник другого рода. Но если вы действительно хотите, я попробую.
– Сегодня?
– Тпру! – закричал Альфред. – А как же Баффы?
– Замолчите, Альфред. Мы не уговаривались определенно. – Она взглянула на меня. – Так, значит, сегодня?
– Простите… но у нас репетиция.
– Ах, перестаньте… держу пари, что это неправда.
– А я держу пари, что правда, – сказал дядя Ник весьма решительно. – Не знаю, как у вас, мисс Фэррис, но в моем деле нужно работать непрерывно. Так что мы скоро уйдем.
– Я слышала, у вас замечательный номер, мистер Оллантон, – сказала Лили. – Я проберусь в ложу и посмотрю его.
Оставив Лили и компанию за столом, мы взяли такси и вернулись в «Эмпайр». (Дядя Ник продал свою машину еще в Лондоне и теперь мечтал купить новую.)
– Надеюсь, один из вас поблагодарил этого Альфреда за ленч. Потому что я этого не сделал. У парня куда больше денег, чем мозгов. Он, видно, малость с приветом, – презрительно закончил дядя Ник. – А ты, малыш, чего такой кислый? Небось надеялся, что будешь рисовать Лили вместо того, чтобы кататься на велосипеде, а?
– Ничего подобного. Это все она придумала.
– Мне не надо было говорить ей про тебя и про Джули Блейн, – сказала Сисси. – Теперь и у нее всякие мысли появились, это сразу видно.
– Не всякие мысли, – заметил дядя Ник. – А одна мысль. Та самая, которая всегда у тебя в голове.
– Неправда, Ник, и ты это прекрасно знаешь. Но я хочу вам сказать кое-что. Мне они не нравятся. От них мне как-то не по себе – и от нее, и от этого мистера Мергена, и от дурачка Альфреда, который совсем спятил от любви, а она его и в грош не ставит. Очень не по себе. – Она вызывающе посмотрела на дядю Ника, потом на меня.
– Правильно, Сисси, – сказал я. – Мне тоже.
– Ну и что из того? – сердито фыркнул дядя Ник.
И тут я вспомнил, что почувствовал тогда у Джо Бознби, когда мы смотрели на карликов.
– Я понял, какое они вызывают ощущение, только не могу сказать почему. В них есть что-то зловещее. Я знаю, дядя Ник, это звучит глупо, но что поделаешь. Именно зловещее. Они дурные люди.
– Надо же, и ты туда же, малыш. Зловещее!
– Ладно, дядя. Пусть все это моя фантазия. И тем не менее, – добавил я медленно, – не жду я ничего хорошего от этих гастролей.







