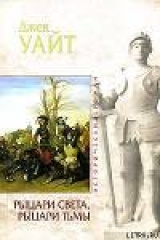
Текст книги "Рыцари света, рыцари тьмы"
Автор книги: Джек Уайт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 40 страниц)
В конце концов граф решительно вмешался и положил конец беседе. Он подытожил все, что Стефан узнал в тот день, и умело суммировал все сведения, так что если бы юноша захотел позже над ними поразмыслить, он без труда вспомнил бы все положения их спора.
– А теперь ты так напичкан новостями, что впору голове пойти кругом, – пошутил граф. – Слишком много всего, да еще так врасплох, с налету. Мы с Вильгельмом, конечно, все понимаем, но не забудь его слова о том, что у тебя вся жизнь впереди, чтобы выяснить и перепроверить, правы мы или нет. В твоем распоряжении целый архив, а также помощь самых сведущих из наших собратьев – они с радостью поделятся с тобой знаниями и почтут за честь пособить тебе в учении. Все, что от тебя требуется, – не запирать разум на замок и помнить, что по любому вопросу есть точки зрения, с которыми трудно смириться. В данном случае речь идет о человеке, известном как святой Павел. Тебе еще предстоит узнать, что из далекого прошлого – из времен, когда жил этот человек, – до нас доходят голоса, недвусмысленно утверждающие, что он был не таков, каким его считают сейчас, и совсем не таким добродетельным – во всех смыслах, включая и его правдивость. Среди них раздаются те – не менее громкие и убедительные, – которые настаивают, что его хваленое пристрастие ко всему римскому в конце концов превратило его в лизоблюда, доносчика и шпиона императора Нерона. Другие свидетельствуют – тут я не хочу никого очернять, поэтому просто скажу, что есть свидетельства, – что он мог быть непосредственно замешан в убийстве Иакова. Иакову не было до Павла никакого дела, и он не скрывал своей неприязни к этому человеку, тогда как Павел открыто признавался в своих письмах, что видит в Иакове угрозу, помеху и даже препятствие для распространения слова Божия среди язычников. Вполне вероятно, что он оклеветал и выдал Иакова властям, видя в его аресте и казни явную пользу. Что касается препятствия, то тут он нисколько не ошибся, потому что Иаков был евреем – одним из тех, кого Всевышний призвал для служения Себе, поэтому в Его мире язычникам не нашлось бы места. Многое еще можно сказать из того, что и так всем известно, но мы в ордене, прямые потомки ессеев, бедняков Иерусалимского собрания, придерживаемся намеченного ими пути. Ему они следовали всю свою жизнь, и наша задача – сохранять незамутненным взгляд на события эпохи, когда все только начиналось. Помни об этом отныне и навсегда и будь верен обетам, данным тобою при восхождении. – Граф сочувственно посмотрел на Стефана. – Я вижу, ты в смущении и недоумении – этого следовало ожидать. Теперь тебе лучше побыть одному и обдумать то, о чем мы сегодня говорили. Взвесь все и, если у тебя снова возникнут вопросы, приходи и спрашивай нас обоих без стеснения. А теперь иди с миром.
ГЛАВА 6

Зерна нового мировоззрения, запавшие в голову Стефана, прочно укоренились, и в последующие два года, еще до отплытия в Иерусалим для вступления в новое братство, молодой Сен-Клер с ненасытным рвением гонялся за любой крупицей сведений об Иерусалимском собрании, о пути ессеев и о тех изначальных устремлениях, которые, благодаря Павлу, двенадцать столетий спустя мир уже знал под именем христианства.
Скоро он потерял счет поездкам, путешествуя по всей стране, встречаясь со старшими собратьями – архивариусами ордена Воскрешения, систематизирующими и толкующими сохраняемое ими учение. Стефан не уставал изумляться, глядя на эти архивы – весьма обширные по заключенным в них знаниям, но незначительные внешне. Чаще всего документы представляли собой свитки, гораздо более легкие и менее объемные, чем внушительные фолианты Священного Писания. Они хранились в разных местах, распределенные по влиятельным домам дружественных семейств, под неотступным присмотром старшей братии, которой было поручено сберегать и изучать их. Стефан обнаружил, что части общей коллекции документов удивительно удобны для перевозки. Поскольку оригиналы были слишком ценны и хрупки для частого к ним обращения, архивариусы составляли подробные копии и часто обменивались ими, чтобы составить полное представление об учении в целом.
Вскоре Сен-Клер уже хорошо разбирался в политической жизни Иудеи времен Ирода, а также в верованиях и устремлениях различных сект и полусект, входивших в обширное мессианское движение. Вследствие вдумчивого чтения и скрупулезного изучения различного рода документов, он быстро научился доверять только своим суждениям и в первую очередь полагаться на собственную интуицию.
Так, в одном из архивов старинного города Каркассона в Лангедоке он обнаружил копии хроник, записанных еврейским историком Иосифом.[21]21
Иосиф Флавий (еврейское имя – Йосеф бен Маттитьяху, р. 37, Иерусалим, – ум. после 100 г., Рим) – древнееврейский историк.
[Закрыть] Пристально изучив их – не без помощи наставников, которые десятилетиями штудировали эти пергаменты, – Стефан смог по достоинству оценить содержащиеся в них любопытные факты. В тех свитках он нашел замечательное по своему подробному подходу изложение политической и военной расстановки сил в современных Иосифу Иудее и Палестине. Сравнивая точку зрения забытого историка и жизнеописания, приведенные в «Иудейской войне» и «Древностях», с христианской доктриной, содержащейся в многочисленных современных манускриптах, Сен-Клер понемногу пришел к пониманию, а потом и к твердой уверенности, каким образом проповеднику Павлу удалось выхолостить учение Иерусалимского собрания. Взяв те изначальные верования за основу, Павел лишил их антиримского духа, царившего в еврейской среде, изъял из них запрет на язычество и потом, сразу после разрушения Иерусалима, создал из них христианство по своему собственному вкусу и для собственных целей – новую религию, политически приемлемую для тогдашних властей и для многоязычного населения Римской империи.
Не меньший интерес у него вызвал расцвет государственного христианства, начавшийся столетия спустя, в четвертом веке, когда император Константин[22]22
Константин I Великий (280–337) – римский император (с 306), легализовавший христианство.
[Закрыть] подверг Церковь романизации. В первую очередь внимание императора привлекла содержащаяся в ней угроза бунтовщичества, которую он поспешил искоренить. Старейшины ордена сходились на том, что, бесспорно, этим актом Константин явил беспримерную политическую прозорливость, поскольку при нем Церковь стала неотъемлемой частью имперской власти. Сей стратег раздал Папе и кардиналам титулы князей, но венцом его маневра стало предоставление слугам Царя Небесного вполне земного дворца, который отныне должен был свидетельствовать о ее мировом значении и – для тех, кому это еще было важно и нужно, – об окончательной смерти общественного движения, начатого Иисусом, Иаковом и прочими истинными зачинателями Иерусалимского братства.
Сен-Клер живо припомнил, какое возбуждение охватывало его при прочтении или обсуждении таких фактов. Новые сведения будоражили и пугали одновременно и при первом приближении попахивали вероотступничеством и ересью. Позже наставники разъяснили ему, что все эти несообразности тщательно задокументированы орденом Воскрешения. Хранящиеся в архивах пергаменты, некогда тайно вывезенные из Иудеи беглыми священниками и их семьями, впечатляют и разнообразием доказательств, и их древностью, и несомненной подлинностью. Как убедился сам Стефан, материала для исследования в них хватило бы на несколько жизней, и многие из его предшественников, архивариусов и антикваров за тысячу лет существования ордена посвятили себя изучению, переводу и толкованию тех старинных текстов.
Теперь Стефан неколебимо верил, что старинный орден Воскрешения в Сионе – единственный в мире прямой наследник Иерусалимского братства, и если его существование будет раскрыто, то ему грозит немедленное истребление от рук детища святого Павла, то есть христианской Церкви, которая за двенадцать столетий уничтожила всю оппозицию. Ее непрерывные и безжалостные усилия всегда были нацелены на защиту собственных интересов и достижений и на подчинение всего мира своей воле – той воле, которую, без всякого сомнения, сформулировали и распропагандировали обычные люди. Последнее положение заслуживало особого внимания, поскольку те, кого именовали представителями Господа, как-то: епископы, архиепископы, кардиналы, папы и патриархи – все они были простыми смертными. В суете мирской они не скрывали, что почти ничего не знают и еще меньше хотят знать о своем якобы бессмертном Предтече – Человеке, жившем в Иудее во время оно и умершем на кресте за подстрекательство к мятежу против Рима.
Теперь Сен-Клер был твердо убежден, что Павла скорее следовало называть своекорыстным пройдохой, нежели святым. У него достало сообразительности и авантюрной жилки, чтобы, столкнувшись с такой великолепной концепцией, распознать ее выгодность, а потом незаконно присвоить, слегка приукрасить и в конце концов превратить в самовоспроизводящийся организм – силу, вполне пригодную, чтобы перевернуть и перестроить весь мир, но использующуюся в основном для сбора пожертвований. Надо сказать, что века спустя император Константин не отстал от Павла в своем оппортунистическом устремлении и общался с Церковью лично и напрямую, перекраивая ее под себя и приспосабливая к собственным нуждам.
Впрочем, ко времени реформ Константина, то есть через три века после разрушения Иерусалима, семьи, изначально составившие орден Воскрешения, насчитывали уже пятнадцать поколений. Некогда прибыв на юг древней Галлии, они там и осели, и никто, включая их самих, даже не мог предположить, что их истоки и земля предков находятся далеко за пределами их нынешних процветающих владений.
Дружественные семейства, как они сами себя называли, незаметно влились в принявшее их сообщество и образовали в нем родственные кланы. Сперва таких семей было тридцать, но потом их численность невероятно увеличилась. Все знали, что причиной такого близкого добрососедства – некие древние и даже священные узы, загадочные и непостижимые, но мало кого это удивляло. Связь между дружественными семействами была данностью, традицией, существовавшей еще до того, как родились их прапрадеды, и ей суждено было продлиться на многие поколения, когда не станет ни их самих, ни их правнуков. Они приняли эту взаимосвязь, наряду с христианством, как нечто само собой разумеющееся, ни разу не поинтересовавшись, что скрепило их всех воедино, к тому же так надолго.
Только в самых заветных тайниках родовой памяти семейств хранилась правда об их происхождении. Ее ревностно и добросовестно оберегал один представитель поколения из каждого клана, и передача тайны сквозь века была равносильна священному долгу. Прочие родственники, узнай они ее суть, не поверили бы, что это возможно.
Их предки, первооснователи дружественных семейств, были священнослужителями Иерусалимской общины, братьями и последователями первой экклезии[23]23
От лат. Ecclesia – собрание, сходка, церковь.
[Закрыть] Иисуса и Иакова Праведного. Гибель Иисуса от рук римлян всколыхнула народ в Иерусалиме и во всей Иудее. Когда же за ней последовала жестокая расправа над Его братом Иаковом, забитым до смерти неизвестными злоумышленниками с помощью чеканной дубинки, она вызвала мощный всплеск недовольства и наконец вылилась в мятеж против Ирода и Рима. В ответ на эти события Веспасиан и его сын Тит вторглись в Иудею во главе римской армии с намерением беспощадно расправиться с еврейскими смутьянами и истребить их раз и навсегда.
Когда стало ясно, что Иерусалим больше не может выдерживать осаду, а значит, разрушения города и храма не миновать, священники братства надежно спрятали все самое ценное – записи и реликвии – глубоко под землей, куда не могли добраться римские захватчики. Только тогда, убедившись, что они сделали все возможное для сохранения святынь, которые они не могли увезти с собой, члены общины примкнули к тысячным толпам, покидающим Иудею.
Долгие годы они шли вдоль Средиземноморского побережья многочисленной и разрозненной, но тем не менее сплоченной самодостаточной группой, пока не достигли южной Иберии. В конце концов путешественники расселились по землям Лангедока, где впоследствии и закрепились, умножая свои состояния и знания, но не забывая древних традиций. Отныне сохранение священной истины было вверено тайному союзу, в который вошли избранные члены от каждого семейства. Этот союз стали называть орденом Воскрешения в Сионе.
Сен-Клер не мог без горькой усмешки думать о том, что он, взращенный в основном монахами и воинами и некогда тоже стремившийся примкнуть к христианской монашеской общине в Анжу, на родине предков, теперь, вместе с восемью собратьями, входил в самое несуразное образование в анналах христианства – в орден монахов-ратоборцев, бедных ратников воинства Иисуса Христа. Еще более смехотворным представлялось ему то, что его истовое увлечение историей христианства не прошло даром: теперь Стефан чувствовал в себе силы если не разрушить эту твердыню, то хотя бы посеять сомнения в подлинности ее догматов и тем самым подорвать ее устои.
РАЗОБЛАЧЕНИЕ
год 1127 от P. X.

ГЛАВА 1

Брат Стефан внезапно проснулся, охваченный непонятной паникой. В голове еще гудело эхо, похожее на сдавленный крик. Он понял, что сидит на постели, закрываясь руками, словно от удара. Не сразу он почувствовал, что кругом не видно ни зги, во рту пересохло от ужаса, а сердце колотится так сильно, что больно в груди. Еле дыша, Сен-Клер изо всех сил долго вглядывался во тьму. Наконец он мучительно сглотнул и решился опустить руки, затем протер глаза и осмотрелся.
Кругом царила кромешная мгла. Снизу привычно давили жесткие доски койки, и, когда сердцебиение немного унялось, Стефан различил знакомые ночные звуки: храп, вздохи и бормотание собратьев, спавших по соседству. Значит, он зря боялся, что снова вернулся в тот ад, где лежал на узком дощатом ложе скованный по рукам и ногам.
Вздрагивая от пережитого испуга, Сен-Клер выпрямился и насторожил слух, пытаясь уловить хоть один незнакомый звук. Что-то же должно было так сильно встревожить его, что прервался столь глубокий сон – нечто спасительное и пугающее одновременно. Увы, как он ни напрягал слух, ничего необычного вокруг не происходило.
Помедлив, Стефан бесшумно выбрался из постели и постоял, чутко прислушиваясь, затем уверенно пробрался в темноте к стойке в углу, на которой висело оружие. Взяв меч, он положил ножны на койку, а сам неслышно двинулся ко входу своей загородки-кельи. Там он еще постоял, держа клинок наготове и напряженно вслушиваясь в тишину.
Вскоре он уже вычленил и узнал дыхание каждого из своих спящих собратьев и почти убедился, что в полумраке их совместного жилища, скудно освещенного единственной еле теплящейся свечкой, нет посторонних. Но что, в таком случае, могло его разбудить? По спокойствию, царящему вокруг, Стефан определил, что стоит глубокая ночь. Ему подумалось, что если бы он с собратьями действительно принадлежал к христианскому монашескому ордену, то сейчас им всем следовало бы не спать, а в часовне читать псалмы и молитвы святому Бенедикту. Вместо этого его товарищи, отдавая каждый день немало часов изнурительному труду в подземелье, теперь крепко спали, пополняя физические силы для дальнейшей работы.
Биссо, у чьей кельи остановился Стефан, славился среди собратьев своим громким храпом. Вот и сейчас он неожиданно разразился очередным громовым раскатом, тяжело заворочался и засопел с присвистом. Из соседней кельи кто-то, потревоженный внезапным шумом – Сен-Клеру показалось, что Россаль, – сонно обругал его и тут же снова затих, на что Стефан только тихо улыбнулся.
Он решил, что все хорошо и его просто растревожил дурной сон… Впрочем, даже если так, что же это за сон, если от него так резко просыпаешься? Некогда он мучился ночными происшествиями, вызванными его чрезмерным сластолюбием, – к ним он питал глубокое отвращение; но тогда речь шла лишь об омерзении и нравственном отторжении, а не о явном страхе. В этот раз он вправду испугался, и сердце его колотилось от тревоги и ужаса – в этом Стефан не сомневался, хотя не понимал, что могло послужить тому причиной.
Успокоившись наконец и пребывая в убеждении, что ему никогда не выяснить причину своего нелепого пробуждения, Стефан вернулся в келью, отыскал там свечку и зажег ее от общинного ночника. Затем он убрал меч в ножны и снова повесил его на оружейный стояк, а сам опять улегся на койку и, положив руки под голову, стал глядеть в потолок и вспоминать, что же ему недавно снилось…
Но стоило ему прикрыть глаза, как перед его мысленным взором, напугав Стефана до полусмерти, вдруг промелькнуло чье-то лицо. Он опять порывисто сел и съежился, прижимая локти к животу, словно ожидая удара под ребра, – и тут же понял, что борется с непостижимым. Он неистово вопрошал себя, что же значат его мысли и чувства, беззвучно крича в пустоту своей памяти. Тогда загадочное лицо, столь напугавшее его, явилось ему снова – образ неумолимый и явственный в своей заносчивой красоте, с волнующей мягкостью припухлых губ, кривящихся во властной усмешке.
Вслух застонав от отчаяния и от невозможности происходящего, Сен-Клер перегнулся пополам, сполз на край койки и спустил ноги на пол. Он крепко зажмурил глаза и крепко сжал уши ладонями, чтобы ничего не слышать. Он не хотел, не мог даже допустить, чтобы подобное наваждение было вызвано не иначе, как самим сатаной. И тем не менее, сколько Стефан ни твердил себе обратное, он вновь видел и узнавал образы, до боли знакомые и настоящие: голубой камешек, сейчас хранившийся у него под рубашкой, во сне был подвешен на золотой цепи… Стефан держал эту цепь, раскачивая украшение, стараясь угнездить его меж грудей женщины, лежавшей рядом с ним на роскошной постели, на смятых шелковых простынях. Ее голое бедро придавило ему ногу, не отпускало… Да, это ее улыбающееся лицо он увидел во сне и вскочил, объятый паникой, – от того, что весь мир вокруг него неожиданно оказался поверженным во прах. Ошибки быть не могло – Стефан даже не пытался разубеждать себя или искать оправдания – женщиной из сна была Алиса, принцесса Иерусалимская, вторая дочь короля Балдуина, а он, как с несокрушимой уверенностью вдруг стало ясно Сен-Клеру, спал с ней, с ней совокуплялся. Тяжесть ее налитых грудей в его ладонях была столь же явной и памятной, как сладострастный капкан ее бедра, прочно придавивший его к постели. Стефан мог даже восстановить крепкий мускусный запах ее духов. Кончик его языка помнил ощущение погружения в глубокий колодец ее пупка, а щека – теплую гладкость упругого живота.
Он не помнил, как встал, но, кажется, в мгновение ока уже оказался полностью одет и вооружен – стоило только обуться, натянуть через голову льняную накидку, застегнуть на ней перевязь с тяжелым боевым мечом, надеть перчатки, сунуть под мышку плоский стальной шлем, а другой рукой схватить треххвостый цеп. Затем Сен-Клер почти бесшумно выбрался из своей кельи и миновал общинное пространство пещеры, едва шурша по толстому слою настеленной на пол соломы. Единственный страж у входа в конюшни только вздохнул во сне и поудобнее привалился плечом к стене: у монахов и мысли не возникало, что кто-то ночью придет их обворовывать.
Сен-Клер бесшумно оседлал и взнуздал коня и тихо повел его к выходу: садиться верхом, пока не окажешься снаружи, не было смысла. Выйдя под звезды, он еще задержался, чтобы плотнее надвинуть шлем, привесил цеп к луке седла и, сняв с пояса короткий и тяжелый боевой топорик, также вдел его в особую петлю с другой стороны седла. Закончив приготовления, Стефан спешно вернулся в конюшни, чтобы забрать копье и щит, хранившиеся на подставке у самого входа.
Наконец он мог ехать. Удобно устроившись в седле, Сен-Клер как следует пришпорил коня и направился к группе строений по пути к южным воротам. Там его задержала городская стража, но Стефан объяснил, кто он такой и что он едет с особым поручением от патриарха. Не дождавшись, пока створки ворот распахнутся настежь, он рванулся вон и вскоре был уже далеко от въездной арки.
Его мало заботило, что подумают братья об его исчезновении, потому что в глубине души почти не сомневался, что никогда больше их не увидит. Однажды они уже оплакали его, и Стефан в отчаянии повторял себе, что теперь им не придется вторично себя утруждать. Сейчас он безжалостно травил себя мыслью, что всем было бы только лучше, если бы он тогда и вправду умер.
Сен-Клер не знал, куда едет, – знал лишь, что подальше от мест, где его могут узнать по имени или в лицо. Это означало, что путешествовать предстоит не ближе, чем в Сирию, где он и рассчитывал умереть, сражаясь с полчищами сарацин. Стефан с радостью встретил бы такую кончину в надежде хоть как-то искупить грехи своей мерзостной плоти. Он возлег с королевской дочерью и предавался с ней блуду, совокупляясь, словно бессмысленный зверь, – мысль об этом точила его, наполняя душу неизмеримым стыдом.
Только на короткий миг Сен-Клер прервал свое отчаянное бегство из Иерусалима – когда ему неожиданно пришла в голову мысль, что, по крайней мере, одна подробность приключений ему точно пригрезилась. Стефан натянул поводья и замер, любуясь посветлевшим горизонтом на востоке и еще раз проверяя, не ошибся ли он в своем предположении. Голубой камешек, сейчас висевший у него на шее, во время похищения хранился в земной толще. Стефан нашел его месяцы спустя после своего возвращения, и это означало, что память подвела его на этот счет – на самом деле ничего греховного он не делал. Осознав и приняв это за истину, Сен-Клер почувствовал, как сердце в груди екнуло и как в нем разлилась надежда, похожая на глоток свежего воздуха. Все неправда, подумалось ему, и сама возможность ошибки была подобна заливистому перезвону колокольчика над дверью кухарки в кухне у матушки.
Но облегчение, увы, длилось недолго, а потом Стефана с новой силой захлестнуло отчаяние. Едва успел он поблагодарить Господа за мнимое присутствие во сне голубого украшения, как на ум ему пришла цепочка, с которой оно свисало, – массивная, тяжелая и змеистая, из толстых, ручной работы звеньев, отливающих маслянистым желтоватым блеском, гладкая и податливая, прочная, искусно сработанная… Ничего более ценного он в жизни даже в руках не держал. А ту цепь он брал в руки не раз и не два. Он подставлял ладонь чашей и укладывал туда сияющие звенья, одно за другим, и воздетая рука со свисающей цепью четко вырисовывалась на прелестном бледно-лиловом фоне стен Алисиной спальни. Случалось, он накидывал эту цепь на плечи принцессе и сам осторожно просовывал голову в широкую петлю; тогда оба они, донельзя сближенные посредством этих уз, обнаженные, терлись грудью друг о друга и предавались безудержному разврату.
Он нарушил обет целомудрия. Теперь спешить было некуда, и Сен-Клер лишь легонько понукал коня, пустив его шагом. Вармунд де Пикиньи сказал, что в нем нет греха, поскольку не было самого греховного умысла. Патриарх-архиепископ уверял, что не бывает греха без волевого стремления к нему, а Сен-Клер поверил ему и, тем самым, уже солгал. В последние недели суккуб посещал его по ночам значительно реже, и Стефан воспрянул телом и духом, снова радуясь жизни и каждодневным обязанностям. А теперь он вновь оказался в тупике.
Особенностью воспитания, полученного в религиозной среде (набожные и благочестивые монахи весьма серьезно отнеслись к возложенным на них обязанностям и считали их едва ли не наипервейшим долгом), был строгий и бескомпромиссный подход, которого, мужая, следовало придерживаться в оценке собственной персоны. Отметая все суетное и стараясь не поддаваться самообману, Стефан с раннего детства учился в наиболее важных жизненных обстоятельствах все тщательно обдумывать, взвешивать все «за» и «против», а затем, на основе собранных воедино знаний, опыта и собственной нравственной оценки, выносить окончательный вердикт. Теперь ему предстояло применить все эти критерии к самому себе, оценить собственные моральные качества. Замешана ли его воля в блуде с принцессой?
С великим трудом восстановленные воспоминания, с каждой минутой становившиеся все более отчетливыми, свидетельствовали о невозможности участия Сен-Клера в происшедших событиях без его согласия. Он мог с уверенностью подтвердить, что получал несказанное удовольствие – до самозабвения, до излишеств похотливого буйства. Теперь все подробности обрушились на него с неопровержимой ясностью, и все же некий упрямый голосок в уголке разума неустанно допрашивал Стефана, была ли на то его воля. Сознательно ли он согласился на это распутство, добровольно ли? Конечно, в какой-то степени – да, говорил он себе, припоминая, с какой сладострастной готовностью просовывал голову в цепочную петлю, связывавшую любовников воедино. Но голосок не унимался: управляли ли сознание и воля его телесной чувственностью? Подобный вопрос, по мнению Стефана, скорее пристало задать клирику, а не воину, и он, в бессилии своем, уже и не чаял найти подобающий ответ, и тем не менее вся дилемма, шаткая и неосязаемая в своей душераздирающей сути, по важности была для него равнозначна выбору между жизнью и смертью.
После долгих сомнений и самоистязаний в памяти наконец возникли моменты, которые можно было здраво оценивать, – клочки воспоминаний, а затем опять – зияющие, ясно ощутимые провалы… В них абсолютно ничего невозможно было восстановить. Затем стали проявляться картины его весьма необычного поведения. Он видел принцессу вблизи, но как-то нечетко, будто в искривленном зеркале, – ее образ, ее тело странно мерцали и расплывались, таяли, растворялись, превращались в ничто. Голова у Стефана шла кругом, и вместе с ней вращалась комната; тогда он заходился сумасшедшим хохотом… Значит, признался он себе, были моменты, когда он совершенно не мог отвечать за свои действия, и никак не мог окончательно в это поверить, потому что в жизни привык всегда держать себя в руках и не давал себе ни малейшей поблажки.
Пока что в истории с похищением существовали определенные пробелы, или неясности. Например, он не мог восстановить связь или переход от воспоминаний о сладострастных наслаждениях в лиловой спальне к истязаниям, которым его где-то подвергали, приковав к постели. Он решительно не помнил ни как попал в ту пыточную, ни как оттуда сбежал, – сохранился только смутный, полустертый образ неизвестной женщины, которая тянула его за собой, крепко ухватив за израненное запястье. Не кто иной, как она вывела его на свободу и потом оставила одного.
И вот, едва поверив, что, может быть, блеснет еще свет в обступившей его со всех сторон тьме, Стефан вдруг осознал, что голубой камешек по-прежнему висит на тесемочке у него на шее. Почти бессознательным движением Сен-Клер взял украшение в пясть – движение, вошедшее за последние недели в привычку, – и это невинное действие пробудило к жизни новую череду откровений и самообвинений. Он завладел – нет, как тут же безжалостно поправил он себя, обнажая истину, – присвоил, утаил и, по сути, украл эту безделицу, сколь пустячной ни была для него ее стоимость – драгоценности ли, простого ли стеклышка, – ради собственной прихоти. Одним этим решением хранить ее у себя просто потому, что ему так захотелось, он нарушил другой обет, который требовал от него не столько бедности, сколько готовности всем делиться с собратьями и ничего не оставлять себе.
Осознание всего этого придавило его к земле, мельничным жерновом легло на плечи, и если бы Стефан умел плакать, он бы зарыдал, но не мог исторгнуть из себя ни слезинки, отчего возненавидел себя еще лютее. Украшение ничего не стоило – безжизненный осколок красивой формы и приятной гладкости, обманчиво упругий, хотя и твердый, чья неуловимая теплота навевала воспоминания о нежных глубинах, скрытых меж безупречных бедер Алисы де Бурк.
Стоило такому сравнению проскользнуть в его голове, как Стефан немедленно уцепился за него и решительно рванул тесемку на шее. Зашвырнув украшение подальше, он проследил его траекторию на фоне рассветного неба и заметил, что камешек упал у основания крупного валуна. Сен-Клер еще долго смотрел на то место, где теперь лежала безделушка, – ее саму он, конечно, не видел, занятый различными мыслями… о послушании и о неповиновении. Ему пришло в голову, что, вдобавок к нарушению обета нестяжания, он, отказавшись расстаться с находкой, не выполнил обет послушания по отношению к братии – ведь они поклялись друг другу все вещи хранить общинно. Он пренебрег таким простым и четким указанием, поэтому, в дополнение, оказался виновным и в непослушании, а это означало, что голубая стекляшка ввергла его в тройную оплошность, в презрение к тем трем клятвам, которые он некогда давал Богу и людям, – целомудрие, бедность и послушание. Итак, он трижды проклят и недостоин жить – Стефан вновь укрепился в своей первоначальной мысли. Теперь ему оставалось только ускакать подальше от этих мест и окончить свои дни в бою с неверными.
Решив так, сир Стефан Сен-Клер, брат ордена бедных ратников воинства Иисуса Христа, спешился, отыскал голубой камешек, только что отброшенный в сердцах, и прочно привязал его за тесемку к гарде меча. Затем он неторопливо убрал клинок в ножны, подобрал поводья, тщательно укрепил основание копья в ременной петле возле стремени и, привесив щит к левой руке, опять пришпорил коня. Теперь путь его лежал на восток, где Сен-Клер намеревался встретить скорую и славную смерть, достойную и его имени, и имени Господа.
Господь же, Чьи пути неисповедимы, позаботился о том, чтобы ни одна вражья душа не попалась дерзкому рыцарю на протяжении долгих миль.








