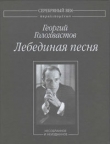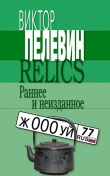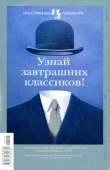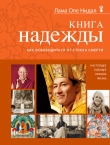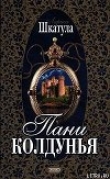Текст книги "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе"
Автор книги: Дмитрий Токарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Характерно, что Поплавский часто использует слова с приставкой «полу»; например, 23 сентября 1935 года, за две недели до смерти, он записывает в дневник:
Три дня отдыха, три дня несчастий – полужизни, полуработы, полусна. <…> Муки, мании преследования – мании величия, планы равнодушия и мести, тотчас забытые, темные медитации, сквозь гвалт и топот дома, при сиротливо открытой двери на по-осеннему тревожно-яркое небо. Черные ужасы с шомажем, а вдали, над домами, ослепительный белый человек облаков манит, повернув голову, лежащий в синеве. Жаркий день, позавчера истерика поминутно то снимаемого, то одеваемого пиджака, и медленный, чуть видный возврат из переутомления к жизни, сквозь недостаток храбрости, величия, торжественности, обреченности ( Неизданное, 118–119).
Запись сделана осенью, в переходное между летом и зимой время – отсюда то снимаемый (жарко), то вновь надеваемый (холодно) пиджак. Тревожно-яркое синее осеннее небо предвещает зиму и смерть, вестником которой предстает ослепительный белый человек. Осень – это подготовка к смерти, как ясно сказано в стихотворении «Осенью горы уже отдыхают…» («Снежный час»):
Осенью горы уже отдыхают,
Желтая хвоя тепла меж камней.
Тихо осенняя птица вздыхает
В чистой лазури уж ей холодней.
Пышно готовится к смерти природа,
В пурпур леса разрядив.
Ты же не хочешь уйти на свободу,
Счастье и страх победив.
Значит, что счастье Тебе не откроется
В мирной и чистой судьбе.
Значит не время еще успокоиться
Нужно вернуться к борьбе.
( Сочинения, 105).
Чтобы «уйти на свободу», а свобода здесь нерасторжимо связывается со смертью, необходимо победить счастье земной любви, счастье летнего дня и – победить страх смерти, страх зимней ночи. Зима – это время оцепенения, бессилия и молчания, но войти в зиму, в «снежный ад» («В зимний день на небе неподвижном…») нужно для того, чтобы преодолеть искус лета-тела. В стихотворении «В зимний день все кажется далеким…» («Снежный час») мечта о лете, вполне естественная в «глухой» зимний день, оборачивается разочарованием – лето измучит своим сверканием, вгонит в скуку своей протяженностью и приведет к экзистенциальной неудаче:
В зимний день все кажется далеким,
Все молчит, все кажется глухим.
Тише так и легче одиноким,
Непонятным, слабым и плохим.
Только тает белое виденье.
О далеком лете грезит тополь.
И сирень стоит как привиденье,
Звездной ночью, над забором теплым.
Грезит сад предутренними снами,
Скоро жить ему, цвести в неволе.
Мчится время, уж весна над нами,
А и так уж в мире много боли.
В душном мраке распустились листья,
Утром нас сверкание измучит.
Это лето будет долго длиться,
До конца утешит и наскучит.
Жаркий день взойдет над неудачей.
Все смолчит под тяжестью судьбы.
Ты еще надеешься и плачешь.
Ты еще не понял синевы.
( Сочинения, 136–137).
«Понять синеву» значит понять, что весна только умножает боль, которой и так уже много в зимнем мире, но весна и дает возможность, испив боль до дна, преобразить ее в радость нового бытия, причащенного смерти. Эта радость не будет радостью телесной, но радостью духовного очищения и телесного преображения. Весной снимается оппозиция яркого и темного, лета и зимы, наслаждения и боли; весной «легко и больно» дышать («Над солнечною музыкой воды…»); весной ангел смерти, парящий в осенней синеве, может показаться ангелом-путешественником, обещающим жизнь, «чистую, как стекло» ( Неизданное, 193):
Ты меня обвела восхитительно медленным взглядом,
И заснула откинувшись навзничь, вернулась во сны.
Видел я как в таинственной позе любуется адом
Путешественник-ангел в измятом костюме весны.
(Восхитительный вечер был полон улыбок и звуков… // Сочинения, 58).
Можно предположить, что в данном стихотворении речь идет о Татьяне Шапиро, с которой у Поплавского был роман, продолжавшийся с октября 1927 по лето 1928 года. Ей он читал первые главы «Аполлона Безобразова», ей посвятил стихотворение «Мистическое рондо I» («Флаги»), в котором появляется образ спящего ангела («Все проходит. / Спит рука. На башне ангел спит…»). Незадолго до отъезда Татьяны в СССР Борис пишет в дневнике: «Черноглазый ангел уже далеко, на самом краю жизни, готовится отлететь. И те, кто близки друг к другу навеки, готовы уже расстаться навеки» ( Неизданное, 160). В Татьяне, которую сам же и называл «бедной буржуазной девочкой» ( Неизданное, 143), Поплавский хотел видеть «софическую иллюминатку» ( Неизданное, 142); таким же, идеализирующим, взглядом он будет смотреть и на Дину с Натальей. Кстати, если судить по дневниковым записям Дины за ноябрь 1927 – январь 1928 года [166]166
См.: Вишневский А.Перехваченные письма. С. 143–146.
[Закрыть], их отношения с Поплавским развивались параллельно отношениям с Татьяной. Любопытно, что ангелом Поплавский называл не только Татьяну, но и Дину [167]167
См., например, запись: «Теперь Дина зажгла свет, и на тетради сложные оранжевые отблески, и я кажусь себе скрытым, забытым, где-то в углу. Мир стал беднее, осиротел, стал каким-то тщедушным и хрупким, и шум улицы кажется совсем тихим. Куда же деться вечером, отсижусь здесь, авось Ангел не прогонит» ( Неизданное, 215). Ср. со словами, обращенными к Наталье: «…мне жалко Тебя и нашего ангела, жалко прошлого, жалко несбывшихся чаяний, жалко жизни, вне и над которой я пролечу без Тебя, как ледяной ангел, а Ты, что будет Твоя жизнь без меня?» ( Неизданное, 193).
[Закрыть].
Таким образом, личное местоимение «Ты», да еще и написанное с большой буквы, обладает в текстах Поплавского особым статусом: с одной стороны, оно вроде бы отсылает ко вполне конкретному человеку, которым может быть как сам Борис (если это обращение к себе), так и любая из его возлюбленных; с другой, стремится оторваться от денотата и стать автореференциальным знаком, указывающим на себя самого. Разрыв референциальной связи ощущается поэтом как освобождение от земной любви и как освобождение от «грязи литературы», то есть от тех двух соблазнов, которые мешают достичь мистической иллюминации. Седьмого декабря 1932 года Поплавский пишет в дневнике, размышляя о своих отношениях со Столяровой:
Никогда я так не освобождался от Тебя, и никогда я так со стороны свободно не мог отнестись ко всему нашему. И никогда также с такой яркостью и дикой силой не снилась мне другая жизнь, чистая, как стекло, яркая, как лед на солнце, который, не тая, сияет. Умыться на холоде от грязи литературы, вступить всеми четырьмя ногами в нищету и в науку ( Неизданное, 193).
Свобода понимается поэтом прежде всего как свобода от «ты», и неважно, кто скрывается за этим личным местоимением – Наталья или, скажем, Дина. Чистая жизнь, которая снится ему зимой, как бы аккумулирует в себе качества зимы (холод льда) и качества лета (яркость солнца); это та форма бытия, которая есть вечный переход от смерти (зима) к жизни (лето), та вечная весна, которая манифестирует себя в виде «необъяснимого золотого движения». Человек, отдавшийся этому движению, ушедший в «темную синеву», забывает не только о другом, о «ты», но и о себе, о «я», и в этом состоянии амнезии больше не нуждается в слове, в литературе:
Молчит весна. Все ясно мне без слова,
Как больно мне, как мне легко дышать.
Я снова здесь. Мне в мире больно снова,
Я ничему не в силах помешать.
Шумит прибой на телеграфной сети
И пена бьет, на улицу спеша,
И дивно молод первозданный ветер —
Не помнит ни о чемего душа.
Покрылось небо темной синевою,
Клубясь, на солнце облако нашло
И, окружась полоской огневою,
Скользнуло прочь в небесное стекло.
В необъяснимом золотом движеньи,
С смиреньем дивным поручась судьбе,
Себя не видяв легком отраженьи,
В уничижении, не плача о себе,
Ложусь на теплый вереск, забывая
О том, как долго мучился, любя.
Глаза, на солнце греясь, закрываю
И снова навсегда люблю Тебя.
(Над солнечною музыкой воды… // Сочинения, 158–159; курсив мой. – Д. Т.).
«Люблю Тебя» означает, по-видимому, ту форму любви, которая адекватна другой, чистой жизни, где не видишь себя, где ни о чем не помнишь, но где парадоксальным образом все становится ясно без слов. Здесь, как и в цитированном выше стихотворении «Солнце нисходит, еще так жарко…», закрытые глаза символизируют отказ от внешнего зрения в пользу зрения внутреннего, тайновидения. По свидетельству Николая Татищева, Поплавский незадолго до смерти вплотную приблизился к реализации своей сверхидеи – «умыться от грязи литературы» и вступить в нищету и в науку, под которой надо понимать, скорее всего, любимые им философию и эзотерику:
Пора совсем отказаться от писания стихов, да и эту музыку надо преодолеть. Почему? Потому что это все прелести (в богословском смысле). Музыка – прелесть [168]168
Все-таки, наверное, здесь имеется в виду «образ» музыки, а не ее дух.
[Закрыть]. Стихи – прелесть. Книги – прелесть. За месяц до смерти (стоя, облокотившись о книжный шкаф и покоя на книгах руку): «Знаешь, все эти наши книги – ни к чему, я от своих хочу освободиться, ищу кому бы подарить. Не нужно, ничего не нужно. И читать не хочется».Он уже начинал достигать положительных результатов своей многолетней упорной аскетической борьбой, как будто одолел соблазны. Но как он смертельно устал: «Много знаю. А сердце жаждет смерти» – запись на обложке одной тетради. И жизни тоже жаждало это сердце, упорно сопротивлявшееся жизни.
Музыка преодолена. Последние стихи сжаты, обнажены, голы, без декораций словесных и музыкальных. Он уже не пишет стихов, еще пишет прозу (возмущение, протест еще заставляют его писать). Но он уже близок к тому, чтобы и от этого освободиться. Нищим должен предстать человек перед Христом ( Неизданное,236).
Но что делать, если и «Бог не принимает», если отказ от творчества оборачивается «постоянным ужасом, беспричинной тоской, черной скукой» [169]169
«La terreur persistante, l'angoisse sans cause, le noir ennui („постоянный ужас, беспричинная тоска, черная скука“ (фр.). – Д. Т.), три бедствия аскетической пустыни и три спасения. Лицом к судьбе, льдом о ее стальную поверхность, так и должно быть et c'est l'existant qui hurle la mort („тот, кто существует, вопиет о смерти“ (фр.). – Д. Т.), мертвое ожидание жизни.
Старые тетради. Дописывай и ликвидируй. Доберусь ли до логики?
Шаршун утешает. Когда все закрывается, все двери, жизнь сдавленно сосредоточивается в Боге, но если и Бог не принимает?
Сны. Золотые паруса над черным кораблем. Лунные ужасы. Кусок желатина, превращающийся в женщину. Огромный горизонт раскаленных астральных снов за и вокруг жизни. Физическая жажда смерти» ( Неизданное, 114).
[Закрыть]? Тогда остается лишь желать смерти, и вряд ли она будет такой же прекрасной, как в стихотворении «Мистическое рондо II»:
О прекрасной смерти в час победы,
В час венчанья,
О венчанье с солнцем мертвой Эды,
О молчанье.
И насквозь был виден замок снежный
В сердце лета
И огромный пляж на побережье
Леты…
( Сочинения, 65).
Глава 2
«РУКОПИСНЫЙ БЛУД»:
Дневниковый дискурс Поплавского
В 1938 году в Париже вышли подготовленные Николаем Татищевым отрывки из дневников Бориса Поплавского [170]170
Поплавский Б.Из дневников. 1928–1935. Париж, 1938.
[Закрыть]. На публикацию откликнулся Бердяев, напечатавший в «Современных записках» статью «По поводу „Дневников“ Б. Поплавского». Не сомневаясь в «надрывной искренности» поэта, Бердяев тем не менее указывает на то, что дневник «поражает отсутствием простоты и прямоты. Нет ни одного прямого, не изломанного движения. Все время играется роль» [171]171
Бердяев Н. А.По поводу «Дневников» Б. Поплавского // Современные записки. 1939. № 68; цит. по: Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. С. 150.
[Закрыть]. Стремясь избежать противоречия, философ предлагает различать две искренности: одна выражает целостность личности и есть правдивость; другая выражает раздвоение и раздробление личности и поэтому может производить впечатление лживости. Второй тип искренности Бердяев называет «правдивой лживостью» и считает характерной особенностью дневников Поплавского.
Понятно, однако, что граница между правдивой лживостью и собственно лживостью оказывается слишком размытой. Бердяев, правда, старается не обращать на это внимания и пишет в своей рецензии: «Некоторые, прочитавшие „Дневник“, передали мне свое впечатление, что это выдумка, что никакого молитвенного опыта не было. Я хочу верить, что был такой опыт. Впечатление полной искренности производят слова о „молитве впустую“» [172]172
Там же. С. 153.
[Закрыть]. Но как «полная искренность» согласуется со словами философа о том, что Поплавский «все время играет роль»? Означает ли это, что в тех фрагментах, где поэт пишет о своем медитативном, молитвенном опыте, он все-таки роль не играет и честен как с собой, так и с другими? Но почему тогда эти «другие», за исключением Бердяева, в его искренность не верят?
Показательно мнение Георгия Адамовича, не скрывшего в своих «Комментариях» недоумения по поводу самой дневниковой формы, в которую облечены религиозные переживания поэта:
Дневники.
Дневник Поплавского, например.
«Боже, Боже, не оставляй меня. Боже, дай мне силы…»
Постоянное мое недоумение. Как можно так писать? Если это действительно обращение к Богу, зачем бумага, чернила, слова, – будто прошение министру? Если это молитва, как не вывалилось перо из рук? Если же для того, чтобы когда-нибудь прочли люди, как хватило литературного бесстыдства?
Не осуждаю, а недоумеваю – потому что у Поплавского бесстыдства не было. Да ведь и не он один в таком духе писал. На днях прочел то же самое у Мориака. Не понимаю, и только! Не могу представить себе состояние, которое оправдывало бы переписку с Богом. Отчего тогда не пойти бы и до конца, не наклеить марки, не опустить в почтовый ящик? [173]173
Адамович Г. В.Собр. соч. «Комментарии». СПб.: Алетейя, 2000. С. 39. Впервые опубликовано: Новоселье. 1946. № 29–30.
[Закрыть]
Адамович не верит в то, что Поплавский пишет дневник для других, это было бы бесстыдством; но при этом не понимает, как можно вербализировать то, что не поддается вербализации, – контакт с Богом. Если бы такое «прошение» Богу было включено в ткань художественного произведения, то его появление там было бы оправданно, поскольку воспринималось бы в общей фикциональной перспективе как прием, поддерживающий нарративную дистанцию между повествователем, который, в случае повествования от первого лица, выступает в роли эксплицитного автора, и имплицитным или подразумеваемым автором. В дневнике же, где в принципе позиции основных повествовательных инстанций – реального автора, имплицитного автора и нарратора – должны совпадать, обращение к Богу кажется Адамовичу настолько искусственным, что он не может понять, искренен Поплавский или играет. Другими словами, представления Адамовича о Поплавском как о реальном авторе, который не обладал литературным бесстыдством, входят в противоречие с тем имплицитным «образом автора», который создается им как читателем в процессе чтения дневников. Дневники оказываются слишком «литературными», чтобы восприниматься как «человеческий документ».
В то же время романы Поплавского воспринимались современниками как чрезвычайно автобиографические: по словам того же Адамовича,
то, что Поплавский в разговоре называл романом, – его «Аполлон Безобразов», – было смесью личных признаний с заметками о других людях, без логической связи, без стремления к композиционной последовательности. <…> По-видимому, «современность» Поплавского, его характерность для наших лет отчасти в том и сказывалась, что он стремился к разрушению форм и полной грудью дышал лишь тогда, когда грань между искусством и личным документом, между литературой и дневником начинала стираться [174]174
Адамович Г. В.Одиночество и свобода. М.: Республика, 1996. С. 98–99.
[Закрыть].
Не случайно возлюбленная Поплавского Наталья Столярова, которая узнала себя в образе Тани из романа «Домой с небес», в подробностях рассказала, какая судьба в реальной жизни ждала персонажей этого художественного произведения ( Неизданное, 78–79).
В работах современных исследователей правомерность подобного смешения реального и фикционального подвергается, впрочем, сомнению: так, Ирина Каспэ разбирает в своей работе, посвященной нарратологическому анализу дилогии, приемы [175]175
Это насыщенность текста метафорами «театра», когда персонажи оказываются то актерами, то зрителями; пристрастие рассказчика к скрытым цитатам и неявным аллюзиям; использование эпиграфов на французском языке; стилистическое «опрощение» (речь идет, видимо, о сниженной лексике); пренебрежение лингвистическими нормами, которое современники принимали за элементарную неграмотность.
[Закрыть], с помощью которых автор подчеркивает «искусственность» романной реальности, и приходит к следующему выводу:
…акцентированная «антилитературность» литературного текста <…> позволяет не смешивать романы и личные дневники: дневники Поплавского, в отличие от «дилогии», лишены модальности вымысла и, следовательно, не требуют усиленного преодоления границ между «фактом» и «фикцией», «буквальностью» и «литературой» [176]176
Каспэ И.Ориентация на пересеченной местности: Странная проза Бориса Поплавского // Новое литературное обозрение. 2001. № 47. С. 202.
[Закрыть].
Если с выводом об «антилитературности литературного текста» в целом можно согласиться, то не слишком ли однозначно утверждение, что дневники «лишены модальности вымысла»? Попробуем внимательнее прочесть дневниковые записи поэта.
Другу поэта Николаю Татищеву удалось найти точную формулировку для того, чтобы выразить ту двойственность позиции Поплавского, которая свойственна его отношению к письму вообще, независимо от конечного продукта – дневника или же художественного произведения:
«Поплавский – прежде всего литератор…» – было сказано о нем. Может быть, может быть… так как все то, что писал он, – почти дневник. Но дневник все-таки для себя – без прикрас и даже, по свойственной ему диалектической манере, утрированный. Дневник, обнажающий автора, чуть-чуть садистский. «Зачем такой дневник, Борис?» (давно). – «Чтобы не впасть в соблазн всегда записывать свою „хорошую“, „прекрасную“ личность, pour pouvoir contempler toute ma laideur» [177]177
Чтобы иметь возможность созерцать все свое безобразие (фр.).
[Закрыть]( Неизданное, 234–236).
Если Поплавский пишет роман, то этот роман получается почти как дневник, но именно почти, поскольку автобиографические элементы в тексте «компрометируются» общей модальностью вымысла. Если же он пишет дневник, то это почтироман, дневник утрированный, где искренность доведена до такого градуса, что читателю кажется лживой. Эту утрированность современники поэта и воспринимали как литературность.
О предельной искренности поэт говорит так: «Не пиши систематически, пиши животно, салом, калом, спермой, самим мазаньем тела по жизни, хромотой и скачками пробужденья, оцепененья свободы, своей чудовищности-чудесности…» ( Неизданное, 201). Поплавский называет это «писать по-розановски», то есть без стиля, «наивно-педантично», «искать скорее приблизительного, чем точного, животно-народным, смешным языком <…>» ( Неизданное, 109).
С другой стороны, ему кажется важным сохранять по отношению к тексту позицию наблюдателя, того, кто пишет дневник как почтироман, а роман как почти дневник. В записи 1935 года, незадолго до смерти, Поплавский предостерегает против прямолинейного «автобиографического» прочтения его романов:
Персонажи моих двух романов, все до одного, выдуманы мною, но я искренно переживал их несходство и их борьбу, взял ли их из жизни, скопировал, развил, раздул до чудовищности? Нет, я нашел их в себе готовыми, ибо они суть множественные личности мои, и их борьба – борьба в моем сердце жалости и строгости, любви к жизни и любви к смерти, все они – я, но кто же я подлинный? Я посреди них – никто, ничто, поле, на котором они борются, зритель. Зритель еще и потому, что из тьмы моей души все они и многие другие выступили навстречу людям, меня любившим ( Неизданное, 115–116).
Поплавский не хочет, чтобы его романы читались как дневник, ибо авторское «я» в романе стирается, превращается в имперсонального зрителя, примеривающего на себя то маску эксплицитного автора (Васеньки в «Аполлоне Безобразове»), то безличного нарратора в «Домой с небес», то кого-нибудь из персонажей, например, Терезы, чей дневник включен в ткань повествования в первом романе дилогии, или же Безобразова, произносящего монолог от первого лица. Он зритель, наблюдающий, как те реальные люди, которых он впустил в себя, превращаются во «тьме его души» в его собственные множественные «я»; затем эти двойники автора, покидая его душу, выступают «навстречу» тем людям, которыми они когда-то являлись. Несомненно, что прототипом Тани была Столярова, но Таня как романный персонаж является не столько Столяровой, сколько самим Поплавским, впустившим ее в себя и превратившим ее в своего двойника.
Философское обоснование подобной позиции Поплавский находит в немецком идеализме, которому, по его мнению, присуща особая музыкальность, основанная на приятии «тайной власти целого над частями»:
Что, в сущности, личность с точки зрения идеализма? Личность есть сама сущность мира, или абсолютно общая его основа, однако явленная в самом большом противоречии с самой собою, ибо в личности основа наиболее [нрзб.]. Следовательно, праведность личности заключается в максимальном приведении себя, как внешнее, в гармонию с собою, как сущность, т. е. de facto имперсонализация, деперсонализация, отрицание себя как личности, что и реализуется в холодной имперсональной зрительной позиции ученого. Ибо если личность есть самосознающий абсолют, момент личности в ней чисто служебен и несущественен. В существенном же, т. е. в смысле своей субстанциальности, она есть сама Абсолют ( Неизданное, 121) [178]178
О негативных коннотациях понятия имперсонализации см. главу «„Злой курильщик“: Поплавский и Стефан Малларме».
[Закрыть].
Фиксируя в дневниках трудности, связанные с порождением текста – «белый лист наводит на меня какое-то оцепенение» ( Неизданное, 163), – Поплавский указывает на то, что замысел писателя может не совпадать с конечным результатом. Так, сознательное усилие по производству текста провоцирует «странную, внезапную усталость, отвращение, раздражение, истому белой бумаги»; тогда «рука сама собою рисует бесконечные квадраты, параллельные линии, профили, буквы, и ни с места повествование, как будто не о чем писать». Напротив, растрата сил, переутомление может обернуться «сказочным, болезненным, стеклянным избытком сил среди болезненно-отчетливых утренних домов и деревьев, целые книги во мгновенье ока раскрываются, проносятся перед глазами, но не следует и пытаться записывать: мертвая, каменная усталость без перехода сожмет голову, и часто я засыпал лицом на тетради, где значились лишь две-три совершенно бессмысленные фразы» ( Неизданное, 116). Несоответствие между моментом озарения, ускользающим от длительности и потому трудноуловимым, и актом вербализации этого озарения, растянутым во времени, обрекает на неудачу попытку зафиксировать те целые книги, которые в мгновенье окараскрываются внутреннему взору поэта. Он успевает записать лишь несколько фраз, которые только на первый взгляд кажутся бессмысленными, а на деле несут на себе отпечаток сверхсмысла, постигаемого, пользуясь терминологией Поплавского, в акте «чистой имперсональной интуиции» [179]179
Следует отличать, по моему мнению, это «имперсональное» письмо, в котором «автор умирает», от автоматического письма сюрреалистов.
[Закрыть]( Неизданное, 122).
Не стоит поэтому бояться писать бессмысленно, непонятно, и это осознает сам поэт, когда признается в том, что несвободен от страха публики и критики:
Почему-то я пишу так скучно, так нравоучительно, монотонно, так словесно, не потому ли, что не смею писать непонятно, я не свободен от страха публики и даже критики, потому что я недостаточно обречен самому себе, недостаточно нагл, но и смиренен, чтобы ходить голым без […] (слово пропущено публикатором. – Д. Т.), обмазанный слезами и калом, как библейские авантюристы, мою рабскую литературу мне до того стыдно перечитывать, что тяжелое как сон недоуменье сковывает руки. Monstre libère-toi еп écrivant, non café crème [180]180
Чудовище, освободи себя в процессе письма, нет, я предпочитаю кофе со сливками (фр.). О «билингвизме» Поплавского см.: Beaujour Е. К.Alien Tongues. Bilingual Russian Writers of the «First» Emigration. Ithaca, London: Cornell University press, 1989. P. 140–143.
[Закрыть]( Неизданное, 202–204).
Проблема перечитывания вообще неоднократно поднимается в дневниках. С одной стороны, перечитывание может спровоцировать глубокий мистический кризис, ведущий к просветлению и личному контакту с Богом. Так, за несколько недель до смерти Поплавский записывает по-французски:
Hier grande crise mystique, débutée par une lourde lecture demiconsciente de mes cahiers sacrifiés par le cataclisme qui avance. Somnolence, méditation noire. Suffocation de l′abondance. Monde mystique soudain visible à grand renfort de figures symboliques. Joie énоrmе de rapport personnel avec Dieu. Larmes. Grand rassemblement des amis astraux. Mon Dieu fais-moi travailler. Grande difficulté de réadaptation à la гéаlité [181]181
«Вчера испытал глубокий мистический кризис, начавшийся с тяжелого, полусознательного чтения моих записей, принесенных в жертву надвигающимся катаклизмам. Дремота, мрачная медитация. И вдруг дух захватывает от поразительного изобилия, мистический мир со множеством символических фигур предстает передо мной. Огромная радость от личного общения с Богом. Великий сбор астральных друзей. Боже мой, заставь меня трудиться. Как труден возврат в действительность». Пер. С. Зенкина.
[Закрыть](Неизданное, 118).
С другой стороны, перечитывание выступает необходимым элементом общей стратегии перевода дневников из плана реального в план фикциональный, стратегии, направленной, как ни парадоксально, на то, чтобы убедить подразумеваемого читателя в документальной достоверности текста. Например, в августе 1933 года Поплавский записывает: «Перечитывал сегодня за закрытыми ставнями. Много моего все-таки здесь, но слишком все невнимательно написано, но что это такое? Дневник для читателя, но для этого надо быть знаменитым» ( Неизданное, 111). Выше я говорил, что Поплавский не хочет, чтобы его романы читались как дневник; данная запись свидетельствует вроде бы о том, что он не хочет, чтобы его дневник читался как роман, предназначенный для читателя. Спустя два года он заносит в дневник: «Pages de journal [182]182
Страницы из дневника (фр.).
[Закрыть]– это звучит гордо для писателей знаменитых, обнаглевших от резонанса. А для нас это звучит издевательски-мучительно. Кто знает, какую храбрость одинокую надо еще иметь, чтобы еще писать, писать, писать без ответа и складывать перед порогом на разнос ветру» ( Неизданное, 115). Продолжая, на первый взгляд, мысль, начатую двумя годами раньше, поэт заканчивает ее несколько противоречивым образом: не является ли писание без ответа формой ожидания ответа от тех, кому ветер случайно принесет сложенные перед порогом листы? В данной перспективе запись в дневнике коррелирует с известным высказыванием Поплавского об искусстве:
Не для себя и не для публики пишут. Пишут для друзей. Искусство есть частное письмо, посылаемое наудачу неведомым друзьям, и как бы протест против разлуки любящих в пространстве и во времени (Среди сомнений и очевидностей // Неизданное, 285).
Получается, что дневник тоже есть частное письмо, посылаемое наугад, а его автор нуждается в том, кто его прочтет, то есть в читателе, но не в реальном, а в имплицитном читателе. Американский критик Уэйн Бут отмечал, что автор «конструирует своего читателя, подобно тому как конструирует свое второе „я“, и наиболее успешным чтением является такое, при котором двум сконструированным „я“, авторскому и читательскому, удается прийти к согласию» [183]183
См.: Booth W. С.The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago press, 1961; цит. по: Компаньон А.Демон теории. Литература и здравый смысл. Пер. С. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001. С. 177.
[Закрыть]. Как поясняет А. Компаньон, повествовательная инстанция имплицитного читателя – это «текстуальная конструкция, воспринимаемая реальным читателем как принудительное правило; это та роль, которую отводят реальному читателю текстуальные инструкции» [184]184
Там же. С. 177.
[Закрыть].
Отметки в дневнике о перечитывании и о необходимости уничтожать то, что перечитано, делаются, по сути, не для себя, а для имплицитного читателя, который, собственно говоря, и создается этими текстуальными инструкциями: этот абстрактный читатель должен «заставить» возможного реального читателя поверить в ту борьбу, которую автор дневников ведет со своим собственным текстом и прежде всего с тем, что в этих текстах является литературой, вымыслом. Поплавский пишет: «Старые тетради. Дописывай и ликвидируй» ( Неизданное, 114). Если у автора есть стремление ликвидировать написанное, то зачем тогда дописыватьто, что подлежит уничтожению? Другая запись: «Дописываю… дочитываю, прибираю, убираю все…» ( Неизданное, 117) [185]185
В таких автометатекетовых записях автореференциальность является эксплицитной; см.: Ораич Толич Д.Автореференциальность как форма метатекстуальности // Автоинтерпретация / Под ред. А. Б. Муратова и Л. А. Иезуитовой. СПб: Изд-во СПбГУ, 1998. С. 188–189.
[Закрыть]. В тетради 1932 года приписано: «Тетрадь оранжевого цвета с черным корешком. Ликвидировано 18.6.35. Окончательно, кроме дневника» ( Неизданное,173). Далее размышления о христианстве, теодицее, Каббале, стоицизме перемежаются с личными переживаниями автора по поводу его отношений с Диной Шрайбман и Натальей Столяровой. На полях одной страницы Поплавский помечает, как будто пытаясь убедить невидимого собеседника или читателя: «Все дневник. Дневник» ( Неизданное, 177). Он подчеркивает тем самым, что оставлено только то, что является дневником для себя, а то, что было дневником для читателя, ликвидировано. На самом же деле, можно предположить, что ликвидации как таковой и не было; перечитывание не превращается в переписывание, поскольку автору дневников важно оставить в неприкосновенности весь объем текста, представив его в то же время читателю в виде продукта радикальной деконструкции.
Даже в своем так называемом завещании, написанном в 1932 году, Поплавский не отступает от выбранной стратегии: поэт просит собрать все его тетради и спрятать их куда-нибудь. Затем между строк он вписывает: «Уничтожив по своему усмотрению слишком личные записи – это настоящий любимый результат моей жизни» ( Неизданное, 67). Понятно, что лучший способ привлечь внимание читателя к наиболее ценным, по мнению автора, материалам – это попросить их уничтожить. Такие материалы, как правило, и не уничтожаются. Поплавский об этом знает. Во-вторых, работа по селекции материалов поручается опять же читателю, который должен решить, какие записи «слишком личные», а какие нет.
Если расценивать этот текст как настоящее завещание, то Дина Шрайбман и отец поэта, к которым обращается Поплавский, предстают теми реальными читателями, которые находятся вне текста. Я полагаю, однако, что данный текст нужно воспринимать как текст художественный, являющийся симулякром завещания. Завещание, документ, обладающий перформативной силой, написано Поплавским так, как будто он сам не верит в то, что оно будет когда-нибудь прочитано и исполнено. Дина и Юлиан Поплавский выступают в нем в роли персонажей, тех эксплицитныхчитателей, которые фиксируются в тексте в виде обращения к ним эксплицитного автора. В то же время надо отметить, что в завещании подлежащие прочтению дневниковые записи подаются Поплавским как закодированное сообщение, которое необходимо дешифровать, декодировать. В данной перспективе Дина и отец расцениваются поэтом как идеальные реципиенты, способные понимать все авторские стратегии, все коннотации его сообщения. Другими словами, они выполняют функцию читателей имплицитных, которые необязательно идентичны читателям реальным; так, известно, что отец Поплавского, хотя и относился к занятиям сына с симпатией, «совсем не знал его стихов, никогда ни одной строчки не прочел» [186]186
Варшавский В.Незамеченное поколение. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956; цит. по: Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. С. 35.
[Закрыть]. Можно сказать, что Поплавский сам создает своего читателя, причем авторские комментарии на полях дневника определяют вектор дешифровки и действуют, таким образом, в рамках текстовой стратегии, направленной на то, чтобы спровоцировать этого «сконструированного» читателя на создание того образа автора дневников, который выгоден этому автору. Иначе говоря, реальный автор Поплавский предлагает имплицитным читателям Дине и Юлиану некую модель чтения, в соответствии с которой реальными читателями Диной и Юлианом должен осуществляться реальный акт чтения текста [187]187
Метадискурсивные пассажи работают у Поплавского так же, как и в дневниках Марии Башкирцевой; как отмечает Ф. Лежен, «Мария предвосхищает восприятие своего дневника, не только используя маленькие стратегические приемы, обезоруживающие недоверчивых и раздраженных, но и перечитывая свой текст и предлагая теоретические размышления о самом акте „чтения дневника“» («Я» Марии: рецепция дневника Марии Башкирцевой (1887–1899) // Автобиографическая практика в России и во Франции / Под ред. К. Вьолле и Е. Гречаной. М.: ИМЛИ РАН, 2006. С. 169).
Поплавский упоминает Башкирцеву в письме к Зданевичу от 4 февраля 1928 г.: «Все думаю о том, что литература должна быть, в сущности, под едва заметным прикрытием – фактом жизни, так что не принятая миром [должна] остаться необыкновенно трогательным отклонением жизни вроде дневников (если бы Ты писал дневник, это было бы что[-то] вроде Марии Башкирцевой в поэзии, то есть величественное и милое бесконечно). А жизнь делать так, чтобы она, не давши счастья, была хоть явлением литературы, то есть материалом осуществления всяких милых выдумок» ( Поплавский Б.Покушение с негодными средствами. С. 104).
[Закрыть]. Целью данной сложной операции является подмена внетекстовой инстанции реального автора внутритекстовой инстанцией автора имплицитного: Дина и Юлиан должны не думать в процессе чтения о Поплавском как о реальном авторе, а «реконструировать» его, следуя его же собственным указаниям, как некоего идеального отправителя сообщения [188]188
Как напоминает А. Компаньон, У. Бут, введший понятие имплицитного автора в научный обиход, утверждал, что «автор никогда вполне не устраняется из своего произведения, но всякий раз оставляет там своего заместителя, присматривать в свое отсутствие, – это и есть имплицитный автор» ( Компаньон А.Демон теории. С. 177).
[Закрыть].
Правда, самого реального акта чтения все-таки не происходит, текст остается непрочитанным, поскольку, как я предположил выше, и не мыслился объектом чтения. Таким образом, интенция Поплавского, направленная на то, чтобы создать нужный ему образ автора, блокируется в данном случае из-за нарушения самого процесса коммуникации.
Еще одним элементом данной стратегии является использование Поплавским тех возможностей, которые предоставляют повествовательные инстанции, непосредственно зафиксированные в тексте. Речь идет о тех случаях, когда автор дневника обращается к самому себе, как, например, в записи 1933 года: «Погоди, Ты еще не готов писать. Вечно живу в ожидании какой-то радикальной перемены <…>» ( Неизданное, 111). Автор, который выступает на дискурсивном уровне в роли нарратора, обращает свою речь внутреннему адресату, наррататору, который совпадает здесь с нарратором. В том случае, если дневник составляет основу художественного произведения, как, например, в «Тошноте» Сартра, где анонимные издатели публикуют записи Антуана Рокантена, нарратор дневника выступает в роли эксплицитного автора. Реальный автор – Сартр – противопоставляется, таким образом, как анонимному повествователю романа в целом, так и эксплицитному автору дневников. В случае дневников Поплавского ситуация сложнее: во-первых, нарратор здесь – это сам Поплавский, который не принадлежит в принципе миру художественного вымысла и не является поэтому «фигурой в тексте». Во-вторых, наррататор – это опять же Поплавский, выступающий в роли реального автора, пишущего дневник. Поплавский-нарратор сообщает Поплавскому-реальному автору, что тот еще не готов писать. Подобного рода прием, эксплицирующий внутренний конфликт между различными сторонами авторского «я», ориентирован прежде всего на имплицитного читателя. Вспомним высказывание Поплавского о том, что персонажи его романов суть множественные личности его, среди которых он сам – лишь холодный имперсональный зритель. Так имплицитный читатель подводится к мысли, что автор, будь это автор романов или дневников, не создает вымышленный мир литературы, а лишь реализует в тексте свои многочисленные «я». «Наслаждаюсь равнодушием к литературе», – записывает Поплавский в 1932 году ( Неизданное, 107).