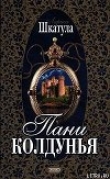Текст книги "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе"
Автор книги: Дмитрий Токарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
Но кто такой этот имплицитный читатель, к которому неявно обращается Поплавский? Рассчитывал ли он, что когда-нибудь его дневник кто-нибудь прочтет? Если да, то это было бы – тут можно согласиться с Адамовичем – литературным бесстыдством. Но бесстыдства этого у Поплавского, по мнению Адамовича, не было. Возможно, ответ кроется в том, как сам поэт определил главную тему своей жизни; по свидетельству Татищева, «главную, единственную тему своей жизни Поплавский называл „роман с Богом“» [189]189
Татищев Н.О Поплавском // Круг. Париж, 1938. № 3; цит. по: Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. С. 92.
[Закрыть]. Эта тема доминирует и в романах, и в поэзии, и в дневниках. Все они являются фрагментами той «переписки с Богом», которую Поплавский вел на протяжении своей жизни. Бог и есть тот идеальный реципиент, идеальный имплицитный читатель, который способен воспринимать различные стратегии текста. Те приемы, о которых говорилось выше, направлены как раз на то, чтобы предложить ему те модели прочтения, которые позволят ему удостовериться в искренности автора текста. В терминологии Бердяева, данные приемы, производящие впечатление «правдивой лживости», направлены парадоксальным образом на то, чтобы убедить идеального адресата в абсолютной правдивостиавтора. Особенность этой переписки в том, что она является односторонней; имплицитный читатель не сообщает ни о том, дошло ли до него послание, ни о том, совпал ли в его восприятии образ имплицитного автора с образом автора реального. Поплавский понимал это. В 1932 году он записал, вновь обращаясь к себе:
О чем же Ты будешь искренно, смешно и бесформенно писать? О своих поисках Иисуса. О дружбе с Иисусом, о нищете, которая нужна, чтобы Его принять. Ибо только нищий, не живущий ничем в себе, получает жизнь в Нем или, вернее, не копя жизнь в себе, может Его принять ( Неизданное, 104).
Глава 3
ОКОЛО ИСТОРИИ:
Поплавский в идеологическом и политическом контексте
В пятом номере «Чисел» (1931) была опубликована статья Поплавского «Около живописи»; в ней он попытался сформулировать свое видение того, зачем и как художник рисует картину. В самом начале статьи Поплавский вопрошает: «Что осталось от мертвых миров?» – и отвечает:
Египетская литература темна и условна, египетская религия погибла. Но египетская скульптура жива, и в ней последний раз жив Египет, даже губы у сидящего писца еще выпучены от внимания. А где фараон и завоевания? ( Неизданное,328).
В этой цитате отразилась общая установка поэта на противопоставление политической и социальной жизни и художественного творчества. Только творчество обладает бессмертием, в то время как политика и идеология подвержены энтропии. Бессмысленно поэтому принимать активное участие в политической деятельности, однако и полное игнорирование политики было бы ошибкой, тем более в Европе в период между двумя войнами: наиболее комфортной позицией для художника была бы та, которую можно определить как позицию «около политики», «около Истории». Подобная позиция позволяет противостоять тому, что Поплавский называет «политиканским террором эмигрантщины», и в то же время участвовать в общественной жизни, которая есть форма «„частного“ дела, форма дружбы и товарищества между человеком и его знакомыми» (Вокруг «Чисел» (Числа. 1934. № 10) // Неизданное, 299).
Надо сказать, что политические взгляды, которых придерживался Поплавский, оставались практически неизменными на протяжении его жизни: прежде всего это касается его отношения к большевизму, остававшегося негативным. Еще в 1917 году четырнадцатилетний Борис пишет в стихотворении «Азбука» (хотя, возможно, и не без иронии): «Хамоправие в России / Утвердилось навсегда, / И спасет ее от смерти / Только власть Каледина» [190]190
Поплавский Б.Собр. соч. Т. 1. С. 408.
[Закрыть].
Хотя в первые годы своего творческого пути начинающий поэт находился под влиянием Маяковского и других представителей русского футуризма, Поплавского привлекали в новейшей поэзии не ее политическая «левая» ангажированность, а взрывная образность и новаторская стихотворная техника.
Переезд в Париж не оказал существенного влияния на идеологические воззрения Поплавского: несмотря на участие в «левых» объединениях «Палата поэтов» и «Через» и дружбу с Сергеем Ромовым, Ильей Зданевичем и Сергеем Шаршуном, Поплавский интересовался проблемами скорее художественного порядка, нежели политического. Участие в «левых» группах давало ему возможность быть в курсе не только советской литературы, но и французской авангардной поэзии – дадаизма и сюрреализма. Критическое отношение к «густо-правым», высказанное в письме к Брониславу Сосинскому ( Неизданное, 247), объясняется, на мой взгляд, следованием в фарватере Зданевича и Ромова, а не искренней неприязнью к «правой» мысли.
В конце 1920-х – начале 1930-х годов поэтическими ориентирами для Поплавского становятся Бодлер и, особенно, Рембо; более того, они функционируют в его текстах в качестве эмблематических фигур, позволяющих более точно определить такие понятия, как свобода, одиночество, тоталитаризм и демократия. В неопубликованной при жизни статье под условным названием «Личность и общество» (1934) [191]191
Отвечая на анкету с тем же названием, помещенную в журнале «Встречи» (1934. № 3), Поплавский рассматривает проблему личной свободы в религиозной перспективе: «Свобода, разрушительница симметрии и небесной благопристойности, есть камень преткновения религиозной литературы, который отвергли строители (ангелы, силы, древнейшие народы и т. д.), но который по возобновлении мира сделается главою угла» ( Неизданное, 306).
[Закрыть]Поплавский говорит о том, что «жизнь Рембо и Бодлера есть откровение индивидуалистической Европы о самой себе» ( Неизданное, 221). Диалектика демократии заключается, по мнению поэта, в том, что свобода необходимым образом связана с «мертвым одиночеством в большом городе и смертью от голоду среди гор запасов». Демократическое устройство, основанное на свободе личности, Поплавский называет второй диалектической ступенью, пришедшей на смену рабству и подавлению, свойственным первобытному обществу: «…общество – племя – коллектив появились бесконечно раньше личности, а не создались из суммы или контракта их, как то наивно думали французские политические романтики <…>» ( Неизданное, 220). Рабство есть прежде всего рабство человека у рода, а религией народов первой диалектической ступени была религия великой Богини, великой Матери. Здесь Поплавский очень близок Бердяеву, который в труде «О назначении человека» (1931) строит свою антропологию на различении понятий индивидуума, который «соотносителен» роду, и личности, которая «предполагает другие личности и сообщество личностей» [192]192
Бердяев Н. А.О назначении человека. М.: Республика, 1993. С. 64.
[Закрыть]. Мистическая власть рода над индивидуумом символизируется фигурой матери-земли, вечного рождающего начала. Это один из любимых образов Бердяева, заимствованный у Иоганна Якоба Бахофена.
По мысли Бердяева, глубина личности открывается только в христианскую эпоху [193]193
«Только христианство возвратило человеку ту духовную свободу, которой человек был лишен, когда находился во власти демонов, духов природы и стихийных сил, как то было в мире дохристианском» ( Бердяев Н. А.Смысл истории. М.: Мысль, 1990. С. 88).
[Закрыть], однако и в греческом, и в римском, и в еврейском мире были попытки «эмансипироваться от власти общества и закона» и «проникнуть в личную совесть» [194]194
Бердяев Н. А.О назначении человека. С. 92.
[Закрыть]. Поплавский также находит истоки свободы личности в греческом и еврейском мире, который противостоит анонимности египетской, вавилонской и германской древности. Общество, где личность не играет никакой роли, обладает «архитектурным единством» ( Неизданное, 219), ему свойственна симметрия, вызывающая «смертную скуку»:
Конечно, – рассуждает Поплавский, – жизнь народа, лишенного свободы и подчиненного сильной «просвещенной» власти, будет более симметрична и организованна, и он многого достигнет, потому что его усилия более собранны и не противоречат одно другому, но другая часть души возражает, что это будет безжизненная официальная архитектурная красота <…> (Личность и общество. Анкета // Неизданное, 305).
Еврейское и греческое общества, напротив, «бесформенны и лишены архитектурного единства» ( Неизданное, 219), но именно эта бесформенность и асимметрия и легли в основу истории и культуры.
Статья Поплавского свидетельствует о внимательном чтении не только «О назначении человека», но и «Смысла истории» (1923), в котором Бердяев подробно останавливается на месте Ренессанса в истории человечества. Гуманистическое сознание Возрождения развязало природные силы человека и в то же время разрушило его связь с духовным центром, говорит философ. На этой почве индивидуализма возникла социалистическая идея, которая питается ужасом от своей «покинутости и предоставленности своей судьбе без всякой помощи, без всякого соединения с другими людьми»; этот ужас побуждает к «принудительному устроению общественной жизни и человеческой судьбы» [195]195
Бердяев Н. А.Смысл истории. С. 132.
[Закрыть].
Поплавский, как бы вторя Бердяеву, пишет о слишком индивидуализированных людях, свобода которых от общества оборачивалась, в частности, безбрачием [196]196
Поплавский обращается здесь к фигуре Сократа, который «был слишком личен и потому развращал юношество, отвращая его от городской традиции, и потому, как правильно понял Ницше, десять раз заслужил смерть как разрушитель греческого единства, что он и понял, предпочтя ее изгнанию, ибо, как всякому в тайне родовому человеку, ужас путешествовать и быть одному был для него пуще смерти, и вообще ни один европеец не может понять, что было для древнего изгнание и почему оно до тюрьмы и галер прямо шло за смертной казнью» ( Неизданное, 221). Л. Сыроватко обращает внимание на то, что Поплавский искажает мысль Ницше о значении смерти Сократа; см.: Сыроватко Л. В.Самоистязание двух видов («новое христианство» Бориса Поплавского) // Русское зарубежье: приглашение к диалогу / Отв. ред. Л. В. Сыроватко. Калининград: Изд-во Калининградского гос. университета, 2004. С. 168–169.
[Закрыть]. Подобная замкнутость на себе, разделенность, клеточность, как ее называет Поплавский, не могла не вызвать противоположной реакции: стремления вернуться в родовое единство, в эпоху доистории, где нет одиночества. Фашизм и коммунизм, которые поэт всегда считал явлениями одного порядка (в статье «О субстанциальности личности» он прямо говорит о «советском фашизме» ( Неизданное, 120)), порождены этим стремлением и возникли в результате «свободного отказа индивидуумов от индивидуальности» ( Неизданное, 222). Однако гибель фашистских и коммунистических государств будет мгновенной, поскольку они «не состоят из личностей и, следственно, подвержены массовому паническому геройству и панической подлости» ( Неизданное, 222). Их ждет та же судьба, что и Вавилон, Ассирию, Египет.
Наступает, кажется, – откликается Поплавский на «Атлантиду – Европу» Мережковского, – абстрактная нечеловеческая эпоха, новая Ассирия, царство огромных масс и плоскостей, беспощадных к личности. И недаром новейшая архитектура так увлекается чисто ассирийской схематичностью и монументальностью. С этой абстрактной точки зрения человек – лишь эфемерная единица, которую легко можно складывать или выводить в расход как угодно (О смерти и жалости в «Числах» // Неизданное, 264).
Можно ли что-то противопоставить этому натиску тоталитарных сил? Ответ на данный вопрос напрямую связан с той трактовкой русской революции, которую поэт дает в некоторых своих статьях и дневниковых записях. Не случайно фактическим продолжением статьи «Личность и общество» стала работа «В поисках собственного достоинства. О личном счастье в эмиграции». Скорее всего, именно она легла в основу выступления Поплавского на заседании «Зеленой лампы» 31 мая 1934 года. Экскурс в социальную историю, предпринятый им в «Личности и обществе», требовал выхода в настоящее и даже в будущее. В своем выступлении поэт выразил глубокое убеждение в том, что Россия погибла из-за того, что «богатые в ней недостаточно умели ценить жизнь и семью и, следственно, не защищали ее» ( Неизданное, 225). Интересно, что Поплавский, заявивший в письме к Иваску, что «всею душою ненавидит деньги и их мораль» ( Неизданное, 245), в другом выступлении на заседании «Зеленой лампы» (23 марта 1934 г.) защищал деньги, указывая, что «русская интеллигенция и русская буржуазия, поддерживавшая из своих средств освободительное движение, работала на свое уничтожение и на уничтожение своих детей, которых она как бы обрекала на заклание» ( Неизданное, 449) [197]197
Наброски выступления опубликованы Е. Менегальдо в «Новом журнале» (2008. № 253. С. 292–293). В частности, там есть такая фраза: «Деньги как живая кровь жизни. Уважение к деньгам как уважение к крови».
[Закрыть]. Противоречия здесь нет, Поплавский рассматривает деньги как бы с двух позиций: с точки зрения индивидуального материального преуспеяния, которое ему, видящему идеал в античном стоицизме и христианской аскезе, представляется разрушительным для личности; и с точки зрения общественной пользы как социальный феномен, противодействующий хаотической анархической стихии тотального отрицания, погубившей Россию [198]198
См. также в «Домой с небес»: «Пускай кухарка поцарствует… Развейся в пространство, исчезни квартира, квартира моя… С их точки зрения, надо было бы: здравствуйте, ваше благородие, вон Добролюбов улицу переходит, дайте ему по шее, дайте покрепче, не опоздайте дать… Стыдились полиции, стыдились денег, семьи, стыдились жить и защищаться… Получается, что были христианами… Слабые железы или христианство… или само христианство – род расслабления генов… Царство Мое не от мира сего… Но почему все-таки не защищать… 50 тысяч офицеров в Москве в октябрьские дни, все по квартирам, а 600 юнкеров на улице… Боялись?.. Нет, не боялись же на фронтах… Ах, чего там за квартиры ратовать… так и просрали по чистоте души. До фашизма не додумались, а лишь до белой мечты с толстовским заветом в кармане, и были побиты, потому что не захотели систематического массового террора в тылу, а лишь хулигански-истерически расстреливали поодиночке, озлобляя и не умея запугать» (313).
[Закрыть]. В одной из дневниковых записей он уподобляет деньги Логосу как всеобщему закону, порядку, на котором основывается мир; в терминологии Поплавского это «живое семя, которое перетекает от положительного богатства к отрицательной бедности» ( Неизданное, 190).
«Капиталистический строй всем надоел, надоел, надоел, и самому себе больше всех», – пишет Поплавский Иваску в 1932 году ( Неизданное, 245). Ошибка как русского имущего класса, спровоцировавшего революцию, так и европейского истеблишмента 1930-х годов состоит в том, что деньги перестали рассматриваться как общественный продукт, вокруг которого «дышит жизнь» ( Неизданное, 190), и превратились в мерило индивидуального успеха. Как замечает Бердяев, который здесь опять же близок Поплавскому, свобода при экономическом либерализме оказывается лживой именно потому, что происходит абсолютизация личной собственности в ущерб собственности общественной и государственной. При этом неограниченная личная собственность ведет к утрате «духовно-личного отношения к миру вещей и материальных ценностей»:
Собственность из реальной, из отношения к реальному миру превращается в фиктивную, в отношение к фиктивному миру. Это и происходит в капиталистическом мире, с его трестами, банками, биржами и пр. В этом мире невозможно уже различить, кто является собственником и чего он является собственником. Все переходит в мир фантазмов, в отвлеченно-бумажное и отвлеченно-цифровое царство [199]199
Бердяев Н. А.О назначении человека. С. 191.
[Закрыть].
Подхватывая мысль Бердяева, Поплавский вопрошает в статье «Среди сомнений и очевидностей»:
Кто в Европе, кроме акционеров, может сказать: «наше метро», «наш Банк де Франс»? «Ничье», «чужое» (один шаг до развратного дьявольского). И разве какая-нибудь кухарка, влюбленная в городового, может сказать: «Наш Иностранный легион дефилирует по бульвару», или: «Наша полиция разогнала манифестацию?» Где же во все этом «наша Европа», которую все же нужно будет кому-то идти защищать, когда «пятилетнему комсомольцу» сделается двадцать лет? ( Неизданное, 288).
Революция является ответом на подобное сведение духовной личности к биологическому, социальному и экономическому индивиду, в котором индивидуальность является симулятивной [200]200
В «Домой с небес» Олег обращается к себе (или, точнее, имперсональный нарратор обращается к Олегу, выдавая свои мысли за мысли персонажа): «Если бы революции не случилось, ты был бы сейчас, в тридцать один год, старый, растраченный, излюбившийся, исписавшийся человек, и ничего не было бы в тебе напряженного, аскетического, электрического, угодного Богу…» (338).
[Закрыть]. Стоит отметить, что Поплавский называет Октябрьскую революцию не переворотом, а именно революцией и признает ее народный характер:
Постепенно выясняется простым приведением в порядок, что вторая революция была-таки народным явлением. Внешне в вопросе о земле и мире, внутренне о чем-то, что понял Блок, и согласным со всем музыкальным строем русской литературы и культуры ( Неизданное, 161–162).
Революция музыкальна по своей природе, поскольку музыка есть «песня о целом и, следственно, персональное в ней „мистически ощущается“, ибо гипертрофия личности есть раздробление, расчленение, глубокое сокрытие „тени целого“» ( Неизданное, 120). Русский большевизм воспользовался музыкой революции для достижения своих целей и создал общество, в котором нет места личности, общество антимузыкальное.
…антимузыкален всякий фашизм, особенно советский, потому что если в демократиях целое принесено в жертву бесчисленным частям, то в советском фашизме части могущественно принесены в жертву целому, но ни целое, ни части не музыкальны в себе, ибо они не диалектичны, а музыкально лишь рождение и гибель частей на фоне целого <…> ( Неизданное, 120–121).
Истоки большевизма Поплавский находит в эпохе Ивана Грозного и в русской общественной мысли XIX века:
Я же считаю большевиков грандиозной болезнью русского духа, но не новой болезнью, а вечной болезнью русской диалектики ценности личности, ибо для меня истинные вдохновители пятилетки не Молотов и Каганович, а ненавистные Розанову Иван Грозный и Писарев с Добролюбовым (Вокруг «Чисел» // Неизданное, 303–304).
К мысли, что большевизм, с одной стороны, порожден русской деспотической властью, а с другой, является деформацией русской мессианской идеи, Поплавский возвращался неоднократно, солидаризируясь тем самым с историософскими концепциями Волошина [201]201
В словах Олега о том, что вся Россия в нем «тоскует» – Россия царей и разбойников, околоточных и чекистов, раскольников и иконописцев, – звучит мысль о циклическом характере русской истории, мысль, нашедшая столь яркое поэтическое воплощение в стихах Волошина из книги «Неопалимая купина» и, в особенности, в стихотворениях «Dmetrius-Imperator» и «Северовосток». У Поплавского: «Но только жесток все-таки русский народ… Татарин коловший, не царь ведь громил жидов и жег раскольников, потому что и царь – народ, народ в короне; громил и жег народ в России всегда, вспарывал животы с удовольствием… Особенно женщинам. Сам знаю, сам татарин, чекист-околоточный, изувер-насильник… Сам был царем, сам царей убивал, сам бабам над головой юбки завязывал и пускал по деревне бегать… сам томился в тюрьмах, спасался в скитах… Убивал докторов, закапывался живым в землю, палил овины, пел с цыганами, писал иконы, и, entre nous, – никакой личности все-таки нет, это все для мелкого удобства, а внутри я, все и всё, то есть нет, не все и не всё, а весь народ и вся Россия во мне тоскует, разговаривает, курит, молится, подхалимствует, ворует губные карандаши <…>» ( Домой с небес, 313). У Волошина: «В этом ветре гнет веков свинцовых: / Русь Малют, Иванов, Годуновых, / Хищников, опричников, стрельцов, / Свежевателей живого мяса, / Чертогона, вихря, свистопляса: / Быль царей и явь большевиков» (Стихотворения и поэмы. СПб.: Наука, 1995. С. 273–274 («Библиотека поэта»)). Стихотворение «Северовосток» было опубликовано во втором номере берлинского журнала «Новая русская книга» за 1923 год. Известно, что в начале этого года Поплавский был в Берлине.
[Закрыть], Бердяева, Федотова. Так, в противоположность, скажем, Ивану Ильину, утверждавшему, что материализм, антихристианство, тоталитарный коммунизм имеют не русское, а западноевропейское происхождение [202]202
Ильин И. А.Русская революция была катастрофой // Русская идея в кругу писателей и мыслителей русского зарубежья: В 2 т. М.: Искусство, 1994. Т. 2. С. 294.
[Закрыть], Поплавский считал большевизм неправильным истолкованием и упрощением русского мистического социализма. Большевизм, наследуя моральному ригоризму Писарева, Добролюбова, Толстого, возник вследствие «глубоко свойственного русским желания свести христианство только к христианской морали» (Человек и его знакомые (Числа. 1933. № 9) // Неизданное, 295).
В чем же смысл русского коммунизма? По мысли Поплавского, в том, чтобы, добившись «позитивного счастья» на земле и построив новую, совершенную Ассирию, показать человечеству внутреннюю противоречивость этой доктрины, уничтожающей личность и культуру ради достижения общественного благоденствия [203]203
См. в «Аполлоне Безобразове»: «Авероэс любил говорить с Зевсом. Обоих интересовали вопросы политики и политической экономии: они, как астрономы, с любопытством следили за падением кабинетов и за ростом кризисов, предсказывая Европе страшную судьбу. Во взглядах они сходились. Это было абсолютное нравственное отрицание и капиталистического, и коммунистического строя» (140).
[Закрыть].
И что другого может сказать христианин большевику, как не то, что сказал Господь Бог Адаму, то есть «пойди и попробуй», и даже принципиально жалко, что в России так слабо получается с материальным благополучием, ибо только когда оно будет повсеместно достигнуто, человек, испробовав его, войдет в окончательную «темную ночь», то есть в мистическую смерть, только через которую и доходит человек до христианства (Человек и его знакомые // Неизданное, 295).
Бердяев различал в истории человечества четыре эпохи, четыре состояния: варварство, культура, цивилизация и религиозное преображение. Социализм, по его мнению, продолжает дело цивилизации, «он есть другой образ той же „буржуазной“ цивилизации, он пытается дальше развивать цивилизацию, не внося в нее нового духа» [204]204
Бердяев Н. А.Смысл истории. С. 171.
[Закрыть]. Когда Поплавский заявляет, что власть рабочих, этих «бедных, замученных Христосиков, несущих на себе всю тяжесть цивилизации» (О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции // Неизданное, 259), неизбежно приведет к гибели культуры и к разрушению храмов, он, в полном согласии с идеей философа, дает понять, что при социализме рабочий отнюдь не освобождается от гнета цивилизации: именно цивилизация уничтожает культуру и религию. Стремление к материальному благополучию, на котором строится цивилизация, имеет оборотной стороной духовное падение, но именно в глубине духовной бездны откроется человеку, как мистически прозревает Поплавский, новая высота, обещающая христианское просветление. Так совершится преосуществление, которому посвящено одноименное стихотворение Волошина, заканчивающееся словами: «Так семя, дабы прорасти, / Должно истлеть… / Истлей, Россия, / И царством духа расцвети!» [205]205
Волошин М.Преосуществление // Волошин М. Стихотворения и поэмы. С. 223.
[Закрыть]. Поплавский мог бы под ними подписаться.
Какова роль эмиграции в эпоху, пронизанную «героической метафизикой саморасточения»? (По поводу… // Неизданное,266). В статье «В поисках собственного достоинства. О личном счастье в эмиграции» Поплавский сравнивает эмигрантов с членами полярной экспедиции, прибывшей на зимовку. Изолированные от мира, утомленные монотонностью общения, они становятся раздражительны и злобны, но при этом нуждаются друг в друге. Интересно, что Поплавский использует тот же образ, когда в дневниках говорит о смерти Европы, «под шум пропеллеров своих полярных экспедиций, под пение тысячи граммофонов, под прекрасные и идиотские улыбки своих королев красоты» [206]206
См. также стихотворение 1930 года «Жалость к Европе», в котором поэт сравнивает судьбу Европы с судьбой Титаника: «А солнце огромное клонится в желтом тумане, / Далеко далеко в предместиях газ запылал. / Европа, Европа-корабль утопал в океане, / А в зале оркестр молитву на трубах играл» ( Сочинения, 82).
[Закрыть]( Неизданное, 96). Но если Европа относится к полярным экспедициям как к приключению, равнозначному конкурсу красоты или музыкальному спектаклю, те, кто отправился на зимовку, воспринимают свое путешествие как аскезу [207]207
Ср. у Бердяева: «Для того чтобы человеческая личность вновь обрела себя, чтобы та христианская работа над человеческим образом, которая составляет существенный момент в судьбе человека во всемирной истории, продолжалась и дальше, для этого необходим возврат, по-новому, к некоторым элементам средневекового аскетизма» (Смысл истории. С. 141).
[Закрыть], как путешествие «на край ночи», и даже граммофон на Северном полюсе звучит по-другому, «расточаясь» в звучании (С точки зрения князя Мышкина (Числа. 1933. № 9) // Неизданное, 297); это трагическая музыка конца, которая «хочет, чтобы каждый такт ее (человек) звучал безумным светом, безумно громко, и переставал звучать, замолкал, улыбаясь, уступал место следующему. Всякое самосохранение антимузыкально, не хотящий расточаться и исчезать – это такт, волящий звучать вечно, и ему так больно, что все проходит, больно от всего, от зари, от весны…» (О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции // Неизданное, 258).
Можно сказать, что такая музыка соответствует тому, что Поплавский в своей классификации музыки обозначил как «вторую» музыку: музыку небытия, «сквозящего сквозь половую оптимистическую песенную стихию» ( Неизданное, 121). Это музыка немецкая, музыка Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана, Вагнера. «Первая» же музыка есть музыка «непроизвольной песни», лирическая, декоративная, орнаментальная; по мнению Поплавского, русская музыка так никогда и не перешла этой стадии. Наконец, «третья» музыка является синтезом тех двух начал, которые трагически разлучены во «второй» музыке, – языческого родового начала, выражающего себя в половой солнечной стихии, которая в свою очередь непосредственно связана со смертью, и христианского духовного начала, подразумевающего аскезу, отшельничество, бессмертие. «Третья» музыка – музыка «воскресшего о Христе Пана», «пан-христианская» ( Неизданное, 121).
Выше говорилось о тех диалектических ступенях, которые проходит человеческое общество – от родового рабства к личной свободе, от коллективизма к индивидуализму. Третью ступень, вряд ли осуществимую, Поплавский определяет как «свободно принятый коммунизм», включающий в себя «сохранение частичного добра, достигнутого уже в двух первых». Бердяев, усмотревший главный дефект мироощущения Поплавского в его имперсонализме [208]208
Бердяев Н. А.По поводу «Дневников» Б. Поплавского. С. 154. См.: Сыроватко Л. В. Тезис и антитезис самопознания: Н. Бердяев в диалоге с Б. Поплавским // Культурный слой. Калининград: Калиниградский гос. университет, 2004. Вып. 4: Философия русского зарубежья. С. 85—101.
[Закрыть], не увидел того, что для поэта важнее всего было «точное разделение нерушимой области личного и свободного от столь же нерушимой области обязательного и коллективного» ( Неизданное, 221) [209]209
Можно согласиться с М. Ю. Галкиной, что «когда Николай Татищев приводит нам слова Поплавского о слиянии субъективных рек в космический Океан, их не следует понимать как конечную ориентацию писателя на даосизм или другую имперсоналистическую философскую систему». Трудно в то же время принять следующий вывод: «Изучая античных и христианских мыслителей, учения древнего Востока, каббалистику, Поплавский не пришел к идее возможного их соединения» (К вопросу об имперсонализме Бориса Поплавского // Литературоведческий журнал. 2008. № 22. С. 168).
[Закрыть]. Эта диалектическая ступень, заставляющая вспомнить о концепции коммюнотарности самого Бердяева или же о христианском социализме Шарля Пеги, находит свое соответствие в «третьей» музыке и так же, как она, представляется скорее умозрительной проекцией в будущее, чем реально осуществимым проектом. Однако Поплавскому важнее движение к цели, нежели сама цель. «Мы живем ныне уже не в истории, а в эсхатологии», – пишет он в статье «Среди сомнений и очевидностей» ( Неизданное, 289); мы – это молодые эмигранты, которые разбили свою «зимовку» в центре Европы, продолжающей верить в исторический прогресс. Признавая свою преемственность и наследуя вину отцов, потерявших Россию, они в то же время идут люциферианской, ставрогинской ( Неизданное, 225) дорогой одиночества, суровости, здоровья, образования. Они должны образовать тайные союзы, немногочисленные секты, подобные первохристианским или же гностическим, и затем своим «апокалипсическим искусством» (Среди сомнений и очевидностей // Неизданное, 290) вызвать к жизни ту «третью» диалектическую ступень, которая будет означать конец истории. Достигнуть этой ступени смогут лишь те, кто соединит в себе стойкость римлянина и милосердие, жалостливость христианина:
Они, бедные рыцари, уже на заре и по ту сторону боли. Кажется мне, в идеале это и есть парижская мистическая школа. Это они, ее составляющие, здороваются с нежным блеском в глазах, как здороваются среди посвященных, среди обреченных, на дне, в раю (О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции // Неизданное, 259).
«Парижская мистическая школа» – это определение могло возникнуть лишь при условии преодоления авангардистской идеологии, отрицающей все трансцендентное, но, с другой стороны, являясь продуктом этого преодоления, неизбежным образом отсылало к авангарду как к той тезе, без которой невозможна антитеза. Если дружба со Зданевичем и другими авангардистами была для Поплавского своего рода языческим опытом, требовавшим стойкости, концентрации и даже бесчувственности, то принятие эмиграции как аскезы, как самоотречения, равнозначного самораскрытию, как готовности пожертвовать собой из жалости к другим, стало для него опытом христианским:
Может быть, Париж – Ноев Ковчег для будущей России. Зерно будущей ее мистической жизни, Малый Свет, который появляется на самой высокой вершине души и длится не больше половины одного Ave(О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции // Неизданное, 258).
В определение новой школы как парижской содержится и отсылка к так называемой «Парижской школе» (École de Paris), в ряды которой традиционно записывают многих художников первых двух десятилетий XX века (Пикассо, Брак, Модильяни, Сутин и др.) – В то же время эпитет «мистическая» говорит о принципиальном отличии ее представителей от «старших» авангардистов, озабоченных скорее поисками новой формы, нежели ее мистическим, религиозным содержанием. Примечательно, что к новой школе, называемой им также «парижской нотой», «метафизической нотой», Поплавский относит не только поэта одного с ним поколения Александра Гингера, но и более старших Георгия Иванова, Георгия Адамовича и Николая Оцупа, а также Зинаиду Гиппиус и Владислава Ходасевича.
* * *
Итак, Поплавский и политика. Подтверждается ли высказанное в самом начале главы утверждение о том, что позицию поэта можно определить как позицию «около» политики, «около» истории, когда художник, по выражению Г. Адамовича, «не занимаясь политикой, все же участвует в ней» [210]210
Так Адамович определил отношение к политике авторов журнала «Числа» на состоявшемся 12 декабря 1930 года диспуте на тему «Искусство и политика», в котором принял участие и Поплавский. См.: Вечер «Чисел» // Неизданное, 399–401.
[Закрыть]? Позволю себе сравнить два отрывка из текстов, написанных в одно и то же время, но принадлежащих разным писателям; первый извлечен из записной книжки Хармса за 1934 год, второй – из романа Поплавского «Домой с небес», датированного 1934–1935 годами.
В декабре 1934 года Хармс записывает, слушая по радио репортаж о похоронах Кирова:
Енукидзе, Молотов, от Интернацион<ала>, от лен. орган. Чудов, Каганович, Шапошникова, от Украины Петровский, от Баку Багиров.
Несут на красной подушечке ордена.
Маленькая процессия [211]211
Хармс Д.Полное собрание сочинений. Записные книжки. Дневник: В 2 кн./ Сост. Ж.-Ф. Жаккар, В. Н. Сажин. СПб.: Академический проект, 2002. С. 182.
[Закрыть].
Хотя Хармс слушает прямую трансляцию церемонии, складывается впечатление, что он полностью «изолирован» от события. Он не является очевидцем, который «включен» в Историю. Отсутствие визуального контакта с реальностью создает эффект атомизации Истории [212]212
См. об этом: Ямпольский М. Б.Беспамятство как исток (Читая Хармса). М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 7–10.
[Закрыть]. Церемония похорон перестает обладать внутренним единством и рассыпается на множество «случаев», плохо связанных между собой. В то время как в рассказе как текстовой единице должна наблюдаться последовательная смена событий, записи Хармса, напротив, не собираются в интригу; к тому же Хармс не пытается соблюдать тематическое единство рассказа и устраняет его главного персонажа, который в принципе должен быть в центре излагаемого события. Действительно, в рассказе о похоронах Кирова нет самого Кирова: убитый вождь «ускользает» из рассказа и из Истории. Несмотря на то что Хармс упоминает имена советских партийных функционеров, он, благодаря приему атомизации, деконтекстуализирует событие и лишает его индивидуальности. Такие похороны могли бы состояться в любом месте, в любое время и с любым покойником. Текст содержит только «осколки» события, и это блокирует развитие наррации. Отмечая то, что происходит на похоронах Кирова, Хармс переводит событие из исторической реальности в реальность фикциональную, в которой возможно все: например, похороны аппаратчика в отсутствие самого покойника могут повторяться до бесконечности.
Теперь отрывок из «Домой с небес»:
Но осторожнее, теперь ты в самой гуще… Делай независимый, веселый, отсутствующий вид… Не мое, мол, дело, фуражку на ухо, и чего они орут, счастье свое, грубое, земное, золотое, бычье, защищать… Vive Chiappe!.. Осторожно, не зарывайся, да теперь и не выберешься… Поорать бы самому… Да! но что именно… Кстати, симпатичный малый, и не мучал нашего брата… Да! mais tu n'y es pas, это не идеология… Сади его, мать, ни вперед, ни назад… А, побежали!.. Ну, теперь надо смываться, брысь отсюда… Ах, черт… Как все-таки ему попало… Сразу ослеп от крови, и только палкой… Податься, что ли, опять вперед… Да устал я, и все все-таки видят, что я иностранец…
Устал все-таки дико (312).
Речь в цитате, как и у Хармса, идет о конкретном историческом событии – профашистской демонстрации в Париже 6 февраля 1934 года. Однако позиция рассказчика здесь в корне отличается от той позиции, которую занимает по отношению к событию Хармс: у Поплавского рассказчик не изолирован от происходящего, а включен в него. Он в полной мере является очевидцем, поэтому, кстати, событие, несмотря на задыхающийся темп рассказа, не утрачивает тематического единства и не рассыпается, как у Хармса, на «случаи». У Поплавского событие не теряет своей индивидуальности и остается включенным в исторический контекст; перевод реального события в плоскость фикциональную не отменяет его исторической, внетекстовой основы. В то же время рассказчик, хотя и находится в эпицентре события, чувствует себя иностранцем, чужим: он не изолирован от события, но изолирован от остальных его протагонистов. «Все видят, что он иностранец». Эта отделенность его от других подчеркивается и игрой с личными местоимениями: рассказчик то обращается к себе на «ты», то говорит о себе в третьем лице, то переходит к наррации от первого лица. Его позиция – это позиция человека, свободно «входящего» в событие, в Историю и так же свободно из них «выходящего». Находясь внутри события, он создает там некую зону отчуждения, куда имеет доступ только он сам. В этом смысле он «окружен» Историей. Когда же он «выходит» из исторического события, это позволяет ему «кружить» вокруг него: он – воспользуемся устаревшим значением предлога «около»: «вокруг, кругом чего-нибудь» – находится «около» Истории.