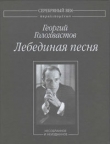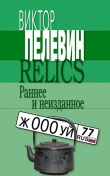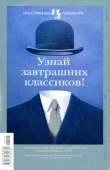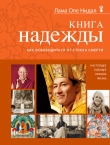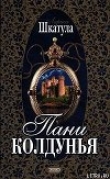Текст книги "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе"
Автор книги: Дмитрий Токарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Олег чувствовал, что Бог боится его, ужасается его храбрости и любит его таким, как сейчас, совсем другою страстной и страшной любовью, чем той покровительственной и мирной, которою он любил Олега женатого, бородатого, примиренного с жизнью, добродушно-молчаливого, безопасного. Нет, Бог снова любил в нем храбреца, девственника, аскета, пророка, люцифера, как любит владыка красивейших, гордейших девушек племени, предначертав их для своего гарема, долго упорно борясь с их метафизической строптивостью. Он чувствовал грозовое, напряженное, как сталь, облако божественной ревности над собою, преследующее его, как Израиль в пустыне. Как лебедь преследовал Леду, как бык ластился к Европе, как золотая туча спускалась к Данае. Снова отказавшись от широкой дороги, он вступал на скалистую тропинку отшельничества, избранничества, одиночества, и шаг его был легок по уже горячей мостовой, и еще одну минуту – он закричал бы, побежал бы навстречу Богу… ( Домой с небес, 329).
Почему Олег считает изумительными стихи поэта Льва Савинкова «Под ногами шумела солома, ты, смеясь, повернулась ко мне. Мы построим себе два дома, здесь один, другой в вышине»? Видимо, потому, что два дома отсылают к хорошо ему знакомой каббалистической модели: нижний дом – земное пристанище человека, верхний – Шехина [472]472
См. стихотворение «Двоецарствие» («Флаги»; с небольшими изменениями напечатано Татищевым в сборнике «Дирижабль неизвестного направления» под названием «Черный и белый»; Менегальдо включает его в сборник «В венке из воска»): «Кровью черной и кровью белой / Истекает ущербный сосуд. / И на двух катафалках везут / Половины неравные тела. / И на кладбищах двух погребен / Ухожу я под землю и в небо. / И свершают две разные требы / Две богини, в кого я влюблен» ( Сочинения, 32).
[Закрыть]:
…Олег в точности никогда не знал, какой из них строится раньше, но оба были ему необходимы, когда, как атлетический ангел, пробующий новые крылья, жизнь его с головокружительной быстротой путешествовала с неба на землю и с земли на небо. Так, удачно сказанная фраза, какое-нибудь правильно, реально, выпукло выраженное, отвлеченное ощущение вызывали мгновенную благодарность, и вспышка восхищения, следующая за ней, вдруг мгновенно перерождалась в дикое желание поцелуев и физического обладания, умственная же грубость вдруг отчуждала физически. Хотя он как бы сделан был природой нарочно для этого, ему почти никогда не удавалось жить физически с человеком, не омрачаясь сердцем с тою же дикой стремительностью, которая свойственна ему была во всем. И как он хорошо понимал античного меланхолика, написавшего, что omne anima post coitus triste est! Едва равновесие нарушилось, едва физического становилось хоть на копейку больше, чем морального, боль с умопомрачительной аптекарской точностью, как нож, поворачивалась в сердце ( Домой с небес, 316).
В Тане он видит такого же, как он сам, полубога-полузверя:
…они оба были не совсем люди, именно человеческого им не хватало, ей в особенности, она скорее была великолепным духовным зверем, потому что идеальная физическая организация в ней соседствовала, совмещалась с органическим кровным вкусом к хрустальной музыке чистой отвлеченности логики, метафизики Каббалы ( Домой с небес, 296).
Для Олега половая близость с женщиной есть бунт против Бога, попытка освободиться от его ревнивой любви, которая, разумеется, является любовью духовной, но описывается в терминах любви физической. Формулирует эту мысль Таня, но понятно, что Олег полностью с ней согласен:
Да, я понимаю, и поэтому физическая любовь для меня вызов и освобождение от Бога, какое-то равенство с Ним, возможность прямо и равно смотреть ему в глаза, ничем от него не завися, только спокойно, высокомерно разговаривать с Ним лицом к лицу… ( Домой с небес, 297).
И все-таки любовь Бога оказывается сильнее, и Олег «просыпается» ( Домой с небес, 330) от Кати и Тани и вновь оказывается «лицом к лицу с раскаленным белым небом одиночества» ( Домой с небес, 331):
Он умел любить только в отпадении от Бога, так сказать, инкогнито, и любовь проходила, как пьяная ночь, едва холодное похмелье обид остужало рассветное небо. Он не умел вносить Бога в свою любовь и долго смеялся, когда ему рассказывали, что в старообрядческих избах баба перед совокуплением задергивает икону черной занавеской. Да, как это далеко от священного совокупления при свете семисвечника в благодатную ночь с пятницы на субботу с чтением специальной молитвы при viris introductio… ( Домой с небес, 330).
* * *
Существенно, что в «Домой с небес» описываются два опыта погружения в бессознательное, и эти опыты приводят к совершенно разным результатам. Первый опыт – скорее негативный – рассмотрен в пассаже под названием «Sommeil – apprentissage de la mort» (сон – обучение смерти) и должен быть поставлен в контекст взаимоотношений Олега с женщинами. Погруженный в сон, Олег видит себя в некоей комнате, которая кажется ему знакомой:
Комната, освещенная тусклым, желтым, электрическим светом… Олег понимает, что таких ламп, тусклооранжевых, с огненной восьмеркой волоска, он давно не видел… С тех пор… значит, то, нестерпимое, еще живо… В комнате грязные, кирпичные стены и все вместе веет подвалом, заброшенностью, подневольностью машинных отделений, фабрик, задних дворов. Но это не главное, главное в чем-то другом, оно где-то здесь, но пока притворяется незаметным. Сперва все как будто нормально, но страшная, сонная тоска гнетет сердце, а тело в оцепенении – ни встать, ни двинуться с места ( Домой с небес, 233).
Его состояние похоже на состояние ступора, в которое погружен Антуан Рокантен, главный герой романа Сартра «Тошнота»:
Во мне лопнула какая-то пружина, – чувствует Рокантен, – я могу двигать глазами, но не головой. Голова размякла, стала какой-то резиновой, она словно бы еле-еле удерживается на моей шее – если я ее поверну, она свалится [473]473
Сартр Ж.-П.Тошнота // Сартр Ж.-П. Стена. М.: Политиздат, 1992. С. 33.
[Закрыть].
Действие в «Тошноте» происходит в 1932 году, то есть почти одновременно с действием «Домой с небес». Поразительно, что Поплавский, который не мог читать Сартра, фиксирует то же состояние оцепенения, вызванного миром, слишком наполненным существованием, слишком живым. Действительно, проблема Рокантена в том, что его беспокоят предметы, которые приобретают вдруг пугающую одушевленность:
Предметы не должны нас БЕСПОКОИТЬ, – рассуждает он, – ведь они не живые существа. Ими пользуются, их кладут на место, среди них живут, они полезны – вот и все. А меня они беспокоят, и это невыносимо. Я боюсь вступать с ними в контакт, как если бы они были живыми существами! [474]474
Там же. С. 25.
[Закрыть]
Поэтому Рокантен избегает смотреть на пивную кружку в кафе и с отвращеньем отдергивает руку, коснувшуюся сиденья трамвая:
Да это же скамейка, шепчу я, словно заклинание. Но слово остается у меня на губах, оно не хочет приклеиться к вещи. А вещь остается тем, что она есть со своим красным плюшем, который топорщит тысячу мельчайших красных лапок, стоящих торчком мертвых лапок. Громадное повернутое кверху брюхо, окровавленное, вздутое, ощерившееся всеми своими мертвыми лапками, брюхо, плывущее в этом ящике, в этом сером небе, – это вовсе не сиденье. С таким же успехом это мог бы быть, к примеру, издохший осел, который, раздувшись от воды, плывет по большой, широкой реке брюхом кверху, плывет по большой, серой, широко разлившейся реке, а я сижу на брюхе осла, спустив ноги в светлую воду. Вещи освободились от своих названий [475]475
Там же. С. 128–129.
[Закрыть].
А вот как описывает «оживший» стул Олег:
Постепенно выясняется, что все дело в стуле, и вот Олег, уже не отрываясь, глядит на него, но странное дело: чем больше это длится, а оно длится уже давно-давно, может быть целые годы, сладость его все увеличивается, как будто он теряет субстанцию, она утекает через его глаза в сторону стула, а стул этот явно поглощает ее, не приближаясь, в своем углу, неподвижно увеличивается в весе… Время томительно ползет, и Олег чувствует, что почти никакими силами нельзя уже оторвать этот стул от грязного бетонного пола, что он врос в него глубокими корнями и вдруг понимает… Конечно, это так, потому что стул медленно наливается кровью… ( Домой с небес, 233).
Стул здесь выступает в качестве собственно стула, объекта, на который направлено внимание Олега, и одновременно метафорически репрезентирует женское начало, поглощающее начало мужское:
Олег теперь понимает, что прежде, на воле, он был мужчиной, он был М., а стул был женщиной, вещью, объектом, здесь же, «в неволе», какие-то магические полюса переменились, и стул, который он всегда носил в себе как свою слабость, свой позор, свой грех, ожил и стал хозяином своего создателя; в то время как он все больше цепенеет и теряет субстанцию, стул медленно увеличивается и удивительно отвратительно оживает, наливается заимствованной жизнью, не сходя со своего места. Все, как в луче волшебного фонаря, фокус которого меняют, менялось, сползало, пятилось теперь вокруг в непоправимое окаменение вечного рабства. «Я М. Я Ж. – звенит у него в голове. – Я М. Я Ж.» И вдруг в отчаянии он корчится, рвется, и тогда стул, корчась тоже, рвется с земли, победоносно сопротивляясь, как будто невидимая рука борется с ним, а он, скрежеща зубами (стул скрежещет зубами), одолевает ее. По временам одна из ножек все же отделяется от бетона, и тогда (о, гадость!) оказывается, что ножка эта соединена с полом толстыми, синевато-красными, бугристыми, налитыми кровью венами. Потом ножка опять прирастает накрепко… Стул приседал, скрежетал, торжествовал, и искоренить его было совершенно невозможно. Олег слабел, терял силы, и навек укоренящимся рабством стул медленно наступал ему на грудь ( Домой с небес, 234).
У Сартра также существование, «пропитанное» жизненными соками, кровью, потом, спермой, неразрывно связано с сексуальностью:
Мое тело из плоти, плоть живет, плоть копошится, она тихо вращает соки, кремы, эта плоть вращает, вращает мягкую сладкую влагу моей плоти, кровь моей руки, сладкая боль в моей раненой плоти, которую вращают, она идет, я иду, я спасаюсь бегством, я негодяй с израненной плотью, израненный существованием об эти стены [476]476
Там же. С. 107.
[Закрыть].
Характерно, что Олег тоже описывает контакт со стулом как половой акт: по мере потери Олегом его «субстанции», «сладость его все увеличивается».
Побороть существование, преодолеть его «вязкость» Рокантену помогает музыка; Олег же спасается молитвой:
Еще минуту, еще час, и все было бы кончено, ибо стул теперь четырьмя ногами, четырьмя насосами сосал из него кровь. И вдруг в потерявшемся сердце вспомнилась, проснулась отроческая молитва «Господи, защити и спаси…», и вдруг всасывающее движение как будто замедлилось, вернее, передвинулось куда-то в другое измерение, ослабев, как на картине, и какой-то белый день, рассвет в окне освежил ему лицо. Потом (о, счастье!) рядом заговорили люди, и с таким счастьем вслушивался он в их бормотание. Утро действительно наступало, и кто-то, посмотрев на градусник, сказал голосом его отца: «Сегодня они не пойдут в училище» ( Домой с небес, 234).
Речь здесь не может идти о том, что Олег, проснувшись в настоящем, слышит голос своего реального отца – герой живет один и о его отце в романе ничего не говорится. Налицо странный эффект: во сненаступает утро и Олег «просыпается», но просыпается не в настоящее, не в парижскую жизнь, а в свое русское прошлое, которое говорит голосом его отца; в этом прошлом стоят сильные морозы и дети могут не ходить в училище. Вспоминание здесь происходит совсем не так, как у Пруста: прошлое актуализируется не за счет чувственного восприятия какого-то объекта, а дается как откровение, как дар, «посланный» из той трансцендентальной сферы, куда обращена молитва героя. Олег обретает утраченное время, но время это эфемерно, как эфемерен его сон.
Второй опыт отключения сознания более позитивен, он не сопровождается кошмарами и позволяет Олегу узреть ту Бездну, то Безосновное, Ungrund, которое Якоб Бёме трактовал как божественное «ничто» и иррациональную свободу, чья чистая потенциальность предшествует актуальности Бога. Знаменательно, что исходной позицией, которую занимает Олег прежде чем пуститься в свое астральное путешествие, является как раз позиция повешенного вниз головой:
Наконец свободным вечером, никуда не собираясь, Олег лежит на диване, стараясь определить свою позицию перед Богом («prendre position devant Dieu»). Понять свое место в беспрерывном исчезновении всего… Долгими годами учась этому, еще в бреду жизни улыбается, предчувствуя катарсис, покой… Сперва мускулистое тело тяжело вытягивается в струнку. Ноги кладутся одна на другую, правую на левую (как у повешенного на двенадцатой карте таро). Руки скрещиваются на груди, голова на вытянутой шее, почти без подушки, как можно дальше откидывается назад. Невольный тяжелый вздох облегчения, неподвижности, смерти. Осатанелая напряженность отсутствия вытянутых, каменных фигур на саркофагах.
В левой ладони Олег сжимает часы, которые быстро согреваются от напряжения этих пяти минут внутреннего молчания.
Олег закрывает глаза и видит перед собою знакомое чудовище, огромный стальной гидравлический пресс, пар из ноздрей, который, медленно сдвигая челюсти, отжимает все живое за порог сознания… Пресс исчезает… Разница между тем, чтобы думать о «ничто» и ничего не думать. Знакомое, привычное напряжение в переносице, темнота, ночь, небытие… Время идет адски медленно, слышится биение сердца, звон в ушах, тело чешется, но чесаться нельзя, и вдруг, как волшебный фонарь, как огненное наводнение, – картины, ассоциации, воспоминания, внутренний диктор опять зарокотал, и Олег во мгновение побывал уже на Монпарнасе, в Дании и в астральном мире, но вдруг очнулся и, с мукой досады вцепившись в последний вагон огненного поезда, старается, разворачивая видение в обратном порядке, вернуться в исходное ничто – явственное чувство усилия, какое-то отделение от самого себя, и круг завершен, исходная темнота возвращена, и только от напряжения по ней плывут бесформенные огненные круги. Наконец пять минут прошло, и Олег, преображенный усилием, иконописно повзрослевший, просыпается к сознательной Темной Ночи… ( Домой с небес, 248).
Интересно, что в определенный момент медитации, когда сознание отключено еще не полностью, Олег вдруг начинает видеть образы, яркость которых мало чем отличается от интенсивности образов эйдетических, но очень быстро эти образы меркнут и погружаются во тьму.
Кто я?
Не кто, а что. Где мои границы?
Их нет, ты же знаешь, в глубоком одиночестве, по ту сторону заемных личин, человек остается не с самим собою, а ни с чем, даже не со всеми. Океан нулей, и на нем комичный, как голос радио на ледяной горе, говорящий попугай небытия. <…>
Чтобы удержаться на этом рубеже двух бесконечностей, надо срастись, оплести эту точку в потоке нитями настоящих отношений, вечных воспоминаний семьи и дружбы, но как для меня это возможно, если Катин Олег ненавидит Олега Таниного, если Терезин Олег еще совсем другой, и так, один за другим, они обрушиваются, тонут, растворяются в ничто, и я есть Апейрос, Отсутствие, темная ночь, породившая и поглотившая их, я есть темное огненное зеркало, огненное море, тысячи превращений не помнящих родства, и как я устал от непрерывного карнавала тысячи трагедий, но ведь это все мне снится. Аскеза есть насильственное пробуждение от мировой сонливости воображения бытия, пробуждение сознательное, дополняющее, внезапное, мгновенное, невольное, потрясающее пробуждение от боли, когда разом в остолбенении разлуки тысячецветная ткань разрывается и все мироздание обрушивается в ничто. «Мироздание тает в слезах. И как краска ресниц, мироздание тает в слезах..» Снова как до начала мира. Ничто глазами человека с продавленного дивана смотрит в лицо виновника всякой боли, то есть жизни… Лицом к лицу на умопомрачительной высоте…
Олег тяжело дышит с закрытыми глазами, супя брови, морщась, обливаясь п отом от напряжения, и снова вытянутое тело, сжатые губы, Темный Лорд великолепной гробницы, где ты?.. Нигде… Потому что Париж – это где-то когда-то между небом и землею, где медленно идет снег дней, тотчас тая на мокром асфальте… Сколько времени, который час… Никакой. Никогда… Заблудился в веках между Эгейскими мистериями, стоицизмом, Гегелем и Лафоргом… Луна, мировое Ничто, все видящее, кроме самого себя, неподвижно смотрит глазами Олега на мировое все, мчащееся перед ним, как море туч… Самосознание трансцендентального субъекта невозможно, значит, Ничто говорит с Богом… Но почему Бог должен отвечать… Оторвавшись от семьи, народа, истории, Олег стремительно полетел в то чистое отсутствие, из которого Бог пытался вначале сотворить небо и землю, но не смог окончательно преодолеть его в его средоточии, и вот сперва от боли, а потом сатанинским ослепительным мужеством аскезы оно сбросило с себя, проснулось вдруг от всех форм неба и земли… Олег теперь чувствует, видит телом, мимирует всю музыку творения, все горы, спящие на солнце, как складки на его лице… ( Домой с небес, 248–249).
Стоит отметить, что Олег, говоря «я естьОтсутствие», использует ту же формулу, что и Рембо, определивший себя через другого – «я есть другой». Глагол в третьем лице сигнализирует о том, что речь идет здесь не о конкретном лице, а о некоем абстрактном, ускользающем от дефиниции «я».
Олег сам становится частью этого предвечного «Ничто-Никогда-Никто», и ужас развоплощения настолько силен, что личность Олега до конца сопротивляется растворению в небытии:
И вот теперь это Ничто-Никогда-Никто ныло, выло, стонало, молило Бога вернуть его во время, в историю, в семью, в память, в жизнь.
Боже… По-детски бормоча, тысячу раз повторяя одно и то же, Олег внутренне вопил: «Дай мне быть чем-то, сделай меня человеком, ведь я никого не люблю, не умею запомнить, не принимаю всерьез, Боже, я так люблю Тебя, Вечную Память живых», – и слезы, вдруг рождаясь в сердце, вынося, разливая жизнь из глубины сердца, орошая душу, выступали на углах глаз и теплыми ручейками беззвучно стекали на уши… Боже, Боже мой, дорогой мой Господь… ( Домой с небес, 249–250).
Снова молитва творит чудо, и Олег неожиданно видит Божество, сначала внутренним взором, с закрытыми глазами, а затем, открыв глаза, на стене. Можно сказать, что Божество, увиденное внутренним зрением во время астрального путешествия, остается видимым в качестве эйдетического образа, «спроецированного» на стену и воспринимаемого уже не внутренним, а «внешним» зрением:
И вдруг: «Да ведь мне и не надо будущего, я сейчас очнусь и исчезну, я встану с колен (протягивая руки с дивана, но все с закрытыми глазами), вот Ты, вот Ты передо мною, и я люблю, смею любить Тебя… Жалкое Ничто, я обожаю Тебя и прощаю Тебе все свои муки, свое одиночество, свою нужду, ибо я нахамил, напортил сам, оторвался от жизни…» Слезы, слезы. Олег судорожно плачет, а солнце любви все горит и сияет над ним… Наконец он неловко слезает с дивана и на коленях, мокрый, грязный, всклокоченный, дико указывает рукою на какое-то место на стене: «Вот, Ты здесь, Ты здесь. Будь благословен, это я Тебя Благословляю. Живи, живи, живи всегда…» ( Домой с небес, 250).
Глава 5
«ГРЯЗЬ ЛИТЕРАТУРЫ»:
Поплавский в интертекстуальной перспективе
5.1. Озарения Безобразова
(Поплавский и Артюр Рембо)
Специалисты по творчеству Поплавского не смогли прийти к общему мнению по поводу того, какое место в структуре романа «Аполлон Безобразов» занимает так называемый «Дневник Аполлона Безобразова», посвященный Дине и Николаю Татищевым. В. Крейд и И. Савельев, а также Л. Аллен опубликовали «Дневник» в качестве приложения к роману, Е. Менегальдо и А. Н. Богословский, напротив, убеждены в том, что из той редакции романа, которую они считают последней, автор «Дневник» исключил.
При жизни Поплавского «Дневник» был напечатан в десятом номере журнала «Числа» за 1934 год, впоследствии два отрывка из него были включены Татищевым (под названием «Учитель» и «Был страшный холод…») в сборник «Дирижабль неизвестного направления» (1965). Еще один фрагмент «Дневника» – «Дали спали. Без сандалий…» – вошел (с добавлением двух строф) в посмертный сборник Поплавского «Снежный час». Некоторые фрагменты (с разночтениями и разбивкой на строки) были включены также в сборник Поплавского «Автоматические стихи».
Несомненно, «Дневник» представляет собой текст, однородный как в стилистическом, так и в семантическом плане. Очевидно также и то, что решение исключить «Дневник» из романа, даже если оно было сделано автором, нельзя назвать удачным, поскольку ведет к «вымыванию» (по крайней мере частичному) некоторых и без того герметичных смыслов, которые могут быть адекватно интерпретированы только в случае, если читать «Дневник» после самого романа. Но меня в случае интересуют не столько внутренние связи между собственно текстом романа и «Дневником», сколько стилистическая, синтаксическая и лексическая зависимость последнего от «Озарений» [477]477
На близость поэтики «Озарений» и «Аполлона Безобразова» обратила внимание Н. В. Барковская в статье «Стилевой импульс „бестактности“ в творчестве Б. Ю. Поплавского». Однако никакого развернутого сопоставительного анализа текстов Рембо и Поплавского в статье дано не было.
[Закрыть]Артюра Рембо.
«Дневник Аполлона Безобразова» открывается следующим стихотворением в прозе:
Кто твой учитель пения… Тот, кто вращается по эллипсису. Где ты его увидел… На границе вечных снегов. Почему ты его не разбудишь… Потому что он бы умер. Почему ты о нем не плачешь… Потому что он – это я ( Аполлон Безобразов, 181).
О семантической нагруженности каждого из составляющих стихотворение элементов говорит, между прочим, частотность их использования в «Дневнике»; например, мотив пения является одним из самых важных: поет соловей – таинственный голос за сценой, а также механический тенор огромного роста, поют города сиренами своих заводов, в Мексике поет араукария, в поле – колосья и, наконец, под хлороформом поет отшельник. Это многоголосое пение является, по-видимому, формой воплощения той мировой музыки, которая, по Поплавскому, есть «раньше всего аспект связи частей в целом, аспект тайной власти целого над частями, а также аспект вечного схематического повторения всего» ( Неизданное, 120). Музыка связывает все элементы в одно целое, если же ритм сочетается с символом и образом, то это ведет к рождению поэзии. О том, как важно расслышать эту музыку сфер, говорит дневниковая запись 1929 года: «Я сидел и слушал звезды, все они молчали, и одна лишь из них пела, и это пение стало моей жизнью и счастьем, и я полюбил ее навсегда из благодарности, что в ее пении я люблю ее, я спасу ее и погибну вместе с ней» [478]478
Не исключено, что здесь Поплавский использует образ звезды для того, чтобы выразить свою любовь к Дине Шрайбман. Ср.: «Музыка приходит к душе, как весна, как поток, как женщина. Душа бросается в нее и исчезает в ней, подхватываемая ею. Самое явное воплощение ее есть женщина» ( Неизданное, 161).
[Закрыть]( Неизданное, 161).
В знаменитом письме к Полю Демени от 15 мая 1871 года (так называемом письме ясновидящего) Рембо также прибегает к музыкальной метафоре для того, чтобы описать процесс вызревания поэтической мысли:
Если медь просыпается горном, она тут ни при чем. Мне представляется очевидным: я присутствую при рождении моей мысли: я смотрю на нее, ее слушаю: я ударяю смычком: симфония шевелится в глубине или же сразу оказывается на сцене [479]479
Rimbaud A.Lettre à Paul Demeny, 15 mai 1871 // Rimbaud A. Oeuvres. P. 345. «Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident: j'assiste à l'éclosion de ma pensée: je la regarde, je l'écoute: je lance un coup d'archet: la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d'un bond sur la scène». Здесь и далее подстрочный перевод мой.
[Закрыть].
Этому пассажу непосредственно предшествует фраза, породившая множество интерпретаций: «Я есть другой» [480]480
«Je est un autre». Впервые употреблена в письме к Жоржу Изамбару от 13 мая 1871 года.
[Закрыть]. По мнению Сюзанны Бернар, она означает только то, что Рембо, осознав свой поэтический дар, превратился в другого человека, в Поэта, на которого снисходит божественное вдохновение. Поэт при этом не порождает свою поэтическую мысль, а как бы присутствует при ее рождении. «Ошибочно говорить: Я думаю, – формулирует он в письме к Изамбару. – Надо было бы сказать: Меня думают» [481]481
Rimbaud A.Lettre à Georges Izambard, 13 mai 1871 // Rimbaud A. Oeuvres. P. 344. «C'est faux de dire: Je pense. On devrait dire: On me pense».
[Закрыть].
Похожее рассуждение можно найти и в одном из вариантов «Аполлона Безобразова»:
…мы очищаемся и побеждаем себя, чтобы мыслить. Но когда мышление раскрывается, оно распускается в нас само, оно мыслится, а не мы его мыслим; выясняется, что в разуме нет личной жизни, всякое «я» становится бесполезным, и поэтому мышление печально, смиренно, и страх мышления справедлив ( Неизданное, 381).
Медь, которая просыпается горном, или же дерево, которое вдруг оказывается скрипкой [482]482
См.: Rimbaud A.Lettre à Georges Izambard, 13 mai 1871. P. 344. «Tant pis pour le bois qui se trouve violon <…>».
[Закрыть], претерпевают эти трансформации независимо от себя, от своей воли: не медь «мыслит» себя горном, а дерево скрипкой, но горн «мыслит» медь горном, а скрипка «мыслит» дерево скрипкой. То, что поэт оперирует понятием мышления, очень важно: это означает, что метод, заявленный Рембо, не сводится к пассивной фиксации образов и не требует превращения поэта в сюрреалистский «регистрирующий аппарат» [483]483
На отличии поэтики «Озарений» от сюрреалистической поэтики настаивает Р. Этьямбль ( Etiemble R.Le mythe de Rimbaud. Т. 2. P. 122–127).
[Закрыть]. Состояние, в котором он пребывает, парадоксальным образом совмещает в себе пассивность и активность: поэтическая мысль принимается поэтом пассивно, но при этом он не перестает быть наблюдателем этой мысли и тем самым не утрачивает способности контроля и отбора тех образов, которые получены им в момент вдохновения. Первый этап становления поэта – это самопознание; поэт «ищет свою душу, осматривает ее, испытывает, изучает». Как только он познает свою душу, он должен начать ее «возделывать», а именно превратить ее в монстра, в компрачикоса из романа Гюго «Человек, который смеется». Только так можно достичь ясновидения. «Поэт становится ясновидящимс помощью долгого, безмерного и продуманного разупорядочивания всех чувств» [484]484
Rimbaud A.Lettre à Paul Demeny, 15 mai 1871. P. 346. «Le Poète se fait voyantpar un long, immense et raisonne dérèglementde tous les sens».
[Закрыть](именно продуманного! – Д. Т.); затем, в тот момент, когда он перестает осознавать свои видения, он начинает их видеть так, как если бы они были реальны, и, входя в неизведанное, становится высшим Ученым [485]485
Suprême Savant.
[Закрыть], похитителем огня, создателем универсального языка, «…если то, что он приносит оттуда, имеет форму, он придает ему эту форму, если же оно формы не имеет, он придает ему бесформенность» [486]486
Ibid. P. 347. «…si ce qu'il rapporte de là-basa forme, il donne forme: si c'est informe, il donne de l'informe».
[Закрыть].
Хотя «Озарения» достаточно разнородны как с точки зрения настроения, так и с точки зрения поэтического метода (некоторые имеют галлюцинаторную и онейрическую природу, другие более «рационалистичны»), можно в целом согласиться с С. Бернар в том, что
эстетика Рембо стремится к тому, чтобы освободить искусство и дух от ограничений, налагаемым концептуализмом и материальной реальностью; он устраняет категории времени и пространства, игнорирует принцип идентичности, сближает самые удаленные, противоположные элементы, море и небо, конкретное и абстрактное, «угли и пену» («Варварское»). И однако было бы неправильно говорить, что он ввергает нас в полный хаос, беспричинно умножая разрозненные элементы: подобное изобилие не означает распыления; видение Рембо всегда имеет не пассивный (как у сюрреалистов), а откровенно активный и синтетический характер. <…> Каждое стихотворение – это «напряженный, быстрый сон» («Бдения»): это именно Озарение, которое на очень короткое время, но с необыкновенной интенсивностью рисует перед нами видение, обладающее энергией картины или же ярко освещенной театральной сцены [487]487
Bernard S.Introduction // Rimbaud A. Oeuvres. P 61.
[Закрыть].
Поэтический метод Поплавского подразумевает то же движение от музыкальной по своей природе поэтической мысли, которая «мыслит» поэта, к ее воплощению в образе, чья интенсивность не уступает интенсивности картины или театральной постановки.
Вернемся еще раз к формуле Рембо «Je est un autre». Представляется, что С. Бернар излишне упрощает дело: если бы поэт говорил о себе, он бы написал «Je suis un autre». Глагол в третьем лице свидетельствует о том, что речь идет здесь не о конкретном лице, а о некоем абстрактном «я», не совпадающем с тем своим содержанием, которое ему приписывается. «Я» здесь выступает в функции «он», и этот «он» может быть идентифицирован только апофатически, через отрицание его идентичности – он не есть он, а есть другой, не он. По сути, с определенностью можно утверждать только одно: я есмь он, или же он есть я, но о том, кто такой «я» и кто такой «он», сказать можно лишь то, что они другие. Получается, что формула, использованная в «Дневнике Аполлона Безобразова» – «он – это я», – фиксирует ту же невозможность идентификации за счет соотнесения себя с другим, которую выражает формула Рембо. У Поплавского к тому же используется и второе лицо единственного числа – «ты», – «я» обращается к себе как к «ты», и «я» одновременно идентифицирует себя через «он». Таким образом, снимается различие между всеми тремя лицами: «твой» учитель пения, «он» – это я сам, я ученик себя самого.
Характерно, что местоимение «я» в первый и последний раз появляется в самом начале «Дневника», затем его присутствие обнаруживает себя только имплицитно за счет использования императива второго лица («ты ж молчи», «будь спокоен», «будь наподобье звезд» «будь бесстрашен и страшен», «отвечай им огнем ответным»), индикатива второго лица («ты не можешь еще уйти на свободу», «ты спустился под землю») и (один раз) глагола в третьем лице («но если бы он знал, как сонливость клонит нестерпимо…»; в данной фразе «он» не соотносится ни с кем, кроме нарратора). Везде второе, а также третье лицо метонимически замещают первое. В целом же «Дневник» написан в безличном стиле, когда нарратор предельно деперсонализирован. В «Озарениях» персональный нарратор, напротив, ведет рассказ довольно часто, однако попытки «я» определить себя с помощью соотнесения с «он» говорят лишь о принципиальной неустойчивости, призрачности этого «я» [488]488
Как замечает Альбер Анри, «сирконстанты (с говорящей семантикой) первых четырех версетов (= деталям пейзажа) становятся актантами в последнем версете и тем самым подавляют и уничтожают верховный актант начала стихотворения, то созерцательное „я“, которое отдавалось воодушевляющему самоутверждению» ( Henry A.Lecture de quelques Illuminations. Bruxelles: Palais des Académies, 1989. P. 31).
[Закрыть]:
Я – святой, молящийся на террасе, когда мирные животные пасутся вплоть до Палестинского моря.
Я – ученый в мрачном кресле. Ветви и дождь бросаются на окна библиотеки.
Я – пешеход на большой дороге через карликовые леса; шум шлюзов заглушает мои шаги. Я долго смотрю на меланхоличную золотую стирку заката.
Я стал бы ребенком, покинутым на молу во время прилива, маленьким слугой, который идет по аллее и головой касается неба.
Тропинки жестки. Холмики покрываются дроком. Воздух неподвижен. Как далеки птицы и родники! Это не что иное, как конец света, при движении вперед («Детство») [489]489
Rimbaud A.Illuminations // Rimbaud A. Oeuvres. P. 257. «Je suis le saint, en prière sur la terrasse, comme les bêtes pacifiques paissent jusqu'à la mer de Palestine.
Je suis le savant au fauteuil sombre. Les branches et la pluie se jettent à la croisée de la bibliothèque.
Je suis le piéton de la grand'route par les bois nains; la rumeur des écluses couvre mes pas. Je vois longtemps la mélancolique lessive d'or du couchant.
Je serais bien l'enfant abandonné sur la jetée partie â la haute mer, le petit valet, suivant l'allée dont le front touche le ciel.
Les sentriers sont âpres. Les monticules se couvrent de genêts. L'air est immobile. Que les oiseaux et les sources sont loin! Ce ne peut être que la fin du monde, en avançant».
[Закрыть].
Первый абзац «Дневника Аполлона Безобразова» содержит несколько ключевых мотивов, которые находят свое развитие в следующих частях текста: это музыка, движение, пограничье, вечность, снег, сон, смерть, слезы. Движение проявляет себя в четырех основных формах: скольжения («на границе иных миров дирижабль души скользит»; «безостановочно скользил водопад зари»), вращения, падения и подъема. Судя по стихотворениям сборника «Флаги», скольжение является важным концептом для поэта и связано прежде всего с темой падения, соскальзывания в вечность, в безвременье, в сон и в смерть:
Мы вышли. Но весы невольно опускались.
О, сумерков холодные весы.
Скользили мимо снежные часы,
Кружились на камнях и исчезали.
(Превращение в камень // Сочинения, 28).
Мы спустились под землю по трапу,
Мы искали центральный огонь.
По огромному черному скату
Мы скользнули в безмолвье и сон.
(Вспомнить-воскреснуть // Сочинения, 88).
Область сна и смерти локализуется в подземном пространстве, куда сходит «погибшая память» и где мертвецы, подобно пленникам Ада у Данте, покрыты снегом и льдом:
В бесконечных кривых коридорах,
Мы спускались все ниже и ниже.
Чьих-то странных ночных разговоров
Отдаленное пение слышим.
«Кто там ходит?» – «Погибшая намять».
«Где любовь?» – «Возвратилась к царю» [490]490
Упоминание о царе актуализирует оккультное представление о подземном Царе Мира, пребывающем в таинственной индийской стране посвященных Агартха (Агарти, Агарта, Асгарта). Мифологию этой страны разрабатывали Елена Блаватская («Из пещер и дебрей Индостана», 1883), Александр Сент-Ив д'Альвейдр («Миссия Индии», 1886, рус. пер. 1915), Фердинанд Антоний Оссендовский («Звери, люди, боги», 1923, рус. пер. 1925). См. об этом: Стефанов Ю. Н.Не заблудиться по пути в Шамбалу // Вопросы философии. 1993. № 3. С. 92–96.
[Закрыть].
Снег покрыл, точно алое знамя,
Мертвецов, отошедших в зарю.
Им не надо ни счастья, ни веры [491]491
См. реплику Веры в «Аполлоне Безобразове»: «Нам не нужно ни счастья, ни веры. Мы горим в преисподнем огне. День последний, холодный и серый, скоро встанет в разбитом окне» (73).
[Закрыть],
Им милей абсолютная ночь,
Кто достиг ледяного барьера,
Хочет только года превозмочь.
(Вспомнить-воскреснуть // Сочинения, 88).
В «Дневнике» спуск под землю может легко трансформироваться в спуск под воду: