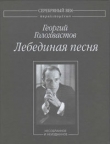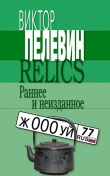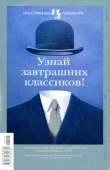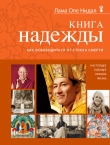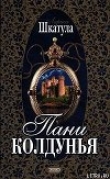Текст книги "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе"
Автор книги: Дмитрий Токарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
Неизданное– Поплавский Б. Неизданное: Дневники. Статьи. Стихи. Письма / Сост. и комм. А. Богословского и Е. Менегальдо. М.: Христианское издательство, 1996.
Сочинения– Поплавский Б. Сочинения / Сост. С. А. Ивановой. СПб.: Летний сад; Журнал «Нева», 1999.
Благодарю М. А. Васильеву (Дом русского зарубежья) за возможность ознакомиться с гранками первого и третьего томов собрания сочинений Б. Поплавского, подготовленных к изданию А. Н. Богословским и Е. Менегальдо. Поскольку справочный аппарат книги был подготовлен до выхода в свет этих томов, ссылки на это издание приводятся в случае, если цитируемый текст не был опубликован ранее.
* * *
Некоторые положения настоящего исследования были опубликованы в следующих изданиях:
«Демон возможности»: Борис Поплавский и Поль Валери // Русские писатели в Париже. Взгляд на французскую литературу, 1920–1940 / Сост. Ж.-Ф. Жаккар, А. Морар, Ж. Тассис. М.: Русский путь, 2007. С. 366–382.
Метафизика образа: Борис Поплавский и Джорджо Де Кирико // Sub specie tolerantiae. Сб. статей в память В. А. Туниманова / Отв. ред. А. Г. Гродецкая. СПб.: Наука, 2008. С. 494–503.
Ars poetica Бориса Поплавского (Поплавский и Малларме) // Литература русского зарубежья (1920–1940 гг.): взгляд из XX века / Под ред. Л. А. Иезуитовой, С. Д. Титаренко. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 210–218.
«Около Истории»: Борис Поплавский в идеологическом и политическом контексте // Авангард и идеология: русские примеры / Отв. ред. К. Ичин. Белград: Изд-во Белградского ун-та, 2009. С. 208–221.
Нарративные приемы репрезентации визуального в романе Б. Поплавского «Аполлон Безобразов» (глава «Бал») // Русская литература. 2009. № 4. С. 20–38.
Об одном способе репрезентации визуального у Бориса Поплавского (стихотворение «Рембрандт») // На рубеже двух столетий. Сб. в честь 60-летия А. В. Лаврова / Сост. В. Багно, Д. Малмстад, М. Маликова. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 729–733.
Озарения Безобразова (Б. Поплавский и А. Рембо) // Русская литература. 2010. № 2. С. 15–31.
Птица-тройка и парижское такси: «гоголевский текст» в романе «Аполлон Безобразов» Б. Поплавского // Гоголь и XX век. Материалы межд. конф. Будапешт, 5–7 ноября 2009 г. / Отв. ред. Ж. Хетени. Будапешт: Dolce Filologia, 2010. С. 231–239.
Борис Поплавский // Литература русского зарубежья (1920–1940 гг.) / Отв. ред. Л. А. Иезуитова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010 (в печати).
«Вечная тема Рембо-Люцифера» в текстах Б. Поплавского // От Бунина до Пастернака: русская литература в зарубежном восприятии (к юбилеям присуждения Нобелевской премии русским писателям). М.: Русский путь, 2010 (в печати).
Борис Поплавский и «братья-сюрреалисты» // Судьбы литературы Серебряного века и русского зарубежья. Сборник статей и материалов: (Памяти Л. А. Иезуитовой: К 80-летию со дня рождения). СПб.: Петрополис, 2010. С. 364–376.
Все статьи были дополнены и существенно переработаны.
* * *
Работа над книгой была поддержана грантами президента РФ (МД-637.2008.6), Американского совета научных сообществ (American Council of Learned Societies), Дома наук о человеке (Maison des Sciences de l′Homme; Париж).
Глава 1
«ПОЭЗИЯ – ТЕМНОЕ ДЕЛО»:
Особенности поэтической эволюции Поплавского
Анализ стихов и романов Поплавского с очевидностью демонстрирует, что наследие поэта должно изучаться в широком контексте французской и, шире, европейской культуры XIX и XX веков. И это неудивительно: с 1921 по 1935 год, год трагической гибели, Поплавский, прекрасно владеющий французским языком, живет в Париже, который продолжает оставаться мировой культурной столицей, предлагающей молодому литератору на выбор различные стратегии художественного поведения и техники письма: от углубленной саморефлексии Марселя Пруста и герметичного неоклассицизма Поля Валери до заумного метода дадаистов и автоматического письма сюрреалистов [67]67
См. об этом: Livak L.How It Was Done in Paris. Russian Émigré Literature and French Modernism. Madison: University of Wisconsin press, 2003. Компаративистская методология Ливака, оперирующего достаточно абстрактными моделями, стала объектом критики в: Мельников Н.Как это делается в Торонто. Рец. на: Livak L. How it was done in Paris // Вопросы литературы. Июль-август 2004. С. 313–323.
[Закрыть].
В то же время определяющее влияние на становление его поэтического языка оказали и русские поэты Серебряного века, прежде всего Александр Блок. И это тоже совершенно понятно, ведь формирование Бориса Поплавского как творческой личности происходило в России в типичной интеллигентской семье, члены которой не только сами обладали художественными дарованиями (родители поэта закончили Московскую консерваторию), но и отдали дань модным в то время доктринам: в первую очередь, это касается матери, чей интерес к антропософии передался и сыну, активно штудировавшему в юности труды Рудольфа Штайнера. Тексты русских символистов, разделявших этот интерес, составляли тот необходимый для русского интеллигента начала века творческий «багаж», которым, без сомнения, обладали и родители Бориса.
О своем детстве поэт сохранил негативные воспоминания. Обостренное чувство одиночества, переживания из-за отсутствия душевной близости с родителями (особенно с матерью) и, как следствие, раннее взросление, выразившееся, в частности, в приобретении некоторых вредных привычек (еще юношей он попробовал кокаин) – таковы особенности становления личности Поплавского, зафиксированные как в дневниках, так и в романах.
В одном из внутренних монологов Олега, перебивающих наррацию от третьего лица, уроки музыки, которыми родители «мучили» ребенка, расцениваются как элемент общей стратегии принуждения и насилия, чьей жертвой с самого детства является герой романа:
Вся моя жизнь – это вечное не пустили, то родители, то большевики, а теперь эти эмигрантские безграмотные дегенераты… Рыхлый снег под ногами, февральская каша, и прощай занятия… <…> Одни уроки музыки вспомнить… и подоконники… В Ростове среди вшивых раненых только что открыл Ницше… На Дону в лодке между небом и землей, не могучи, не умеючи еще читать… каждая фраза как выстрел в упор, тысяча мыслей, и нет сил продолжать, лучше грести, плавать, ходить целыми днями грязными ногами по луне… <…> Военная музыка на бульваре… просят сохранять спокойствие, городу ничего не грозит… значит, еще одна эвакуация, и это все где-то во сне, в скучном неуклюжем бреду, а наяву – Ницше, Шопенгауэр, и пьяный от света и своей обреченности узкоплечий сверхчеловек в хрустальных горах… ( Домой с небес, 310–312).
Чтение текстов Ницше и Шопенгауэра подается в цитате – опять же в духе эстетики fin de siècle – как обретение откровения, как выход из сферы бреда и тьмы в область ослепительного света, а оксюморон «узкоплечий сверхчеловек» актуализирует важную для Поплавского тему парадоксального союза силы и бессилия, языческой жестокости и христианского самоотвержения. Устами Олега здесь говорит сам Поплавский, круг чтения которого формируется в годы скитаний по югу России (1918–1920) и во время пребывания в Константинополе (первом с марта по лето 1919 г. и втором с декабря 1920 по май 1921 г.), куда он попадает вместе с отцом в потоке русских беженцев. Наряду с трудами Ницше и Шопенгауэра в этот круг входят теософские произведения Елены Блаватской [68]68
Мать поэта приходилась дальней родственницей Блаватской, интерес к личности и творчеству которой Борис не утратил и в дальнейшем. См., например, дневниковую запись от 3 марта 1933 года: «Страшная, таинственная фотография Блаватской на столе. <…> Не смею даже смотреть в глаза этой картинке». И на следующий день: «После стольких молитв на полу, искоченев, слез [нрзб.] с истертым лицом и мокрыми волосами, заснул, отказавшись от гимнастики, положив под подушку „образ“ Блаватской, который я поставил на стол, садясь писать, но так его боялся, что убрал прочь и опять поставил до муки» ( Поплавский Б.Собр. соч.: В 3 т. / Сост., коммент., подгот. текста А. Н. Богословского, Е. Менегальдо. М.: Книжница; Русский путь; Согласие, 2009. Т. 3. С. 366).
[Закрыть], писания индийского религиозного мыслителя Кришнамурти [69]69
Уже в Париже 14 июля 1921 года Поплавского приняли в члены Теософского общества. См. запись в дневнике: «Дико зарыдал, затрясся от счастья, что они, Анни Безант и Кришнамурти, здесь. Меня повели в сад, успокоили, приняли в члены, написали членский билет. Пел русский хор, чудно он говорил, долго. Перевели. Опять пели. Пошел, пожал ему руку. Он посмотрел в глаза. Сидел на улице и плакал» ( Неизданное, 132).
[Закрыть], мистические тексты Якоба Бёме. В парижские годы Поплавский многие часы проводит в общедоступной библиотеке Святой Женевьевы, изучая философию Шеллинга, Гегеля, Канта, Бергсона, наследие католических святых (Святого Иоанна Креста, Святой Терезы Авильской, Святой Терезы Лизьеской), еврейскую Каббалу. О совсем не любительском знании философской и мистико-религиозной проблематики говорят не только страницы дневниковых записей, на которых Поплавский дает интерпретацию прочитанного, но и художественные произведения, насыщенные отсылками к алхимическим и каббалистическим трактатам.
Интересно, что мистические мотивы стали доминировать в творчестве Поплавского лишь во второй половине 1920-х годов, в то время, когда он отошел от авангарда. В первые же годы своего творческого пути начинающий поэт находился под влиянием Маяковского, Крученых и других представителей русского футуризма. Так, единственное его опубликованное в России стихотворение («Герберту Уэллсу») было напечатано в Симферополе в 1920 году в альманахе «Радио», на обложке которого стояли также имена Маяковского, Вадима Баяна (Владимира Ивановича Сидорова) и Марии Калмыковой. При этом первая часть стихотворения, в которой доминируют футуристические темы и образы, связанные с мессианскими устремлениями авангарда («– Мы будем швыряться веками картонными! / Мы Бога отыщем в рефлектор идей! / По тучам проложим дороги понтонные / И к Солнцу свезем на моторе людей!»), контрастирует со второй частью, где появляются апокалиптические мотивы, позднее активно эксплуатировавшиеся Поплавским («Я сегодня думал о прошедшем. / И казалось, что нет исхода, / Что становится Бог сумасшедшим / С каждым аэробусом и теплоходом» ( Сочинения, 256)).
«Поэма о Революции. Кубосимволистический солнцень» (Константинополь, апрель 1919 – Новороссийск, январь 1920 г.) демонстрирует, что даже в своих футуристических стихах Поплавский довольно скептически относится к идеям Революции и прямо говорит о том насилии, на котором строится новая власть:
Другие стихи вообще пронизаны откровенным неприятием большевизма: «В истеричном году расстреляли царя, / Расстрелял истеричный бездарный актер» (Ода на смерть Государя Императора [71]71
С посвящением «Его Императорскому Величеству».
[Закрыть]// Неизданное, 358).
В некоторых стихах, написанных в Харькове и Симферополе, декадентский мотив сознательного саморазрушения, спровоцированного употреблением наркотиков [72]72
Возможно, что Поплавский пристрастился к наркотикам под влиянием своей сестры Натальи, умершей в Шанхае во второй половине 1920-х от крупозного воспаления легких, осложненного, по-видимому, употреблением опиума.
[Закрыть], усиливается ностальгической тоской по утраченному прошлому:
Это было в Москве, где большие соборы,
Где в подвалах курильни гашиша и опия,
Где в виденьях моих мне кривили улыбки жестокие
Стоэтажных домов декадентские норы
(Вот прошло, навсегда я уехал на юг…
( Сочинения, 250-251).
На мой взгляд, ранние опыты Поплавского представляют интерес лишь с точки зрения его поэтической эволюции. В это время он и не может писать иначе: динамика исторических событий определяет стихотворную форму, и наиболее подходящей ему естественным образом представляется форма футуристическая. При этом он старается показать, что наслышан и о других поэтических школах; отсюда появляются странные гибриды типа «кубосимволистический» или «опыт кубоимажионистической росписи футуристического штандарта» (таков подзаголовок текста «Истерика истерик» (Ростов, октябрь 1919 – Новороссийск, январь 1920 г.)). Вряд ли можно согласиться с Кириллом Захаровым, назвавшим «Истерику истерик» «уникальным опытом автоматического письма, футуристической и „кубоимажионистической“ ницшеаны. А в подкладке затаился страдалец-Исидор» [73]73
Захаров К.Нагое безобразие стихов // Поплавский Б. Орфей в аду. С. 11.
[Закрыть]. О том, что термин «автоматическое письмо» является в данном (и во многих других) случае не вполне релевантным, речь пойдет ниже; что же касается Исидора Дюкасса, графа де Лотреамона, то в этом тексте он – вместе с Рембо, Маяковским и Шершеневичем – не «затаился», а «выглядывает» чуть ли не из каждой фразы. «Истерика истерик» настолько несамостоятельна как в содержательном, так и в формальном плане, что смахивает на пародию. Но вряд ли Поплавский кого-то пародирует: он, вероятно, хочет написать сверхавангардистский текст и утрачивает чувство меры: так, механическое нанизывание слов, находящихся друг с другом в атрибутивных отношениях, порождает эффект перегруженности образа, что ведет к его полной семантической девальвации. Вот характерный пример:
А на промозглой ряби серо-защитной мути усталой вечности каторжной чуткости маховых будней лопающиеся пузыри сумасшедшего грохота с вздувшимися жилами проводов на клепаных лбах дневного ожога громовых памятей в клетчатых лохмотьях гремящей гари фабричных корпусов [74]74
Поплавский Б.Орфей в аду. С. 33.
[Закрыть].
Какой контраст с суггестивными музыкальными образами «Дневника Аполлона Безобразова», в котором Поплавский, ориентируясь в целом на «Озарения» Рембо, уже не пытается превзойти своего «бога» [75]75
«Богом» называет Рембо Олег, главный герой романа «Домой с небес».
[Закрыть]!
В мае 1921 года Борис вместе с отцом переезжает из Константинополя в Париж; в это время Поплавский пока еще не определился в своем творческом выборе: ему кажется, что из него выйдет художник, и он посещает занятия в художественной академии «Гранд Шомьер» на Монпарнасе, пишет супрематические композиции, знакомится с русскими художниками Константином Терешковичем и Михаилом Ларионовым.
В ноябре того же года в Париж прибывает Илья Зданевич, дружба с которым в течение нескольких лет будет определять вектор художественного развития Поплавского. Зданевич, в конце 1910-х годов основавший в Тифлисе (вместе с Алексеем Крученых и Игорем Терентьевым) радикальную группу «41°», попытается продолжить в Париже свою деятельность пропагандиста заумной поэзии, участвуя в заседаниях авангардного объединения «Палата поэтов», появившегося в августе 1921 года [76]76
Детальную реконструкцию культурной жизни русской эмиграции в Париже можно найти в работе Леонида Ливака «Героические времена молодой зарубежной поэзии. Литературный авангард русского Парижа (1920–1926)» (Диаспора. СПб.: Феникс; Париж: Athenaem, 2005. Т. 7. С. 131–242).
[Закрыть]. Заседания «Палаты поэтов» проходили по воскресеньям в кафе «Хамелеон» на углу бульвара Монпарнас и улицы Кампань Премьер. В этом же кафе несколькими месяцами раньше обосновались члены творческого объединения «Гатарапак» [77]77
Как указывает Л. Ливак, «скорее всего, слово „Гатарапак“ было придумано по модели „Дада“, т. е. с педагогической целью – поразить аудиторию отсутствием немедленно очевидного смысла, что, в свою очередь, вело к множеству интерпретаций и активному участию аудитории в освоении эстетики движения» (Там же. С. 145).
[Закрыть], собрания которого в основном посещали русские художники-эмигранты (Терешкович, Хаим Сутин, Осип Цадкин, Сергей Шаршун), а также некоторые литераторы (Александр Гингер, Довид Кнут, Сергей Ромов и др.). Поплавский посетил «Гатарапак» впервые спустя месяц после своего приезда в Париж – 23 июня 1921 года.
Если «Гатарапак» возник на волне успеха русских художников, участвовавших в «Выставке 47-ми» в кафе «Парнас» (апрель 1921 года), то создание «Палаты поэтов» стало фактом чисто литературным. Возглавлял «Палату поэтов» Валентин Парнах, в число «отцов-основателей» входили также Шаршун, Гингер, Марк Талов, Георгий Евангулов. Одной из важнейших задач «Палаты» была популяризация среди русских изгнанников авангардного искусства: наряду с произведениями в духе русского футуризма и Маяковского на заседаниях объединения звучали и дадаистские тексты. Дадаистский вечер, на котором присутствовал и Поплавский, был организован Шаршуном 21 декабря 1921 года и назывался «Дада лир кан» [78]78
См.: Сануйе М.Дада в Париже. М.: Ладомир, 1999. С. 277–279 (Сануйе ошибочно называет дату 21 октября).
[Закрыть]; враждебная реакция русской публики, не принявшей поэзии Андре Бретона, Филиппа Супо, Луи Арагона, Поля Элюара, самого Шаршуна, продемонстрировала, насколько велика пропасть, разделяющая молодых представителей радикального искусства и эмигрантскую «широкую» аудиторию, настроенную достаточно консервативно. Неудивительно, что в 1922 году начался массовый переезд русских авангардистов из Парижа в Берлин, где «левое» искусство, как им казалось, пустило более глубокие корни. Поплавский провел в немецкой столице несколько месяцев, познакомившись там с Андреем Белым, Виктором Шкловским и Борисом Пастернаком. «…Пастернак и Шкловский меня обнадежили», – напишет он позднее Юрию Иваску ( Неизданное, 242). В берлинском «Доме искусств» Борис встречается с Маяковским и делает его карандашный портрет. Скорее всего, именно эти встречи, а также критическое отношение Константина Терешковича к его картинам, повлияли на решение Поплавского бросить занятия живописью и «переквалифицироваться» в поэта.
В начале 1923 года Поплавский возвращается из Берлина в Париж и в апреле того же года принимает участие в организованном группой «Через» вечере поэта Бориса Божнева. Группа «Через», возглавляемая Зданевичем, Ромовым и художником Виктором Бартом, пришла на смену «Гатарапаку» и «Палате поэтов», чья деятельность фактически прекратилась. Как отмечает Л. Ливак, «через географические, культурные и языковые барьеры группа должна была донести до французов достижения русского авангарда в Париже и Москве, а также ознакомить советских авангардистов с парижским передовым искусством» [79]79
Ливак Л.Героические времена… С. 169.
[Закрыть]. Так, на вечере Божнева выступали, наряду с Поплавским, Божневым, Гингером, Владимиром Познером и другими русскими поэтами, французские дадаисты Тристан Тцара, Филипп Супо, Антонен Арто, Жорж Рибемон-Дессень. В собраниях «Через» Поплавский принимал участие и в следующем 1924 году.
Вместе с Союзом русских художников, председателем которого в 1925 году стал Зданевич, группа «Через» организует несколько благотворительных балов, среди которых «Заумный бал-маскарад» (23 февраля 1923 г.), «Банальный бал» (14 марта 1924 г.), «Бал Большой Медведицы» (8 мая 1925 г.; в этом балу участвовали некоторые советские конструктивисты, приехавшие в Париж на Международную выставку декоративного искусства), «Бал Жюля Верна» (12 апреля 1929 г.). Как полагает Р. Гейро, программа последнего мероприятия, так и не окупившего затраченных на него финансов, была написана Поплавским [80]80
Гейро Р.«Твоя дружба ко мне – одно из самых ценных явлений моей жизни…» // Поплавский Б. Покушение с негодными средствами. Неизвестные стихотворения. Письма к И. М. Зданевичу / Сост. Р. Гейро. М: Гилея; Дюссельдорф: Голубой всадник, 1997. С. 21.
[Закрыть]. Афиша написана на французском языке и напоминает не только тексты сюрреалистов, но и программу одного из последних авангардных мероприятий в Советской России – знаменитого вечера «Три левых часа» (24 января 1928 года), в рамках которого была показана пьеса Даниила Хармса «Елизавета Бам». В афише, в частности, говорилось:
оформление зала будет сделано исключительно детьми, родившимися между 1870 и 1929.у всех гостей при проверке билетов отрежут головы, эти головы им любезно вернут у выхода за небольшое вознаграждение (заведение не отвечает за возможные ошибки) [81]81
Поплавский Б.Покушение с негодными средствами. С. 23. Сохранена пунктуация оригинала. Перевод Р. Гейро. «lа salle sera décoréе exclusivement par des enfants nés entre 1870 et 1929.tous les visiteurs auront la tête coupée au contrôle, laquelle leur sera aimablement rendue à la sortie contre un remboursement dérisoire (la maison ne répond pas des objets échangés)».
[Закрыть].
Группа «Через», вставшая в споре между сюрреалистами и дадаистами на сторону последних, разделила судьбу движения Дада, фактически прекратившего свое существование после скандальной акции «Бородатое сердце» (июль 1923 г.). По словам Ливака, «для русских изгнанников главным последствием агонии Дада была потеря систематического интеллектуального и творческого общения с французскими авангардистами и их аудиторией, частично компенсировавшего их изоляцию в русском Париже» [82]82
Ливак Л.Героические времена… С. 182.
[Закрыть]. С другой стороны, переезд многих русских эмигрантов из Берлина в Париж привел к образованию новых или же к возрождению старых литературных объединений, конкуренцию с которыми группа «Через» не смогла выдержать. Так, в ноябре 1923 года начались собрания возобновленного Цеха поэтов, в которых начали принимать участие и молодые авангардисты. «Одновременно с работой Цеха, – отмечает Ливак, – стала оформляться культурная мифология эмигрантской „миссии“, придавшей новое значение творчеству в изгнании как осмысленному выбору, в котором не было места ни просоветским симпатиям, ни эстетической „левизне“» [83]83
Там же. С. 183.
[Закрыть]. Маргинализация «левых», несмотря на их активное сопротивление, была неизбежной и происходила по мере усиления позиций «правых», группировавшихся вокруг Цеха. Попытка примирить два враждебных лагеря, вылившаяся в создание в конце 1924 – начале 1925 года Союза молодых поэтов и писателей, также окончилась неудачей.
Что касается Поплавского, то его пристрастия претерпевают в это время медленную, но неуклонную эволюцию и фактически определяются кругом его общения. Как представляется, Поплавский – автор антибольшевистских стихов – даже в период интенсивного сотрудничества с авангардистами вряд ли обольщался по поводу того, что происходило в Советской России. Во всяком случае, в отличие от Зданевича, некоторое время проработавшего переводчиком в советском посольстве, или же Ромова, уехавшего в 1927 году в СССР, Поплавский никогда не пытался сблизиться с представителями советской власти, а возвращение на родину в декабре 1934 года его возлюбленной Наталии Столяровой стало для него тяжелым ударом [84]84
По воспоминаниям Столяровой, Поплавский сказал: «Когда Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум» ( Неизданное, 77). Хотя поэт допускал, как утверждает Столярова, что сам приедет в СССР и будет работать ретушером, понятно, что план этот, ввиду своей фантастичности, никогда не был бы реализован.
[Закрыть].
Отход Поплавского от «резкого», по его собственному определению, футуризма ( Неизданное, 242) начался во второй половине 1920-х годов; в письме к Зданевичу главной причиной своего размежевания с «левым» искусством он называет христианство:
Вы меня обвиняете в том, что я выхожу «на большую дорогу человеков», но смеем ли мы, смеем ли мы оставаться там на горе на хрустальной дорожке? Вот будете Вы смеяться: «еще одного христианство погубило». Да, я христианин, хотя Вам кажусь лишь подлецом, с позором покидающим «храбрый народец» [85]85
Поплавский Б.Покушение с негодными средствами. С. 94. Гейро датирует это письмо серединой 1920-х годов, а Ливак относит его к концу 1927 – началу 1928 года.
[Закрыть].
Христианское по своей природе стремление открыться другому, «сделать себя понятным», противопоставляется Поплавским «сатанинской гордости» поэта, выбирающего неизвестность, анонимность. Принадлежность к «левому» искусству, загнавшему себя в идеологическую резервацию, начинает тяготить его; ему хочется большей свободы, как творческой, так и мировоззренческой [86]86
О трудностях самоидентификации представителей младшего поколения эмиграции см.: Каспэ И.Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2005; Morard A.De deux manières de penser la Russie dans les années 30: «vieille génération» versus «jeune génération», problèmes identitaires et esthétiques de I'émigration russe à Paris // cid.ens-lsh.fr/russe/ lj_morard.htm
[Закрыть].
Характерно, что в письме к Юрию Иваску, написанному в канун 1931 года, Поплавский связывает вопрос о религиозности с извечным конфликтом стариков и молодежи:
Я знаю и давно привык к тому, – пишет он, – что религиозность вызывает покровительственное и ироническое отношение, что ее терпят только и втайне думают, что без нее было бы свободнее, как на дружеском собрании без присутствия какого-нибудь старика. Но я лично люблю говорить со стариками и думаю даже, что молодость – это ложь и суета сует… ( Неизданное, 243).
Молодость, которая для авангардистов была одним из важнейших концептов их идеологии, порицается Поплавским за ее враждебность к старшим, к предшественникам, за то, что свобода понимается молодыми как свобода от прошлого.
То, что интерес Поплавского к современникам начинает уравновешиваться интересом к предшественникам, к старшему поколению, становится очевидным уже во второй половине 1920-х годов: эта тенденция проявляется как в сфере идей (в своих взглядах на Европу и Россию, на судьбы культуры и религии Поплавский сближается с такими сформировавшимися еще до революции философами, как Бердяев, Булгаков, Мережковский, а из французских мыслителей – с Шарлем Пеги и Леоном Блуа), так и в сфере художественного творчества – хотя его поэтика остается в некоторых своих аспектах созвучной футуристической и сюрреалистической поэтике, Поплавский ориентируется прежде всего на тех, кто подготовил революцию поэтического языка, – на Бодлера, Рембо, Лотреамона, Малларме, а из русских символистов – на Блока и Белого [87]87
См. попытку сопоставить поэтику Белого и Поплавского в: Роман С. И.Пути воплощения религиозно-философских переживаний в поэзии Андрея Белого и Б. Ю. Поплавского. М., 2007 (АКД).
[Закрыть].
1926 и 1927 годы были для Поплавского переходным периодом: с одной стороны, он с помощью Зданевича и Ромова пытается издать два сборника ранних стихов («Граммофон на Северном полюсе» и «Дирижабль неизвестного направления»; из-за недостатка средств оба проекта не были реализованы) [88]88
В 1933–1934 годах Поплавский намечает план издания своего поэтического творчества: «Из этого документа видно, – поясняет Е. Менегальдо, – что свои юношеские стихи Поплавский печатать не собирался, „первые“ же стихи (1922–1924, Берлин – Париж) он собрал в сборник под названием „В венке из воска“. За ним следовали „Дирижабль неизвестного направления“ и „Дирижабль осатанел“, охватывавшие период „русского дадаизма“, причем в третий сборник входили все „адские стихи“» ( Поплавский Б. Собр. соч. Т. 1. С. 466). В «Собрании сочинений» Менегальдо придерживается именно этой, «поздней» последовательности поэтических сборников.
[Закрыть]; с другой, начинает писать роман «Аполлон Безобразов», который закончит только в 1932 году и в котором в полной мере найдет свое применение новая манера письма, позволяющая судить о Поплавском как об одном из наиболее интересных русских авторов XX века.
В сборник «Граммофон на Северном полюсе» Поплавский включил два полностью заумных стихотворения, однако заумные элементы присутствуют и в некоторых других текстах. Наиболее яркий заумный текст à lа Зданевич – это стихотворение «Земба», первое четверостишие которого звучит так:
Посвященное Зданевичу стихотворение «На белые перчатки мелких дней…» (1926) построено по-иному: хотя Поплавский использует в нем отдельные заумные слова («гувуза», «чаркает») и прибегает к орфографической деформации слова («закашляф»; при чтении вслух данная девиация перестает быть релевантной), стихотворение в целом основано на принципе не фонетической, а семантической деформации. Если один из основоположников зауми Алексей Крученых считал, что именно фонетический сдвиг вызывает сдвиг семантический, то Поплавский основное значение придает, пользуясь терминологией Крученых, «фактуре» смысловой и «фактуре» синтаксической, а звуковая и ритмическая «фактуры» играют второстепенную роль (за исключением чисто заумных текстов). В данной перспективе ранние опыты поэта оказываются созвучными тем поэтическим поискам, которые в это же время вели поэты-обэриуты Даниил Хармс, Александр Введенский и Николай Заболоцкий.
Интересно сравнить первые две строфы стихотворения Поплавского с таким типичным стихотворением Хармса, как «В смешную ванну падал друг…», написанном в 1927 году и посвященном Введенскому. Итак, у Поплавского:
У Хармса:
Обоим текстам присущ внутренний динамизм, который достигается за счет употребления глаголов движения (садиться, виться, танцевать, падать, плыть и т. п.), при этом Хармс отдает предпочтение простейшим синтаксическим конструкциям, что усугубляет впечатление калейдоскопичности образов, а Поплавский достигает сходного эффекта, используя сравнительные обороты и сложноподчиненные конструкции со значением места, которые вводят в высказывание дополнительные субъекты действия. Комический эффект в стихотворениях создается с помощью семантических смещений, когда предмету приписывается несвойственный ему признак или же действие (смешная ванна, мелкие дни, супы ждут, корова плывет, тень кашляет коровьим голосом и стекает как револьвер), или же благодаря абсурдности самой ситуации – револьвер падает в тарелку с огурцами и сладкими грибами, друг ходит по комнате в одном носке.
Достаточно ли этого, чтобы определить оба стихотворения как сюрреалистические? Видимо, нет, ведь все эти приемы использовались как русскими футуристами, так и французскими авангардистами (Гийом Аполлинер, Андре Сальмон, Макс Жакоб) и дадаистами. Алексей Крученых, например, написал в 1914 году: «копи богатства беги отца / его оставив в ломовиках / замок покрепче на дверях / пусть с взглядом смуглой конницы / он за тобою гонится <…>» [92]92
Поэзия русского футуризма / Сост. В. Н. Альфонсов, С. Р. Красицкий. СПб.: Академический проект, 1999. С. 229.
[Закрыть]. Годом раньше Аполлинер создал свое знаменитое стихотворение «Окна», в котором «упрощенный поэтический синтаксис» стал реализацией «совершенно новой эстетики»; стихотворение заканчивается так:
О Париж
Меж зеленым и красным все желтое медленно меркнет
Париж Ванкувер Гийер Ментенон Нью-Йорк и
Антильские острова
Окно раскрывается как апельсин
Спелый плод на дереве света [93]93
Аполлинер Г.Каллиграммы // Аполлинер Г. Эстетическая хирургия / Сост. М. Яснов. СПб., 1999. С. 100. Перевод М. Ваксмахера. «Ô Paris / Du rouge au vert tout le jaune se meurt / Paris Vancouver Hyères Maintenon New York et les Antilles / La fenêtre s'ouvre comme une orange / Le beau fruit de la lumière».
[Закрыть].
Смелый образ Аполлинера – окно как апельсин – найдет свое соответствие в поэме Маяковского «Пятый Интернационал» (1922), где «мира половина» уподобляется синемуапельсину [94]94
«Мира половина – / Кругленькая такая – / подо мной, океанами с полушария стекая. / Издали / совершенно вид апельсиний; / только тот желтый, / а этот синий» ( Маяковский В.Сочинения: В 2 т. М.: Правда, 1988. Т. 2. С. 154).
[Закрыть], и в знаменитой строчке поэта-сюрреалиста Поля Элюара «Земля вся синяя как апельсин» (1929) [95]95
«La terre est bleue comme une orange». Элюару была знакома поэма Маяковского.
[Закрыть]. Эта строка, ставшая, по выражению Т. В. Балашовой, «определенным кодом для иллюстрации сложных игр сюрреалистов с цветовой гаммой при неожиданном, „ошеломляющем“ сближении далеких красок» [96]96
Энциклопедический словарь сюрреализма / Под ред. Т. В. Балашовой и Е. Д. Гальцовой. М.: ИМЛИ РАН, 2007. С. 542.
[Закрыть], отсылает в то же время к предшествующей авангардистской практике создания неожиданных метафор и сравнений, хотя ни образ, созданный Аполлинером, ни образ, созданный Маяковским, не являются в строгом смысле этого слова сюрреалистическими.
Действительно, Аполлинер строит образ, прибегая к тропу сравнения и задействуя тем самым референциальную функцию образа: образ соотносится с некоей реальностью, которая обладает внеязыковой природой; другими словами, один из элементов сравнения помещается в положение объекта. У Маяковского же механизм порождения образа определяется не только внеязыковой действительностью (земля, видимая сверху, кажется синей из-за цвета океанов), но и потребностями рифмы: «апельсиний» – «синий». Сюрреалистам и прежде всего Андре Бретону, утверждавшему, что «самым сильным является тот образ, для которого характерна наивысшая степень произвольности и который труднее всего перевести на практический язык» [97]97
Бретон А.Манифест сюрреализма // Поэзия французского сюрреализма / Сост. М. Яснов. СПб.: Амфора, 2004. С. 380.
[Закрыть], подобные модели представлялись мало приемлемыми [98]98
Это не означает, конечно, что рифма была полностью изгнана из сюрреалистической поэзии.
[Закрыть].
Характерно, что Поплавский, в отличие от сюрреалистов, никогда не стремился «упразднить» слово «как» [99]99
См.: Шенье-Жандрон Ж.Сюрреализм. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 116–118. То, что было сказано выше о рифме, может быть отнесено и к слову «как», которое тот же Бретон называл позднее «самым завораживающим словом».
[Закрыть], и по частоте употребления сравнение является одним из наиболее распространенных тропов в его поэзии. Использует он и возможности рифмовки: так, заменив в строчке «а в синем море где ныряют рыбы» слово «рыбы» на слово «птицы» [100]100
«А в синем море где ныряют птицы / Где я плыву утопленник готов / Купался долго вечер краснолицый / Средь водорослей городских садов» ( Поплавский Б.Покушение с негодными средствами. С. 51).
Как сообщает Р. Гейро (Там же. С. 143), на машинописи стихотворения «А Еlémir Bourges» (вошло во «Флаги» под названием «Dolorosa») имеется рисунок, изображающий птицу, стоящую на рыбе, вокруг которых располагаются астрологические знаки Солнца, Венеры, Луны и Марса. Аналогичный рисунок, помещенный в овалообразную геометрическую форму, имеется в «оккультном» письме Поплавского к Илье Зданевичу, которое анализируется мною в главе «„Труднейшее из трудных“: Поплавский и Каббала».
[Закрыть]Поплавский получает неожиданный, как бы «сюрреалистический» образ [101]101
Именно как сюрреалистический трактует этот образ Леонид Ливак (см.: Livak L.The Poetics of French Surrealism in Boris Poplavskii's Poetry of 1923–1927 // Slavic and East European Journal. 2000. N 44 (2). P. 182).
[Закрыть], однако сама эта замена говорит, во-первых, о сознательной работе по выработке образа, во-вторых, определяется необходимостью зарифмовать первую и третью строчку строфы и, в-третьих, диктуется и общей семантикой текста [102]102
Жерар Женетт показал, на примерах из барочной поэзии, что «с метафорой „птица-рыба“ связана более глобальная тема – тема обратимости реального мира» (Обратимый мир // Женетт Ж. Фигуры. В 2 т. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. Т. 1. С. 64).
[Закрыть].
* * *
Из более чем 20 стихотворений сборника «Граммофон на Северном полюсе» шесть были включены Поплавским в единственный опубликованный при его жизни сборник стихов «Флаги» (Париж, 1931). Стоит отметить, что ни одно из них не было «заумным». Поплавский взял те стихотворения, которые лучше всего соответствовали эстетике «Флагов», отсылающей уже не только к авангарду, но и к французской и русской поэзии второй половины XIX – начала XX века.
Зданевич, в тенденциозности которого не приходится сомневаться, спустя много лет писал: «Издатели искромсали текст как могли, ввели старую орфографию, выбросили все, что было мятежного или заумного, дав перевес стихам, в которых сказывалось влияние новых кругов» [103]103
Зданевич И.Борис Поплавский // Поплавский Б. Покушение с негодными средствами. С. 115.
[Закрыть]. Под «новыми кругами» Зданевич подразумевает круги эмигрантские, которых «левые» авангардисты старательно избегали и куда Поплавского, обескураженного невозможностью напечатать сборники «Граммофон на Северном полюсе» и «Дирижабль неизвестного направления», ввел Георгий Адамович. Борис начинает посещать собрания «Зеленой лампы», «Кочевья» и «Франко-русской студии», становится активным автором «Чисел», «Воли России» и «Современных записок».
Сравнивая отзывы критиков, откликнувшихся на выход «Флагов», нетрудно убедиться в том, что поэтический метод Поплавского вызывал такие же разноречивые оценки, как и его личность. В целом критика была настроена доброжелательно, за исключением Владимира Набокова, посчитавшего, что Поплавский «дурной поэт, его стихи – нестерпимая смесь Северянина, Вертинского и Пастернака (худшего Пастернака), и все это еще приправлено каким-то ужасным провинциализмом, словно человек живет безвыездно в том эстонском городке, где отпечатана – и прескверно отпечатана – его книга» [104]104
Набоков В.Рец. на: Б. Поплавский. «Флаги» // Руль. 1931. 11 марта; цит. по: Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. С. 167.
[Закрыть]. Набоков, впоследствии жалевший о резкости своих суждений [105]105
В «Других берегах» Набоков «кается», что «слишком придрался к ученическим недостаткам Поплавского и недооценил его обаятельных достоинств» (Собр. соч.: В 4 т. М.: Правда, 1990. Т. 4. С. 287).
[Закрыть], уличил Поплавского в «крайне поверхностном знании русского языка», указав на явные шероховатости стиля, неправильные ударения («маг азин», «свад ебный»), манеру вставлять «между двумя конечными согласными полугласный» («корабель», «оркестер»).
Однако большинство рецензентов к «ошибкам» Поплавского отнеслись гораздо более снисходительно. Так, Михаил Цетлин писал в «Современных записках»:
Ошибки языка, неправильные ударения, такие слова, как «ленный» или «серевеющий». Протяженные многостопные размеры, порою те самые, которые любил когда-то Надсон. Образы, которые не трудно было бы перечислить (дети и ангелы, флаги и башни). Но знакомые размеры звучат своеобразно, оживленные необычным чередованием мужских и женских рифм, умелыми перебоями ритма. В бедности и приблизительности рифм соблюден тонкий такт. Своеобразно возникают, окрашиваются и сплетаются образы. И из всего этого, из этой бедной бутафории, почти что из ничего создается очень «декадентская» и очень оригинальная поэзия [106]106
Цетлин М.Рец. на: Борис Поплавский. «Флаги» // Современные записки. 1931. № 46; цит. по: Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. С. 179–180.
[Закрыть].
Главная опасность, подстерегающая Поплавского, состоит, по мнению Цетлина, в том, что в нем много «сознательной оригинальности манеры», что роднит его поэзию с «современными живописными исканиями, в которых так много творческой энергии уходит на поиски оригинальных приемов».