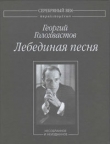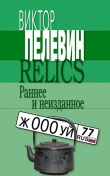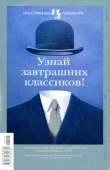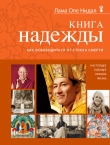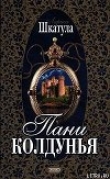Текст книги "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе"
Автор книги: Дмитрий Токарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
5.3. «Злой курильщик»:
Поплавский и Стефан Малларме
Перу Поплавского принадлежит стихотворение, заглавие которого состоит из латинского слова ars («искусство») и французского poetique («поэтическое») – «Ars poétique» [572]572
Полный текст:
He в том, чтобы шептать прекрасные стихи,Не в том, чтобы смешить друзей счастливых,Не в том, что участью считают моряки,Ни в сумрачных словах людей болтливых.Кружится снег, и в этом жизнь и смерть,Горят часы, и в этом свет и нежность,Стучат дрова, блаженство, безнадежностьИ снова дно встречает всюду жердь.Прислушайся к огню в своей печи,Он будет глухо петь, а ты молчи,О тишине над огненной дугою,О тысяче железных стен во тьме,О солнечных словах любви в тюрьме,О невозможности борьбы с самим собою.( Сочинения, 326).
[Закрыть]. Как гласит подзаголовок, оно должно было первоначально войти в сборник под названием «Орфей в аду», планировавшийся Поплавским в 1927 году; позднее поэт вернулся к нему (под текстом стоят даты 1923–1934 гг.). В этом стихотворении многое необычно: во-первых, само название. Почему поэт предпочел соединить латинское и французское слова? Возможно, потому, что тем самым хотел, с одной стороны, продемонстрировать свою ориентацию на классические образцы (например, на «Ars poética» Горация) и, с другой стороны, указать на свою близость к французской поэтической традиции. Действительно, стихотворения с названием «Art poetique» [573]573
Поплавский сам написал несколько стихотворений под таким названием: «Art poétique» (1925–1931; с посвящением Гингеру); «Ты говорила: гибель мне грозит…» (более ранний вариант назывался «Art poétique»); «Art poétique-I» (1925), «Art poétique-II» (1926), «Art poétique-III» (1926), «Открытое письмо» (1926; с авторской пометой «Art poétique»). Все они сводятся к словесным играм и не могут восприниматься в качестве поэтической декларации. Сказанное не относится лишь к первой строфе стихотворения, посвященного Гингеру: «Поэзия, ты разве развлеченье? / Ты вовлеченье, отвлеченье ты. / Бессмысленное горькое реченье, / Письмо луны средь полной темноты» (Собр. соч. Т. 1. С. 124).
[Закрыть]можно найти у тех поэтов, на которых Поплавский неоднократно ссылался в своих статьях и дневниковых записях: прежде всего у Верлена (с его знаменитой первой строчкой «De la musique avant toute chose») или же у Макса Жакоба.
Я хотел бы обратить внимание на стихотворение, которое зачастую называют «поэтическим искусством», пусть выраженным и в несколько ироничной форме. Речь идет о сонете Малларме «Toute l′âmе résumée» (1895), который заканчивается двумя знаменитыми строчками: «Le sens trop précis rature / Та vague littérature» (дословно: «слишком точный смысл стирает твою неясную литературу») [574]574
Воспроизведу сонет целиком:
Toute l'âme résuméeQuand lente nous l'expironsDans plusieurs ronds de fuméeAbolis en autres rondsAtteste quelque cigareBrûlant savamment pour peuQue la cendre se sépareDe son clair baiser de feuAinsi le choeur des romancesA la lèvre vole-t-ilExclus-en si tu commencesLe réel parce que vilLe sens trop précis ratureТа vague littérature. В переводе P. Дубровкина: «Унося в пространство душу / Вьется струйкой пряный дым / Кольца сизые разрушу / Новым облаком седым / Тлеет медленно сигара / Мудрость мастера усвой / Сквозь искусный слой нагара / Не проникнет огневой / Поцелуй так отзвук клавиш / У твоих витает губ / Лучше если ты оставишь / Точный смысл он слишком груб / Разрушительно-бездушный / Для поэзии воздушной» ( Малларме С.Сочинения в стихах и прозе / Сост. Р. Дубровкин. М.: Радуга, 1995. С. 135).
[Закрыть]. Поплавский воспроизводит эти строчки по-французски в статье «О смерти и жалости в „Числах“» ( Неизданное, 264).
Сходство между стихотворением Поплавского и сонетом Малларме прослеживается прежде всего на структурном уровне: так, текст Малларме представляет собой сонет английского типа, который завершается рифмующейся парой строк. Что касается стихотворения Поплавского, то и оно имеет графическую форму английского сонета, поскольку также состоит из трех катренов и двух смещенных в конец строк. Однако при этом две последние строки у Поплавского не рифмуются, и вообще рифмовка стихотворения постоянно варьируется: в первом катрене она перекрестная, во втором охватная, в третьем рифмуются первые две строчки, а две следующие зарифмованы охватно с двумя строчками, замыкающими сонет. Таким образом, с точки зрения рифмовки сонет Поплавского принадлежит скорее к французскому типу (с несоблюдением единого принципа рифмовки), но структурно идентифицируем как английский. Подобное несоответствие способа рифмовки структуре стихотворения является еще одним – наряду с «неправильным» названием – «сдвигом», позволяющим поэту обособиться от предшественников, сохраняя в то же время с ними аллюзивную связь.
Интересно, что в первом катрене формулируется не то, чем должно быть искусство поэзии, а то, чем оно быть не должно. Серия анафорических повторов сразу же задает всему стихотворению жесткий ритм, который поддерживается в остальных строфах за счет использования параллельных синтаксических конструкций, а также императивов. В строфе опущены оба главных члена предложения (поэтическое искусство состоит не в том…), что находит свое соответствие в первой строфе сонета Малларме, где есть только объект (toute l'âme résumée), но нет ни субъекта, ни предиката, которые отнесены во вторую строфу (atteste quelque cigare; здесь налицо еще и инверсия подлежащего и сказуемого).
Во второй строфе мотив кружащегося снега, характерный в особенности для сборника «Снежный час», гармонично сочетается с другим излюбленным мотивом Поплавского – мотивом сжигающего очистительного огня. Снег и огонь, холод и жар, смерть и жизнь, безнадежность и блаженство – все эти противоположные понятия в поэтическом мире Поплавского соединяются в своего рода металогическом единстве, которое актуализирует известный поэту алхимический принцип coniunctio oppositorum, соединения противоположностей.
Снег у Поплавского является символом чистоты [575]575
Как отметила Е. Менегальдо, «снег рождается в недоступных для человека высотах, в небе – месте совершенном, абсолютно чистом – и является символом чистоты вовсе не из-за своей белизны, – скорее наоборот: он белый потому, что является воплощением безукоризненной чистоты» (Поэтическая вселенная Бориса Поплавского. С. 131).
[Закрыть]; подобное представление о снеге, о зиме было свойственно и Малларме, который писал: «L'hiver, saison de l'art serein, l'hiver lucide» [576]576
Малларме С.Сочинения в стихах и прозе. С. 58. В переводе М. Талова: «Искусства ясного пора, зима святая» (Там же. С. 436). В оригинале: «ясная зима».
[Закрыть]. Вообще, идея белизны, белизны снега или же неисписанной страницы [577]577
См., например, стихотворение «Ветер с моря»: «Sur le vide papier que la blancheur défend»; в переводе P. Дубровкина: «белизной хранимые листы» (Там же. С. 66–67). В оригинале: «на пустой бумаге, которую обороняет (или же – другой смысл глагола défendre – запрещает) белизна».
[Закрыть]как воплощения чистоты и пустоты занимает важнейшее место в поэтической концепции Малларме, двумя ключевыми понятиями которой являются понятия транспозиции и структуры. Под транспозицией французский поэт подразумевает трансформацию материального объекта в «чистое понятие» с помощью поэтического слова: «Я говорю: цветок! и, вне забвенья, куда относит голос мой любые очертания вещей, поднимается, благовонная, силою музыки, сама идея, незнакомые доселе лепестки, но та, какой ни в одном нет букете» [578]578
Малларме С.Кризис стиха // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. С. 343. Перевод И. Стаф. «Je dis: une fleur! Et, hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tous bouquets».
[Закрыть]. Неслучайно, что Малларме определяет сущность транспозиции, используя конструкции со значением исключения, изъятия hors de («вне»), а также с неопределенными местоимениями aucun («никакой» или же «любой») и quelque chose d'autre («нечто другое»). К тому же цитата насыщена словами с семантикой забвения и отрицания: oubli («забвение»), reléguer(«убрать, отнести»), absente («отсутствующая»). Таким образом, идея цветка определяется за счет отрицания того, чем она, эта идея, не является: иными словами, идея цветка не выводима из любого конкретного цветка и может быть определена лишь апофатически с помощью вербальной транспозиции [579]579
Ср. с рассуждениями Мамардашвили о цветах у Пруста (см. предисловие).
[Закрыть].
Примечательно, что именно с помощью отрицательных конструкций Поплавский определяет в первой строфе своего сонета сущность поэтического искусства и точно так же поступает и Малларме в сонете «Toute l'âme résumée», в котором уподобляет акт поэтического творчества курению сигары: подобно тому как сигара превращается в бесплотные кольца дыма, «отменяющие» (любимый глагол Малларме – abolir, «отменять») друг друга, предметы реального мира переносятся в вербальную сферу и становятся элементами той «неясной литературы», которая существует лишь до тех пор, пока остается «неясной». Литературе угрожает отнюдь не неопределенность, не слишком размытый смысл, а, напротив, смысл слишком точный, слишком определенный. Важнейшую роль в «затемнении» смысла играет знаменитый запутанный синтаксис Малларме, для которого характерно разрушение системы личных местоимений, вытеснение глагольных конструкций номинативными, нарушение порядка слов, а в поздних текстах и отказ от пунктуации.
Стоит отметить, что Поплавский во второй строфе своего сонета также использует номинативную конструкцию («блаженство, безнадежность»), которая – в отличие от эллиптических конструкций «и в этом жизнь и смерть», «и в этом свет и нежность» – кажется менее связанной со смысловым контекстом; понятно в принципе, что фраза должна звучать так: «стучат дрова, и в этом блаженство и безнадежность», однако Поплавский затемняет смысл, соединяя в пределах одной строчки предикативную конструкцию и номинативную; при этом номинативная конструкция может и не восприниматься в качестве таковой, а казаться частью предикативной конструкции «стучат дрова, блаженство и безнадежность», где глагол во множественном числе «стучат» предстает ядерным словом, к которому относятся существительные «дрова», «блаженство», «безнадежность», равноправные грамматически, но совершенно не согласующиеся между собой семантически. Другими словами, речь идет о зевгме, которая, даже если она была допущена по недосмотру автора, создает эффект абсурдизации.
Не способствует прояснению смысла и грамматически двусмысленная последняя фраза строфы «и снова дно встречает всюду жердь».
Третий катрен обоих сонетов построен на контрасте по отношению к первым двум: эллиптические, номинативные и отрицательные конструкции уступают место императиву в форме второго лица единственного числа: у Малларме – это императив глагола exclure («исключить»), «исключи их (то есть романсы), если начинаешь»; у Поплавского – императивы глаголов «прислушаться» и «молчать».
Поющий в печи огонь, который у Поплавского становится метафорой поэтического искусства, отсылает, с одной стороны, к доктрине алхимической трансмутации, один из этапов которой назывался calcinatio, то есть обжиг, прокаливание материи. Подробно алхимические мотивы у Поплавского были проанализированы в главе «Мистика „таинственных южных морей“…». С другой стороны, мотив огня может восходить и к сонету Малларме, где трансформация сигары в кольца дыма происходит посредством «светлого поцелуя огня»; в символическом прочтении огню соответствует душа поэта или, если более точно следовать этимологии слова аше, его дыхание, anima. Поэт, подобно курильщику, превращающему реальную сигару в не обладающие материальностью кольца дыма, сначала вбирает в себя реальность и затем «выдыхает» ее в виде «неясной», эфемерной, ускользающей от интерпретации литературы. В душе поэта, в его дыхании и происходит транспозиция предметов в слова.
Образ курильщика актуализирует и еще одно важнейшее понятие поэтики Малларме – понятие структуры. В статье «Кризис стиха» поэт пишет:
Чистое творение предполагает, что говорящий исчезает поэт, словам, сшибкой неравенства своего призванным, уступая инициативу; дыхание человека, приметное в древнем лирическом вдохновении, заменяют они собой, или личностную, энтузиастическую устремленность фразы, вспыхивая отблесками друг друга, словно цепь переменчивых огоньков на ожерелье [580]580
Малларме С.Кризис стиха. С. 337–339. «L'oeuvre pure implique la disparition du poète, qui cède l'initiative aux mots, par le heurt de leur inégalité mobilisés; ils s'allument de reflets réciproques comme une virtuelle traînée de feux sur des pierreries, remplaçant la respiration perceptible en l'ancien souffle lyrique ou la direction personnelle enthousiaste de la phrase».
[Закрыть].
О том, что сонет Малларме является своего рода поэтической (с шутливыми обертонами) иллюстрацией концепции, выдвинутой в статье, говорит не только их хронологическая близость (сонет написан в 1895, а статья в окончательном виде сложилась к 1896 году), но и наличие повторяющихся образов и понятий; во французском оригинале статьи принципиальная важность для Малларме образа огня и понятия дыхания становится еще более очевидной, нежели в русском переводе, в целом вполне адекватном. Так, поэт говорит о том, что слова зажигаются (s'allument) отблесками друг друга подобно скрытой, мнимой (virtuelle) огненной (de feux) дорожке на драгоценных камнях; слова заменяют собой дыхание (respiration), различимое в древнем лирическом вдохновении (ancien souffle lyrique). Слова как бы «перехватывают» у поэта инициативу, заменяя его дыхание, и в этом смысле они напоминают кольца дыма, над которыми курильщик уже не властен. Не случайно в сонете сигара, «искусно сгорающая», и пепел, «отделяющийся от светлого поцелуя огня», выступают такими же субъектами действия, как те курильщики, которые в стихотворении обозначены с помощью местоимения «nous» (мы), употребленном в данном случае в обобщенно-личном значении.
Ролан Барт в статье «Смерть автора» отметил:
Хотя власть Автора все еще очень сильна (новая критика зачастую лишь укрепляла ее), несомненно и то, что некоторые писатели уже давно пытались ее поколебать. Во Франции первым был, вероятно, Малларме, в полной мере увидевший и предвидевший необходимость поставить сам язык на место того, кто считался его владельцем. Малларме полагает – и это совпадает с нашим нынешним представлением, – что говорит не автор, а язык как таковой; письмо есть изначально обезличенная деятельность (эту обезличенность ни в коем случае нельзя путать с выхолащивающей объективностью писателя-реалиста), позволяющая добиться того, что уже не «я», а сам язык действует, «перформирует»; суть всей поэтики Малларме в том, чтобы устранить автора, заменив его письмом <…> [581]581
Барт P.Смерть автора // Барт P. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. С. 385–386. Перевод С. Н. Зенкина.
[Закрыть].
Можно утверждать, что понятие деперсонализации, важное для понимания поэтики Поплавского, имеет немало общего именно с маллармеанским понятием безличной структуры, с одной стороны, лишенной авторского голоса, а с другой, обладающей «строгим внутренним порядком, который, казалось бы, только этим голосом и обеспечивается» [582]582
Зенкин С.Пророчество о культуре (Творчество Стефана Малларме) // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. С. 32–33.
[Закрыть]. В письме к Верлену Малларме формулирует свой поэтический идеал как книгу, в которой текст говорил бы сам собой, «без авторского голоса», но которая была бы при этом не сборником «случайных, пусть и прекрасных вдохновений», а «книгой по заранее определенному плану». «Орфическое истолкование Земли – в нем состоит единственный долг поэта, и ради этого ведет всю свою игру литература: ибо тогда сам ритм книги, живой и безличный, накладывается, вплоть до нумерации страниц, на формулы этой мечты, или Оду» [583]583
Малларме С.Письмо Полю Вердену, 16 ноября 1885 г. // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. С. 411–412. Перевод Е. Лившиц.
[Закрыть], – утверждает поэт. В сонете эта идея выражена с помощью образа курильщика, который, конечно, является субъектом акта курения, но при этом в процессе этого акта фактически утрачивает свою индивидуальность и исчезает в выдыхаемых кольцах дыма [584]584
См., например, в известном письме к Анри Казалису (14 мая 1867 г.): «… я сейчас безлик, а не Стефан, с которым ты был знаком, – я всего лишь способность Вселенной духа видеть себя и развиваться через то, что было со мной» ( Малларме С.Сочинения в стихах и прозе. С. 394. Перевод Е. Лившиц), «…je suis maintenant impersonnel et non plus Stéphane que tu as connu, – mais une aptitude qu'a l'univers spirituel à se voir et à se développer à travers ce qui fut moi».
[Закрыть]. Так и поэт, являясь инициатором акта поэтического творчества (и в этом смысле его роль не сводится к бессознательному фиксированию «случайных вдохновений»), уступает инициативу словам, их «живому и безличному» ритму. Такая уступка не означает в то же время погружения в стихию автоматического письма, поскольку слова размещаются в пространстве текста, подчиняясь некой внутренней логике, внутреннему порядку.
В последнем катрене «Ars poétique» Поплавского мотив деперсонализации автора прослеживается довольно четко: поэт должен прислушаться к песне огня в своей печи, но, чтобы услышать ее, он вынужден замолчать. Конструкция с противительным союзом «а», вставленная между предикатом и объектом во фразе «он будет петь о…», создает эффект семантической двусмысленности: на слух фраза может восприниматься как «он будет глухо петь, а ты молчи о…» (см. пунктуацию в «Собр. соч.»).
В 1921 году 18-летний Борис отмечает в дневнике: «Каждый вечер учусь молчать. Трудно» ( Неизданное, 133). Спустя восемь лет, в 1929 году, он записывает:
Если птицы не прилетают, сиди, красуясь в античной позе, между двумя молчаниями. Если птицы не прилетают, всматривайся молча в синеву. Тот, кто ни о чем не мыслит, красуется в античной позе на берегу дороги, как грязный мраморный Гермес, тот, может быть, ближе к цели, чем постигший, забывший окружающее. Фон, на котором рождаются мысли, всегда значительнее самих мыслей. Всматриваться в фон благороднее, может быть, чем присутствовать при рождении надписи ( Неизданное, 163).
Всматриваясь в фон, поэт присутствуетпри рождении надписи, которая как бы проступает сквозь этот фон. Слово есть пауза «между двумя молчаниями», оно порождается молчанием и умирает в нем. Вот как об этом говорит Малларме:
Все здесь [в книге стихов. – Д. Т.] словно зависает в воздухе, дробящиеся фрагменты чередуются, располагаются один против другого, создают, и они тоже, всеохватный ритм – поэму молчания в пробелах строк; только по-своему преломляет его каждая подвеска [585]585
Малларме С.Кризис стиха. С. 339.
[Закрыть].
Но как согласуется концепт деперсонализации с известным высказыванием Поплавского о том, что наилучший способ выражения «факта духовной жизни» – частное письмо, дневник и психоаналитическая стенограмма? Отмечая в дневниковой записи, что в настоящее время тенденция к повышению ценного в искусстве находится «в стороне искания наиболее индивидуального, наиболее личного и неповторимо субъективного миро– и духоощущения», Поплавский тем не менее указывает на то, что
художник, все глубже погружающийся в свое индивидуальное, переходит от любования единым аспектом своего духовного строя к вариации на общую мистическую музыкальную тему творения, к любованию своей эмпирической жизни, своих личных материальных приключений, своих причуд, привычек, ногтей, привкусов. Конечно, невозможно провести резкую границу между тем, что в душе есть аспект жизни вообще, метаморфоза и маска Диониса, и тем, что от случайно-эмпирического. Конечно, и в малейших манерах, в способе надевать шляпу, в форме рук, в тембре голоса отражается общая духовная музыка, создавшая человека; интеллигибельный его характер. И куда бы ни стремился человек прочь из Божества, из общего, он только детализирует общую мистическую тональность, его создавшую, в свою очередь детализацию общей тональности, создавшей все. Абсолютно индивидуального нет ничего. Абсолютно несимптоматичного, не отражающего целое духовной жизни, нет ни одного поступка, ни одной причуды ( Неизданное, 93).
Другими словами, максимальное погружение в субъективное приводит парадоксальным образом к десубъективации, к деперсонализации художника. В статье «С точки зрения князя Мышкина» Поплавский говорит о своем идеале – «мистическом интегральном нюдизме» ( Неизданное, 296), подразумевающем переход от индивидуального к общей мистической музыкальной теме.
За несколько дней до смерти Поплавский написал статью «О субстанциальности личности», в которой – об этом уже говорилось в главе «„Рукописный блуд“: дневниковый дискурс Поплавского» – пришел к выводу, что «праведность личности» заключается в имперсонализации, отрицании себя как личности ( Неизданное, 121). Закончив работу над статьей, он вписывает перед текстом две фразы; предикативная конструкция первой фразы, фиксирующая отказ от субъективности, сменяется во второй фразе чисто номинативной конструкцией, которая, как сказал бы Малларме, «словно зависает в воздухе», в том пространстве, где нет ни действия, ни субъекта: «Снял все-таки этот „субъективный“ куст со стола. Солнце, отшельничество, труд, счастье» ( Неизданное, 120).
* * *
Поплавский, по-видимому, отдавал себе отчет в том, что буквальное воплощение на практике такого отвлеченного понятия, как имперсонализация, подразумевает уже не виртуальную, а вполне реальную смерть автора. И если в стихотворении «Ars poétique» постулируемый метод десубъективации автора объявляется основой поэтического искусства, то в тексте «Волшебный фонарь» («Флаги» [586]586
По сообщению Е. Менегальдо, было включено Поплавским в планировавшийся сборник «В венке из воска» (1922–1924); см.: Поплавский Б.Собр. соч. Т. 1. С. 63–64.
[Закрыть]) поэт относится к нему гораздо менее серьезно:
Колечки дней пускает злой курильщик,
Свисает дым бессильно с потолка:
Он может быть кутила иль могильщик,
Или солдат заезжего полка.
Искусство безрассудное пленяет
Мой пленный ум, и я давай курить,
Но вдруг он в воздухе густом линяет.
И ан на кресле трубка лишь горит.
Плывет, плывет табачная страна
Под солнцем небольшого абажура.
Я счастлив без конца по временам,
По временам кряхтя себя пожурю.
Приятно строить дымовую твердь.
Бесславное завоеванье это.
Весна плывет, весна сползает в лето,
Жизнь пятится неосторожно в смерть.
( Сочинения, 31)
Очевидно, что все основные мотивы и образы сонета Малларме «Toute l′âme résumée» становятся в «Волшебном фонаре» объектом откровенного пародирования: вместо медитирующего поэта, выдыхающего свою душу вместе с колечками дыма, Поплавский выводит на сцену «злого курильщика», похожего на кутилу, могильщика или солдата. Кольца дыма уже не «отменяют» друг друга, а бессильно свисают с потолка, а искусство (курения) получает эпитет «безрассудное». Когда поэт сам закуривает, это приводит к неприятным последствиям: «он» «линяет» в воздухе, причем не совсем понятно, о ком идет речь, то ли о злом курильщике, то ли о поэте. Вывод, которым заканчивается стихотворение, неутешителен: движение вперед на самом деле оказывается движением вспять, жизнь – медленным сползанием в смерть, а результат – такой же иллюзией, как и «дымовые твердыни» «табачной страны».
Известный знаток творчества Малларме Поль Бенишу считает, что в сонете «Toute l'âme résumée» не проводится прямой аналогии между актом курения и поэтической продукцией. Я думаю, это не так, да и сам Бенишу оговаривается, что можно представить себе, что Малларме, говоря о сигаре, «постоянно думал о поэзии: и не только о реальности, отстраняемой подобно пеплу, но и о поэте – который должен не спеша и поэтапно написать стихотворение, уподобляясь курильщику, выпускающему изо рта колечки дыма, – а также о мыслях и словах, мимолетных, как эти колечки» [587]587
Bénichou P.Selon Mallarmé. Paris: Gallimard, 1995. P. 476.
[Закрыть]. Поплавский отлично уловил, что в сонете Малларме шутливый тон не только не затушевывает, а наоборот, оттеняет вполне серьезный смысл, без сомнения заложенный в тексте. Об умении пользоваться контрастами Поплавский говорил с Николаем Татищевым: «Постоянно писать на самой высокой ноте своего голоса неправильно, в этом какое-то неумение пользоваться контрастами. Пророк, который перед началом представления станцует качучу или чарльстон, несомненно, острее поразит, чем тот, который прямо начнет со слез» ( Неизданное, 227). Если в «Волшебном фонаре» поэт «отплясывает» стихотворный чарльстон, предваряющий представление, то в тексте «Не в том, чтобы…» его голос звучит уже на «самой высокой ноте».
5.4. «Птица-тройка» и парижское такси:
«гоголевский текст» в романе «Аполлон Безобразов»
В главе «Нарративные приемы репрезентации визуального в романе „Аполлон Безобразов“» будет проведен подробный анализ нарративной структуры главы «Бал». Сейчас укажу лишь, что эта глава представляет собой комбинацию разнородных повествовательных сегментов: в первом сегменте излагаются события до начала бала; второй включает в себя описание бала; завершение бала и поездка его участников в Булонский лес составляют содержание третьего сегмента. «Гоголевский» фрагмент, о котором пойдет речь, относится как раз к третьему сегменту, замыкающему рассказ о бале. В плане структурной организации текста функция этого фрагмента, таким образом, схожа с функцией знаменитого рассуждения о дороге и о русской тройке, завершающего первый том «Мертвых душ».
У Гоголя Чичиков пускается в дорогу спустя некоторое время после бала у губернатора, к тому же само размышление о дороге и о России как бы разрывается на две части за счет аналептического нарушения хронологии: анонимный нарратор рассказывает о том, что предшествовало появлению героя в городе NN. У Поплавского описание поездки на такси непосредственно примыкает к описанию бала, и в целом пассаж, в котором идет речь об «эмигрантской кибитке» и о России, представляет собой семантически и синтаксически цельный фрагмент. «Гоголевский» фрагмент главы «Бал» начинается так:
Лети, кибитка удалая! [588]588
Первая фраза, впрочем, отсылает к пятой главе «Евгения Онегина», а именно к строке «Летит кибитка удалая».
[Закрыть]Шофер поет на облучке, уж летней свежестью блистает пустой бульвар, сходя к реке. Ах, лети, лети, шоферская конница, рано на рассвете, когда так ярки и чисты улицы, когда сердце так молодо и весело, хотя и на самой границе тоски и изнеможения ( Аполлон Безобразов, 78).
Отмечу, что Поплавский исключил из данного пассажа фразу: «Несись в своей железной бричке по улицам, герой степной, настанет день на перекличке, ты будешь вновь в стране родной» ( Неизданное, 386). Выбор лексики недвусмысленно указывает на источник заимствования: бричка Чичикова не нуждается в представлении; что же касается кибитки и ее облучка, то она упоминается в рассуждении о быстрой езде, в котором доминирует глагол «лететь» (он используется 6 раз):
Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль <…> [589]589
Гоголь Н. В.Мертвые души // Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 6 т. М.: Художественная литература, 1959. Т. 5. С. 259. В дальнейшем ссылки на это издание даются прямо в тексте с указанием страницы.
[Закрыть].
Существенно, что императив глагола «лететь» девять раз используется Поплавским на протяжении «гоголевского» фрагмента.
«Степной» герой также отсылает к гоголевскому тексту: Русь предстает в нем как «открыто-пустынное», «ровное» пространство с горизонтом «без конца» – это поле, равнина или же степь, горизонтальная линия которых лишь изредка разрывается вертикалью города, леса или одинокого пешехода. «Чудное», «прекрасное» «далеко», откуда повествователь видит Русь, напротив, характеризуется обилием вертикальных линий, на которые постоянно «натыкается» взгляд:
Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные дерева и плющи, вросшие в домы, в шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющами и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора (230–231).
Михаил Вайскопф, удачно назвавший этот пейзаж «отрицательным ландшафтом», поясняет, что пустынность русского пространства Гоголь «отождествил с неоформленностью, неявностью платоновского царства идей, куда возносится в „Федре“ колесница души. Вместе с тем отрицательный показ бесконечной страны есть, одновременно, патриотический вариант негативной теологии, в которой искомый абсолют дается только через снятие любой локализующей данности – в данном случае, через отвержение европейского рельефа с его языческими соблазнами» [590]590
Вайскопф М.Отрицательный ландшафт: имперская мифология в «Мертвых душах» // Вайскопф М. Птица-тройка и колесница души. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 228.
[Закрыть].
У Поплавского асфальтированные парижские улицы чем-то напоминают российские дороги, но не дорожным покрытием, а какой-то пустотой, открытостью пространства: такси несется по «асфальтовой степи парижской России», по «пустым» бульварам (у Гоголя бричка едет по «пустынным» улицам), по полям, пусть и Елисейским. Такую скорость, какую развивает и гоголевская бричка, и «железный конь» Поплавского, нельзя себе представить на европейском пространстве, где слишком много вертикалей; она возможна только на пространстве плоском, где ничто не препятствует движению. Даже когда в «Аполлоне Безобразове» говорится о том, что «эмигрантская кибитка» «на всем скаку, далеко занося задние колеса, с адским шумом» взлетает «на подъемы и со свистом на одних тормозах стремительно» несется под гору, каждый, кто знаком с топографией Парижа, поймет, что это сказано, выражаясь языком Манилова, «для красоты слога»: машина направляется из квартала Сен-Жермен через Елисейские поля в сторону Булонского леса, и вряд ли перепад высоты в 20 метров, характерный для этого участка, можно посчитать «горой».
Вообще, Поплавский выбирает тот же вектор движения, что и у Гоголя: прочь из города, причем выезд из замкнутого городского пространства предстает у Гоголя как преодоление статики, а у Поплавского как преодоление бесконечного кругового движения:
Все равно верна татуированная шоферская рука, и у самой бабушки, поцеловавшей асфальт, или даже у самой заблудшей кошки мигом свернутся колеса-самокаты до зеленого дерева, то-то звону и треску будет, до больничной койки, до басурманского кладбища у окружной дороги, где, день и ночь пыхтя, паровозики несутся по железному кругу, не покидая его, как и душенька твоя, самокатка, по вонючему Парижу тысячи и тысячи верст ( Аполлон Безобразов, 80).
У Гоголя динамизм движения по дороге подчеркивается за счет перечисления различных объектов, которые встречаются путешественнику и которые он обгоняет, оставляя позади:
Вот уже и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город назади, и ничего нет, и опять в дороге. И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях, плетущийся за восемьсот верст, городишки, выстроенные живьем, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту сторону и по другую, помещичьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью: такой-то артиллерийской батареи, зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям, затянутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече колокольный звон, вороны как мухи и горизонт без конца… (230).
Интересно, что скорость движения убыстряется по мере продвижения вперед: поначалу сама семантика используемых лексем предполагает движение небыстрое, с препятствиями (версты пишут, пешеход плетется, шлагбаумы перекрывают дорогу, мосты находятся в процессе починки, помещики передвигаются на рыдванах), но затем эти объекты как бы смазываются и уступают место «зеленым, желтым и свежеразрытым полосам», «мелькающим по степям», вдали слышна песня, но уже не видно, кто ее поет, вороны похожи на мух, от церкви остается лишь «пропадающий далече колокольный звон», а от леса – только «сосновые верхушки в тумане». Но и это не предел: тройка летит так быстро, что предметы «не успевают означиться»: «…что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет, – только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны» (259). Сама тройка буквально дематериализуется, превращаясь во «что-то», что «пылит и сверлит воздух».
Поплавский, хотя и не пускается в такие длинные перечисления, также акцентирует внимание на том, что «железный конь» летит так быстро, что становится невозможно различить номера, а значит, идентифицировать его:
И вот уже набережные миновали, вырвались на бульвары, мгновенным зигзагом миновали грузовик с морковью, пронеслись колесом по тротуару мимо растерявшегося велосипедиста и под адский свист, не останавливаясь, а заставив их в ужасе шарахнуться прочь, и пусть не гонятся на своих велосипедах, все равно на такой скорости не различить номера, да и что номер лихачу-пропойце, пропади совсем номера ( Аполлон Безобразов, 80).
Вообще, описывая движение «железной тройки», Поплавский тщательно воспроизводит гоголевскую лексику: так, процитированный выше фрагмент отсылает к следующей гоголевской фразе: «…кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход – и вон она понеслась, понеслась, понеслась!..» (259). Колесо тройки становится у Поплавского колесом машины, а испугавшийся пешеход «осовременивается» и превращается в ужаснувшегося велосипедиста, который мог бы задаться тем же вопросом, что и «пораженный божьим чудом созерцатель»: «не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение?» (260). «Мгновенным зигзагом» проносится такси, как молния, сброшенная небом на парижскую улицу. Если эта улица и не «дымится дымом», как русская дорога, – «Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади» (259), – дым все же является одним из непременным атрибутов движения: «Эх, лети, железный горбунок [591]591
Аллюзия на конька-горбунка из сказки Петра Ершова.
[Закрыть], воистину дым из ноздрей на резиновых подковках, напившись бензину, маслом подмазанный, ветром подбитый, солнцем палимый» ( Аполлон Безобразов, 80). Да и сами седоки «окутаны» «черным дымом похмелья», встающим в «прекрасном розовом небе».
Не остается Поплавский равнодушным и к тем характеристикам движения, которые связаны с его слуховым восприятием. Гоголь дважды использует глагол «греметь»: гремят мосты; «гремит и становится ветром разорванный в куски воздух» (260). Поплавский передает звук, производимый при движении, другими, но близкими по семантике глаголами: «А пока визжите, подшипники, стучите, стекла, на булыжной мостовой, а ты, гудок, жестяная собачка, лай на здоровье на кого ни попадя» ( Аполлон Безобразов, 80). Впрочем, стоит отметить, что глаголы «визжать» и «лаять» имеют негативные коннотации: если у Гоголя тройка внушает священный ужас, она «мчится вся вдохновенная богом», ее колокольчик заливается «чудным звоном», то у Поплавского парижское такси является скорее инфернальным снарядом, движимым нечистой силой и несущимся с «адским» шумом и свистом. При том что оба средства передвижения символизируют вроде бы одну и ту же страну – Россию, очевидно, что железная тройка Поплавского, хотя и сделана по гоголевским лекалам, оказывается носителем несколько иных смыслов.