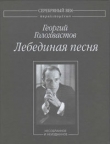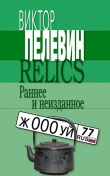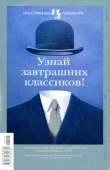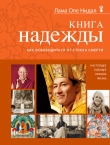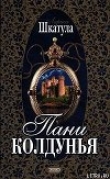Текст книги "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе"
Автор книги: Дмитрий Токарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
Если перед поэтом стоит задача построить сложный образ, то ему надо обладать музыкальностью, то есть восприимчивостью к духу музыки, и «странной способностью отбора и извлечения», которую я хотел бы уподобить эйдетической одаренности. Написание стихотворения состоит не в последовательной фиксации сменяющих друг друга образов, а в извлечении их из некоего резервуара памяти, которая восстанавливает их во всей их чувственной конкретности. При этом каждый образ сохраняет свою автономность от другого образа, то есть связь между ними является синтагматической. Я думаю, что Ходасевич, говоря о движении от образа к образу, имел в виду, вероятно, то, что один образ порождается другим. Учитывая направленность поэтики Поплавского на фиксацию отдельных зрительных феноменов, с этим трудно согласиться. Действительно, зачастую четверостишие у Поплавского построено по принципу простого перечисления предметов и приписываемых им действий; сложные синтаксические конструкции, которые в результате образуются, составлены по сути дела из простых двусоставных или эллиптических предложений, которые легко «разъединяются» и могут функционировать как самостоятельные коммуникативные единицы. Например, в стихотворении «Целый день в холодном, грязном саване…» («Флаги»):
Потные гребцы кричали с лодок,
Шумно люди хлопали с мостов,
И в порыве ветра на свободу
Флаги рвались с окон и шестов.
Ветер в воду уносил журналы,
В синеву с бульвара пыль летела.
И воздушный шарик у вокзала
Вился в ветках липы облетелой.
(Сочинения, 98).
Каждый субъект действия существует как бы независимо от другого субъекта, сами же действия не сходятся в одну общую точку, а развиваются параллельно. Синтаксическая конструкция здесь служит реализации метафизической установки поэта на преодоление времени и на выход в вечность, который возможен лишь в каждом, не связанном с другими мгновении. «Чтобы избежать застоя и гнили, – говорит Поплавский, – надо каждое мгновенье умирать и воскресать по-новому. Мешать воздвижению новых зданий на прежних фундаментах…» ( Неизданное, 233). Поэт находит сходную интенцию в современной живописи, в частности, у Модильяни:
…прежние художники все время, года и года целые, писали и переписывали тот же холст, ту же картину, а современные – ту же картину долгие годы продолжают на разных холстах, все время начиная ее сначала (Около живописи // Неизданное, 331).
Если «прежние» мастера все время переписывали один и тот же образ, неизбежно трансформируя его (образ тем самым начинал перетекать в другой), то современные художники, зафиксировав образ, тут же начинают фиксировать его заново, как бы забывая о том, что он уже существует. В результате каждый следующий образ является не «следствием» предыдущего, а автономным визуальным феноменом [39]39
Я не согласен с К. Аликиным, который определяет поэтическое письмо Поплавского как «кинематографическое». По мнению исследователя, образы у Поплавского «наплывают» друг на друга подобно кадрам киноленты, создавая иллюзию непрерывного движения (см.: Аликин К. Ю.Принцип «кинематографического письма» в поэтике Бориса Поплавского // Молодая филология / Под ред. В. И. Тюпы. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1998. Вып. 2. С. 174–180). Мне кажется, что иллюзию движения создают совсем не визуальные образы, а та их музыкальная основа, которая воспринимается сознанием как чистая длительность. Иными словами, образы у Поплавского не «перетекают» один в другой; при этом, однако, не происходит эффекта дробления, поскольку связи между ними устанавливаются за счет трансцендирующего эти образы состояния музыкального «содержательного волнения». Это состояние обладает теми же характеристиками, что и «непространственная фигура», о которой говорит Г. Марсель, определяя суть музыкального опыта: «По мере того как я перехожу от ноты к ноте, образуется некая целостность, создается форма, и она, разумеется, не сводится к организованной последовательности состояний, подобно тому как объект не смешивается с чувственными изменениями, которые его присутствие вызывает в субъекте. Природа этой формы такова, что она дана не только в длительности, но способна каким-то образом трансцендировать тот чисто временной модус, благодаря которому она обнаруживается» (Бергсонизм и музыка. С. 213). Если уж сравнивать поэзию Поплавского с кинематографом, то нужно сказать, что ощущение движения возникает не от «наплыва» визуальных образов, а от той музыки, которой воображаемый тапер сопровождает немой фильм, как бы нанизывая эти образы на музыкальную «нить». На уровне высказывания музыка находит свое воплощение в глаголах и глагольных формах.
Аликин трактует известные строчки Поплавского – «И казалось, в воздухе, в печали, / Поминутно поезд отходил» («Черная мадонна») – следующим образом: «Это как бы в один и тот же момент, мгновение отходят бесконечные множества одного и того же поезда» (С. 178). Принимая во внимание сентенцию о современных художниках, я хотел бы предложить свою интерпретацию: один и тот же поезд отходит в не связанныедруг с другом разныемгновения, и поэтому, будучи по сути тем же самым поездом, воспринимается наблюдателем как множество разных поездов.
[Закрыть].
Определенную аналогию данному методу можно обнаружить в метафизической живописи Джорджо Де Кирико, картины которого представляют собой сложные конструкции, образованные путем соположения гетерогенных элементов. Каждый такой элемент легко узнаваем, так как, в отличие от дезинтегрированного кубистского объекта, сохраняет свою пластическую идентичность, но в то же время помещен в необычный контекст; сама странность контекста заставляет предположить, что объект был помещен туда не случайно, а для того, чтобы обозначить дистанцию между его визуальным образом и его сокрытой от глаз идеей.
Увидев однажды на Монпарнасе чем-то поразившую его воображение дымовую трубу, Де Кирико делает этот объект (и его эквивалент – башню) одним из своих излюбленных, вновь и вновь фиксируя образ трубы на своих полотнах. Этот образ имеет, скорее всего, эйдетическую природу, поскольку художник «видит» его так же четко, как он видел его в реальности. Холст здесь играет роль однородного экрана, на который проецируется эйдетический образ. Труба в акте эйдетического вспоминания предстает как чистая форма без значения, как «пустой» знак, лишенный и означающего (его материальный субстрат, доступный чувственному восприятию, оказывается иллюзией), и означаемого. Можно было бы сказать, пользуясь терминологией Шеллинга, что труба является «голым» образом, но добавить при этом, что этот образ лишен бытия или, точнее, обладает лишь иллюзорным бытием.
Воплощенный в картине эйдетический образ становится полноценным иконическим знаком; но на этом художник не останавливается: картина конструируется им путем соположения этого образа (трубы) с другими, гетерогенными ему образами (например, замком в Ферраре, как на картине «Тревожащие музы»). В результате изображение на картине начинает восприниматься как единый «сложный» образ, как «большая конструкция», каждый элемент которой автономен по отношению к другим элементам, но обретает значение лишь в качестве составной части единого «сверхзнака». Для Де Кирико проблема образа была проблемой метафизической; метафизическая живопись шла, по словам Е. Таракановой, «путем обновления всей образной системы не через изобретение новых форм, а через поиск нового угла зрения, позволяющего увидеть знакомые объекты в необычном качестве, вне контекста их обыденного существования» [40]40
Тараканова Е.Метафизика и мифология Джорджо де Кирико // Кирико Дж. де. Гебдомерос. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 152.
[Закрыть]. «Не может быть хорошего искусства без хорошей метафизики» [41]41
Цит. по: Вишневский А.Перехваченные письма. С. 155.
[Закрыть], – записывает Поплавский в мае 1929 года. В главе «Метафизика образа: Поплавский и Джорджо Де Кирико»показывается, на примере стихотворения «Римское утро», что способ отбора и соположения образов, демонстрируемый Поплавским, может быть соотнесен с методом Де Кирико.
* * *
Выше я приводил фразу Поплавского о том, что искусство рождается из разговора музыки с живописью. В свое определение поэтического творчества Поплавский добавляет еще один элемент – философию: «Поэзия создается из музыки, философии и живописи. То есть от соединения ритма, символа и образа» ( Неизданное, 161). Нетрудно разглядеть в этой дефиниции влияние философии искусства Шеллинга. Во-первых, Поплавский, вслед за философом-романтиком и вопреки Платону, считает поэзию искусством высшего порядка; он мог бы подписаться под словами Шеллинга, что она есть «созидательница идей» и «источник» всякого искусства [42]42
При этом Поплавский сочувственно комментирует позицию Платона, призывавшего изгнать поэтов из государства: «Видишь ли, – обращается он к Татищеву, – Платон был прав, когда хотел изгнать всех поэтов из своей республики, сейчас этого не понимают или считают блажью философа. Что, на первый взгляд, опасного в том, что кто-то умеет выражать себя в песнях? И сам Платон считал, что красота и добро – это одно и то же. Но дело в том, что красота и поэзия – это вещи разные. Я ничего не говорю против отвлеченной, холодной античной красоты, в архитектуре, допустим. Но в стихах мы не можем не вскрывать, против своей воли, внутренний ужас нашего подсознания, всю эту борьбу, разочарования, колебания между огнем и холодом, то, что у других так запрятано, что они и не подозревают ни о чем, – разве что в ночных кошмарах, но кто их помнит при свете солнца? Мы же выпускаем этих демонов гулять на свободе, встречаться с себе подобными, будить их в чужих душах, разлагать… Мы, лирические поэты, поэты субъективного, всегда останемся несозвучными эпохе, и люди правильно делают, когда загоняют нас в подполье или доводят до дуэлей или до самоубийства. И чем лучше стихи, тем они опаснее. Яд, отрава, никакой пользы строительству жизни. Ну, у меня горе, очень жаль, но какое право я имею заражать им всех и каждого? Вагон мчится, пассажиры заснули, вдруг врывается нахал и начинает всех будить, нести свою померещившуюся ему околесину, скажем, о том, что через три минуты поезд полетит под откос. Ну и следует заткнуть ему глотку или выбросить на рельсы» ( Неизданное, 233).
Впрочем, теоретически Платон рассматривал лирику как подлинную поэзию, поскольку она является не подражанием внешним объектам, а излиянием души поэта; см.: Лосев А. Ф.История античной эстетики. Высокая классика. С. 101.
[Закрыть]. Сравнивая живопись и поэзию, Шеллинг пишет:
Всякое искусство есть непосредственное подобие абсолютного продуцирования или абсолютного самоутверждения; только изобразительное искусство не позволяет этому творчеству быть явленнымв качестве чего-то идеального, но посредством чего-то другого и, следовательно, в качестве чего-то реального. Напротив, поэзия, будучи по существу тем же самым, что и изобразительное искусство, дает этому абсолютному познавательному акту проявиться непосредственно как познавательному акту и есть поэтому более высокая потенция изобразительного искусства, поскольку оно еще сохраняет в самом отображении природу и характер идеального, сущности, общего. То, посредством чего изобразительное искусство выражает свои идеи, есть нечто само по себе конкретное; то, посредством чего словесное искусство выражает свои идеи, есть нечто само по себе общее, т. е. язык. Поэтому поэзии по преимуществу даровано имя поэзии, т. е. созидания, ибо ее творения явлены не как бытие, но как продуцирование. Вот почему поэзию можно рассматривать как сущность всякого искусства, приблизительно так же, как в душе можно усмотреть сущность тела [43]43
Шеллинг Ф. В.Философия искусства. С. 337.
[Закрыть].
Во-вторых, Поплавский делает особый акцент на ритме, который, согласно Шеллингу, представляет музыкальный элемент в музыке [44]44
Модуляция представляет элемент живописный и мелодия – пластический.
[Закрыть]:
В-третьих, философия трактуется им как наука символическая, что свидетельствует о внимательном чтении «Философии искусства», где арифметика называется аллегоричной, геометрия схематизирующей и философия символичной. Цветан Тодоров поясняет, что для символа в понимании Шеллинга характерна «нетранзитивность символизирующего», то есть символ не только значит, но и существует. При подобном подходе «экстенсионал понятия символ совпадает с экстенсионалом понятия искусство или, по крайней мере, с сущностью искусства» [46]46
Тодоров Ц.Теории символа. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 242–243.
[Закрыть]; первым же материалом и необходимым условием всякого искусства является, по Шеллингу, мифология [47]47
Шеллинг Ф. В.Философия искусства. С. 105.
[Закрыть]. Вот как Шеллинг формулирует «требование абсолютного художественного изображения»:
…изображение под знаком полной неразличимости, т. е. именно такое, чтобы общее всецело былоособенным, а особенное в свою очередь всецело былообщим, а не только обозначало его. Это требование поэтически выполняется в мифологии. Ведь каждый ее образ должен быть понят как то, чт оон есть, и лишь благодаря этому он берется как то, что он обозначает. Значение здесь совпадает с самим бытием, оно переходит в предмет, составляет с ним единство. Как только мы заставляем эти существа нечто обозначать, они уже сами по себе перестаютбыть. Однако реальность составляет у них одно с идеальностью, и потому если они не мыслятся как действительные, то разрушается и их идея, понятие о них. Их величайшую прелесть составляет именно то, что, хотя они просто сутьбезотносительно к чему бы то ни было, абсолютные в себе самих, все же сквозь них в то же время неизменно просвечивает значение. Нас, безусловно, не удовлетворяет голое бытие, лишенное значения, примером чего может служить голый образ, но в такой же мере нас не удовлетворяет голое значение; мы желаем, чтобы предмет абсолютного художественного изображения был столь же конкретным и подобным лишь себе, как образ, и все же столь же обобщенным и осмысленным, как понятие. В связи с этим немецкий язык прекрасно передает слово «символ» выражением «осмысленный образ» (Sinnbild) [48]48
Там же. С. 110–111. Опираясь на Шеллинга, А. Ф. Лосев постулирует: «В символе – все „равно“, с чего начинать; и в нем нельзя узреть ни „идеи“ без „образа“, ни „образа“ без „идеи“. Символ есть самостоятельная действительность. Хотя это и есть встреча двух планов бытия, но они даны в полной, абсолютной неразличимости, так что уже нельзя указать, где „идея“ и где „вещь“. Это, конечно, не значит, что в символе никак не различаются между собою „образ“ и „идея“.Они обязательно различаются, так как иначе символ не был бы выражением. Однако они различаются так, что видна и точка их абсолютного отождествления, видна сфера их отождествления» (Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Политическая литература, 1991. С. 48).
[Закрыть].
Шеллинг не мыслит искусства без мифологии, и если художник не хочет использовать уже имеющиеся мифы, то он сам создает свою мифологию. Создав целую мифологию эмигрантского «парижского подземелья» [49]49
Поплавский Б.Аполлон Безобразов // Поплавский Б. Домой с небес: романы / Сост. Л. Аллен. СПб: Logos; Дюссельдорф: Голубой всадник, 1993. С. 69. В дальнейшем ссылки на данное издание даются прямо в тексте с указанием названия и страницы.
[Закрыть]и поместив в ее центр такую символическую фигуру, как Аполлон Безобразов, Поплавский реализовал на практике установку философа. При этом «чужие» мифы находили в этой мифологии свое место: впечатляющим примером адаптации мифа о путешествии к Южному полюсу можно назвать отвергнутый впоследствии вариант финала «Аполлона Безобразова», анализируемый в главе «Мистика „таинственных южных морей“: „следы“ Артюра Рембо и Эдгара По в первом варианте финала романа „Аполлон Безобразов“».
Важно, что символ для Поплавского, как и для Шеллинга, характеризуется семантической неисчерпаемостью: его невозможно понять до конца. Здесь Шеллинг близок к тому пониманию символа, которое было свойственно Гете и Карлу Филиппу Морицу. Воспользуюсь комментарием А. В. Михайлова, который указал, что для последних символ есть
такой знак, значение которого не условлено заранее; оно, с одной стороны, интуитивно усматривается и очевидно, а с другой, никогда не постигается до конца и обладает неисчерпаемостью; далее, символ есть целое, образ, который сам по себе совершенен и целостен; символ есть знак, который не может быть воспроизведен никак иначе (т. е. он непереводим с помощью других знаковых систем) [50]50
См.: Шеллинг Ф. В.Философия искусства. С. 469.
[Закрыть].
Неудивительно, что в процитированном выше рассуждении о «сложном образе» Поплавский подчеркивает его загадочность: «сложный образ» кажется составленнымиз автономных визуальных образов, значение которых не совпадаетс их бытием. Можно сказать и так: материальный субстрат этих образов отсылает к их идее, но ею не является. В то же время в акте эйдетического вспоминания сам этот субстрат переводится в сферу иллюзорного, где его может наблюдать лишь художник-эйдетик; вновь он становится (обще)доступным для органов чувств лишь тогда, когда фиксируется на картине или в тексте. Однако теперь картина или текст представляют собой уже не набор образов, но «большую конструкцию», которая манифестирует себя в качестве нечленимого знака или же, иначе выражаясь, «осмысленного образа», символа [51]51
Ср. с выдвинутым Йеншем понятием «осмысленной композиции», суть которого Выготский излагает следующим образом: «…при образовании нового образа из ряда прежних происходит выбор черт не по частоте их повторения, а по значению. Отбираются из двух образов такие черты, которые вместе дают возможность новой осмысленной образной конструкции. Так, например, испытуемому, который видит эйдетический образ таксы, на том же экране показывают световое изображение осла. Испытуемый видит охотничью собаку» ( Выготский Л.Эйдетика. С. 199).
[Закрыть]. Понятый таким образом символ является типичным гештальтом, чьи гештальткачества не выводятся из свойств его частей. Хочу еще раз подчеркнуть, что, по представлению Поплавского, образы Незнакомки, остряков, реки, девушки в перьях и т. п. становятся символом только тогда, когда «сцепляются» в единое целое, приводимое в движение духом музыки. Точно так же и Аполлон Безобразов является символом лишь в той мере, в какой он представляет собой «сложный» синтетический образ, в котором «ни общее не обозначает особенного, ни особенное не обозначает общего, но где и то и другое абсолютно едины» [52]52
Шеллинг Ф. В.Философия искусства. С. 106.
[Закрыть]. Я думаю, что Поплавский мог бы легко повторить вслед за Шеллингом, что
Задача поэта не в том, чтобы транслировать читателю некое знание, поскольку он сам не до конца понимает, о чем идет речь в стихотворении, а в том, чтобы передать ему то «ценное» ощущение, то «содержательное волнение», которое само по себе есть форма сверхчувственного познания:
С соединением психических фактур воссоединяется ощущение, их собравшее, – резюмирует Поплавский, – причем читатель, воспринимая их, также ничего не понимает, но сопереживает с автором. Шедевр такой конструкции есть вполне энигматическая картина Медного Всадника. Наводнение, медная лошадь, стук копыт. И все это абсолютно неизвестно почему, что, собственно, хотел сказать всем этим Пушкин, ломали себе голову горе-критики XIX века, то ли петровский режим и социальная несправедливость скачет, – конечно, нет, «Медный всадник» есть мистический опыт, ну, скажем, обще: опыт совершенного рока, что ли, но что, собственно, хотел Пушкин сказать о роке, – неизвестно, и вместе с тем мы постигли что-то через «Медного всадника», ужаснулись чему-то вместе с поэтом, и все же
Стало ясно, кто спешит
И на пустом седле смеется ( Неизданное, 101–102).
Хотя сам Поплавский не использует здесь термин «символ», я убежден, что речь идет именно о символическом, причем понятом совершенно по-особому: если тот же Шеллинг считает символами такие «односоставные» образы, как образы св. Цецилии и св. Марии Магдалины, Поплавский подчеркивает, что символическим значением обладает прежде всего образ «сложносоставный». Так, символика Медного всадника «конструируется» путем соположения «простых», чувственно постигаемых образов наводнения, медной лошади, стука копыт.
Любопытную параллель такому пониманию символа можно найти в философии чинарей, которые активно пользовались понятием «иероглиф» и даже намеревались составить словарь иероглифов [54]54
См. об этом подробнее: Токарев Д. В.Словарь как выражение алогичного восприятия мира // Превратности выбора. Антологии и словари в практике сюрреализма и авангарда. Сюрреализм и авангард в антологиях и словарях. М.: РИО МГК, 2004. С. 88–98.
[Закрыть]. Иероглиф понимался чинарями не как графема, репрезентирующая некий объект, но как элемент, имеющий двойственную природу: с одной стороны, он обладает материальностью (физической, биологической, физиологической, психофизиологической), с другой – трансцендирует ограничения, накладываемые ею, и предстает в качестве связующего звена между миром чувственным и миром сверхчувственным. Особенно важна для чинарей первая часть этого слова – иерос, «священное», – ибо она непосредственно отражает вертикальность алогических отношений «человеческое – божественное». Такая же устремленность вверх характерна и для поэзии, которая по определению является искусством иератическим. Кстати, такая постановка вопроса понравилась бы Шеллингу, который исходил из убеждения, что «непосредственная первопричина всякого искусства есть Бог» [55]55
И далее философ развивает свою мысль, восходящую к платоновскому учению об идеях: «Ведь Бог через свое абсолютное тождество есть источник всякого взаимопроникновения реального и идеального, в котором коренится всякое искусство. Или: Бог есть источник идей. Только в Боге пребывают изначальные идеи. Искусство же есть изображение первообразов; итак, Бог есть непосредственная первопричина, конечная возможность всякого искусства, он сам источник всякой красоты» (Философия искусства. С. 86).
[Закрыть].
Яков Друскин, который применил термин «иероглиф» для анализа произведений Александра Введенского, считал, что «иероглиф можно понимать как обращенную ко мне непрямую или косвенную речь нематериального, то есть духовного или сверхчувственного, через материальное или чувственное» [56]56
Друскин Я.Звезда бессмыслицы // «…Сборище друзей, оставленных судьбою». «Чинари» в текстах, документах и исследованиях. В 2 тт. / Под ред. В. Н. Сажина. М., 1998. Т. 1. С. 551.
[Закрыть]. Поскольку духовное сопротивляется логическому познанию, «несобственное» значение иероглифа с трудом поддается точному определению и может быть выражено лишь в виде метафоры или, зачастую, в виде антиномии, противоречия, объединения несовместимых понятий. Интересно, что иероглиф Друскин трактует точно так, как Шеллинг трактует символ, а символ в понимании Друскина совпадает скорее с шеллингианским определением аллегории. Друскин говорит: если символ – это знак, указывающийна что-то другое, то иероглиф – это «знак, как то, что он есть, есть другое» [57]57
«…Сборище друзей, оставленных судьбою». С. 1043.
[Закрыть]. Другими словами, иероглиф, являясь самим собой, сам естьв то же время и что-то другое [58]58
Ср. у Мамардашвили: «Иероглиф есть изображение, не отсылающее – как слово отсылает к какому-то референту вне самого себя, а само же являющееся и своим смыслом. Такими иероглифами, или эквивалентами смысла, материальными эквивалентами смысла для древнего человека были, скажем, звезды на небе, ведь по звездам читали душу, и Пруст, кстати, все время вспоминает эту древнюю тему <…>» (Психологическая топология пути. С. 388).
[Закрыть].
Чинари различали универсальные иероглифы (огонь, вода, листопад, свеча) и иероглифы «персональные», которые как раз характеризуются «сложносоставностью» образов, имеющей такое значение для Поплавского. Так, начальная сцена «Мертвых душ» – въезд Чичикова в город, – по мнению Липавского, тоже иероглиф и эксплицирует он множество смыслов, среди которых «начало пути» и «судьба России» (от брички Чичикова к «птице-тройке»). Или, например, чеховский иероглиф «пристань – дама – собачка». Очевидным образом, «энигматическая картина Медного всадника» также представляет собой иероглиф.
Иероглифической фигурой называет Поплавский Аполлона Безобразова, хотя это наименование, конечно, никак не связано с чинарями ( Аполлон Безобразов, 46). С таким же успехом можно назвать Безобразова и фигурой символической. Как-то Аполлон поместил в газете следующее объявление:
Никогда ничему не учась, читаю лекции и даю частные уроки по теории всех искусств и по всем наукам. Исправляю и уничтожаю характеры, связываю с жизнью и развязываю страдающих от нее. Упрощаю все гнетущие загадки и создаю новые, совершенно неразрешимые для гордящихся своими силами. Создаю ощущения: приближения к смерти, тяжелой болезни, серьезной опасности, смертной тоски. Создаю и переделываю миросозерцания, а также окрашиваю цветы в невиданные оттенки, сращиваю несовместимые их виды и культивирую болезни цветов, создающие восхитительно уродливые их породы. Идеализирую и ниспровергаю все… ( Аполлон Безобразов, 127).
Такое объявление мог дать только приверженец философии как науки символической, которая, как указывает Шеллинг, есть «основание всего и объемлет собой все; свои построения она распространяет на все потенции и предметы знания; лишь через нее можно достичь Высшего» [59]59
Шеллинг Ф. В.Философия искусства. С. 62.
[Закрыть]. Искусство в целом также символично, но виды искусства могут «конструироваться», по Шеллингу, в соответствии с тем, какой способ изображения в них превалирует. Так, музыка есть искусство аллегоризирующее, живопись схематична и пластика символична. Пластическими искусствами философ считает архитектуру и скульптуру, в них происходит синтез музыки и живописи. Вот как Шеллинг описывает соотношение реального и идеального в музыке, живописи и пластике:
Самоочевидно, что искусство, поскольку оно реально, следовательно, поскольку оно облекает бесконечное в конечное, также и является как реальное, тогда как в обратном отношении к этому превращению искусство проявляется еще как более или менее идеальное. Так, в музыке облечение идеального в реальное явлено еще только как акт, как происшествие, но не как бытие и представляет собой лишь относительное тождество. В живописи идеальное уже сосредоточилось в известных контурах и форме, но еще без того, чтобы проявиться в качестве чего-то реального; живопись дает лишь предварительный набросок реального. Наконец, в пластике бесконечное целиком превращается в конечное, жизнь переходит в смерть, дух – в материю; но именно потому, и только потому, что произведение пластического искусства всецело и абсолютно реально, оно в свою очередь абсолютно идеально [60]60
Там же. С. 335.
[Закрыть].
Безобразов, к слову, чрезвычайно пластичен, как с точки зрения его мускульной силы, так и с точки зрения скульптурности, статуарности его тела:
У Аполлона Безобразова были неширокие, но совершенно прямо поставленные плечи греческих юношей и необыкновенно узкие бока, придававшие его фигуре вид египетского барельефа или американского матроса. Он был довольно хороший легкий атлет, и все его тело было как бы выточенным из желтоватого апельсинового дерева, хотя он вовсе не имел вида сильного человека ( Аполлон Безобразов, 29).
Пластичность Безобразова, напоминающего мифологические фигуры на квазиакадемических полотнах Де Кирико, свидетельствует о том, что эта фигура гораздо органичнее смотрится в неоклассицистическом контексте, нежели в зыбкой сюрреалистической атмосфере. В целом распространенное мнение о том, что Поплавский многим обязан сюрреализму, кажется мне слишком прямолинейным и оспаривается в первой главе книги. Пока же укажу на принципиальную несовместимость того идеалистического понимания музыки, которое присуще Поплавскому, и сюрреалистского акцентирования материального звукового субстрата. Известно, что отцы-основатели сюрреализма пренебрежительно относились к музыке, сводя ее до уровня звукового сопровождения видеоряда [61]61
См. об этом: Тараканова Е.Сюрреалистическая музыка // Сюрреализм и авангард. М.: ГИТИС, 1999. С. 159–167.
[Закрыть]. У Поплавского музыка, наоборот, имеет ценность лишь постольку, поскольку обладает нематериальным духом. Когда Безобразов, не умеющий играть на рояле, бесконечно долго берет «ахроматические» аккорды, он пытается тем самым преодолеть соблазн мелодичности и уловить алогичный дух музыки [62]62
Я совершенно не могу согласиться с О. Латышко, трактующей игру Безобразова на рояле как борьбу с высшим музыкальным началом, которая обнаруживает «несостоятельность дьявольской природы» (см.: Латышко О. В.Модель мира в романе Б. Ю. Поплавского «Аполлон Безобразов» (АКД). М., 1998. С. 18).
[Закрыть]:
Потом рояль как будто останавливается на одной ноте, и двадцать минут звучит только она одна. Наконец, когда мы к ней настолько уже привыкли, что почти уже ее не слышим, – перемежаясь с нею через определенные интервалы, ей начинает отвечать другая, высокая стеклянная нота. Теперь кажется, что рояль настраивают. Однообразные отзвуки навевают оцепенение. Но вот к системе двух нот прибавляется третья, все три они долго перекликаются, как стражи различных кругов преисподней. Затем начинаются гаммы. Гаммы звучат иногда до рассвета, и вдруг опять я просыпаюсь от новой визжащей, лающей, мелодической какофонии (Аполлон Безобразов, 122).
Шеллинг, приступая к философскому «конструированию» музыки, вводит понятие «звона» (Klang) и предлагает отличать его от звучания (Schall) и звука (Laut). Если звук есть звучание, которое прерывается, то звон воспринимается как непрерывное звучание.
Но высшее различие между обоими состоит в том, – утверждает Шеллинг, – что простое звучание, или звук, не позволяет отчетливо распознать единство в многообразии; и этого как раз достигает звон, который, следовательно, есть звучание, соединенное с целокупностью. Именно мы слышим в звоне не один только простой тон, но целое множество тонов, как бы окутанных им и в него внедренных, и притом так, что преобладают созвучные тона, тогда как в звучании или звуке – диссонирующие. Опытное ухо даже различает их и слышит помимо унисона или основного тона также еще и его октаву, октаву квинты и т. д. Множественность, соединенная с единством в сцеплении, как таковом, становится, таким образом, в звоне живой самоутверждающейся множественностью [63]63
Шеллинг Ф. В.Философия искусства. С. 193–194.
[Закрыть].
Мне кажется, что Безобразов так напряженно вслушивается в длящуюся ноту для того, чтобы различить в тоне, который остальными слушателями воспринимается как простой и нечленимый, множество других, созвучных тонов. Когда же Аполлон, в припадке «звуковой жестокости», начинает «озвучивать» эти слышимые лишь им тона, звон превращается в последовательность какофонических, диссонирующих звуков.
Характерно, что звон является одним из базовых концептов стихотворения «(Рембрандт)», которое анализируется мною в главе «Отсутствующая фигура: Рембрандт в стихотворении „(Рембрандт)“» [64]64
Я заключаю название в скобки для того, чтобы показать его условность; с другой стороны, мне кажется важным сохранить имя художника в качестве названия, пусть и фиктивного. См. обсуждение этого вопроса в соответствующей главе.
[Закрыть]. Стихотворение завершается так: «И со дна вселенной тихо льется / Звон первоначальной вечной боли». Звон здесь выступает той формой звучания, которая изначально присуща миру, рождающемуся из пустоты вселенной. Помимо того что Поплавский «вписывает» понятие звона, возможно заимствованное им у Шеллинга, в гностический контекст, он использует его в искусной игре с различными формами репрезентации «сложного» образа: образ может восприниматься как экфрасис, но затем, вследствие трудно уловимого «соскальзывания» визуального в вербальное и наоборот, оказывается только симуляцией экфрасиса.
Выше я связал двусмысленный статус образа у Поплавского – образ, с одной стороны, дается как чрезвычайно насыщенный, но с другой, является не продуктом непосредственного чувственного восприятия, а проекцией памяти, – с теорией и практикой эйдетического вспоминания. В стихотворении «(Рембрандт)», в сущности, фиксируется не образ, запечатленный на картине, а как бы эйдетический образ этого образа. Сама же картина как бы вытесняется из области реального в область иллюзорного и фиктивного. Нечто похожее происходит с книгами и картинами, с которыми имеет дело Аполлон Безобразов: восприятие наблюдателя направлено не на них как на данные в ощущениях объекты, а на их эйдетические образы. Напомню, что Безобразов (как и господин Тэст Поля Валери) любит жечь материальные носители письменной культуры:
На самом деле он просто любил жечь книги, особенно старинные, в дорогих кожаных переплетах, долго сопротивлявшиеся огню. Это было у него родом жертвоприношения, во время которого он любил читать отдельные слова на полусгоревших, освещенных безумным светом страницах. Он вообще любил все жечь: письма, записки и дневники. Это называлось у него бороться с привидениями. В известное мне время он вообще уже ничего не читал и у него даже не было письменных принадлежностей, хотя, несомненно, был какой-то период в его жизни, когда он очень много читал ( Аполлон Безобразов, 128–129).
Сам Поплавский для «борьбы с привидениями» берет на вооружение другие методы: он не сжигает записки и дневники, но постоянно перечитывает и переписывает их. О различных формах «переработки» своего дневникового дискурса и, в частности, о метадискурсивных пассажах в записях Поплавского идет речь в главе «„Рукописный блуд“: дневниковый дискурс Поплавского».
Что касается Безобразова, то свои сочинения он записывает на пыли зеркала:
Действительно, на пыли зеркала пальцем были написаны какие-то странные слова, лишенные смысла, а также грубо нарисованы несколько треугольников и пентаграмм…
– Вот на это я потратил более месяца.
Я приблизился и прочел то самое слово, которое он столько времени подряд повторял вслух ( Аполлон Безобразов, 129).
По-видимому, все, что сочинил Аполлон, сводится к одному «сложному» слову, составленному, подобно «сложному образу», из гетерогенных элементов: в данном случае из десемантизированных слов и геометрических фигур [65]65
Для Платона математико-геометрическое познание – дианойя – есть ступень на пути к познанию идей – ноэзису. Шопенгауэр, наследие которого было хорошо знакомо Поплавскому, недвусмысленно уподобляет музыку геометрическим фигурам и числам; процитирую, вслед за Ницше («Рождение трагедии»), следующий пассаж из «Мира как воли и представления»: «…музыка, рассматриваемая как выражение мира, представляет собой в высшей степени всеобщий язык, который даже ко всеобщности понятий относится почти так, как они – к отдельным вещам. Но ее всеобщность – вовсе не пустая всеобщность абстракции, у нее совершенно другой характер, и она связана с полной и ясной определенностью. В этом отношении она подобна геометрическим фигурам и числам, которые в качестве всеобщих форм всех возможных объектов опыта применимы ко всем a priori, тем не менее не абстрактны, но наглядны и всегда определенны. Все возможные стремления, волнения и проявления воли, все сокровенные движения человека, которые разум объединяет в широкое отрицательное понятие „чувства“, – все это поддается выражению в бесконечном множестве возможных мелодий, но выражается всегда во всеобщности одной только формы, без содержания, непременно в себе, а не в явлении, – как бы сокровенная его душа, без тела. <…> Ибо музыка, как уже сказано, отличается от всех других искусств тем, что она не отображает явлений, или, правильнее говоря, адекватной объектности воли, но непосредственно отображает саму волю и, таким образом, для всего физического в мире показывает метафизическое, для всех явлений – вещь в себе. Поэтому мир можно назвать как воплощенной музыкой, так и воплощенной волей <…>» ( Шопенгауэр А.Собр. соч. М.: Московский клуб, 1992. Т. 1. С. 259. Перевод Ю. Айхенвальда).
[Закрыть]. Важно, что это «слово» включает в себя как вербальные (которые можно прочитать), так и визуальные (которые можно только увидеть) компоненты, то есть перестает быть собственно словом и становится неким гибридным знаком. Хотя рассказчику удается «прочесть» его, очевидно, что воспринимает он его не только глазами, но и умозрительно, фиксируя не только нарисованную фигуру, но и ее умозрительную идею. При этом «читает» он его как бы «про себя», и читатель остается в полном неведении по поводу смысла этого слова. В главе «„Труднейшее из трудных“: Поплавский и Каббала»я высказываю предположение, что это слово является не чем иным, как каббалистическим тетраграмматоном, репрезентирующим тайное имя Бога. Сейчас же меня интересует тот факт, что оно написано на пыли зеркала, то есть наблюдатель, приблизившийся к покрытому пылью зеркалу, может видеть свое отражение только там, где на пыль нанесены знаки. Естественно, он может видеть отражение лишь частей своего тела, но не всего тела. В главе, посвященной Поплавскому и Валери, этот феномен распадения тела наблюдателя на составные части разбирается подробно.
Затем Безобразов показывает гостям то, что он называет своей картинной галереей: в этом помещении нет ни одной картины и только на задней стене висят репродукции картин Леонардо да Винчи, Клода Лоррена, Постава Моро, Де Кирико и Пикассо. Рассказчик продолжает свою политику умолчания и не дает не только экфрастического описания этих полотен, но и их названий. Можно попытаться объяснить подобное «воздержание от описания» в платоновском духе: поскольку искусство, по Платону, создает копии третьей степени, описание произведения искусства еще больше увеличивает дистанцию, существующую между идеей объекта и его образом. Но мне кажется, что дело здесь немного в другом: перед стеной с картинами стоит покрытый пылью стул, а это значит, что Безобразов давно уже не созерцал эти полотна. По сути, он и не нуждается в визуальном контакте с ними, поскольку в любой момент может вызвать их эйдетический образ, хранящийся в его памяти. Если посетители его галереи локализуют эти полотна на конкретном месте стены, то Безобразов может «спроецировать» запечатленные на них образы на любое пространство, способное выполнять функцию экрана. Возможно, что те стены галереи, которые посетителям кажутся пустыми, Безобразову представляются заполненными визуальными образами, которые он воспринимает так, как если бы они были перед его глазами. В целом отсутствующие полотна выступают в качестве «минус-знаков», то есть, как говорит Лотман, рассуждая об отсутствующих портретах в галерее героев 1812 года в Эрмитаже, «присутствуют своим отсутствием, выполняя функцию „значимого нуля“» [66]66
Лотман Ю. М.Портрет // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб.: Искусство – СПБ, 1998. С. 506. О связи мысли Лотмана с неоплатонизмом, а также с гностическими, герметическими и каббалистическими традициями см.: Григорьева Е.Символ, модель и мимесис по Лотману // История и повествование / Под ред. Г. В. Обатнина и П. Песонена. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 28–50.
[Закрыть].
«Галерея» Безобразова очень похожа на то ателье на улице Драгон, где происходит действие главы «Бал». Оно также функционирует как пространство репрезентации, в котором не действуют законы классического мимесиса и где объекты визуального искусства получают статус символа, с трудом переводимого на вербальный язык. Если вспомнить сентенцию Поплавского о том, что поэзия рождается от соединения ритма, символа и образа, становится понятным, почему музыка звучит именно в этом живописном пространстве, нелинейная структурная организация которого, к тому же, позволяет сопоставить его с полотнами Антуана Ватто. В главе «Нарративные приемы репрезентации визуального в романе „Аполлон Безобразов“ (глава „Бал“)»показывается, что нарратив главы ориентирован на ту модель построения репрезентативного пространства, которая реализована в эмблематической картине Ватто «Паломничество на остров Киферу». Характерно, что сама картина в тексте прямо не называется, что ставит ее в один ряд с безымянными полотнами безобразовской «галереи».
* * *
Ссылки на наиболее часто цитируемые произведения даются непосредственно в тексте. Мною приняты следующие сокращения:
Аполлон Безобразов– Поплавский Б. Аполлон Безобразов // Поплавский Б. Домой с небес: романы / Сост. Л. Аллен. СПб: Logos; Дюссельдорф: Голубой всадник, 1993.
Домой с небес– Поплавский Б. Домой с небес: романы / Сост. Л. Аллен. СПб: Logos; Дюссельдорф: Голубой всадник, 1993.