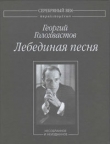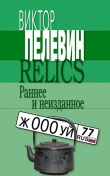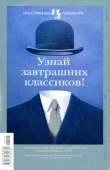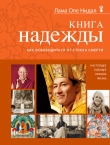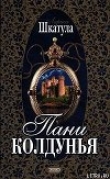Текст книги "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе"
Автор книги: Дмитрий Токарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Марк Слоним, еще до выхода «Флагов» откликнувшийся на публикацию стихов Поплавского в «Воле России», также отметил, что у него «манера готова перейти в манерность»:
В его поэзии разлит «сладчайший яд» разложения, ущерба, в ней царствует «наркотическая стихия» – столь хорошо знакомая Сологубу и нашим русским декадентам и ранним символистам. Если Поплавский не найдет выхода из своего искусственного мирка с электрическими лунами, кораблями, башнями и детскими аллегориями, он начнет повторяться, слабеть и выдохнется, несмотря на чисто формальные достоинства своего стиха. У него и сейчас есть провалы, длинноты, темнота, глухое косноязычие, у него часто замечаешь отсутствие работы над собою – но в то же время видно, что учился Поплавский не у символистов, а у Хлебникова, Пастернака и всей молодой школы русской поэзии [107]107
Слоним М.Литературный дневник. Молодые писатели за рубежом // Воля России. 1929. № 10–11; цит. по: Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. С. 174.
[Закрыть].
При этом Слоним, в отличие от Цетлина, утверждал, что «ущербность» поэтического метода Поплавского совсем не рассудочная. В другой рецензии, теперь уже на сборник «Флаги», Слоним объяснил «нерассудочность» поэзии Поплавского, отсутствие в ней логического смысла, ее непонятность, «невнятность» ее музыкальной природой:
Вся эта игра воображения, все эти то смутные, то неожиданно яркие сны живут и движутся стихией музыки, плывут по воле тех ритмических комбинаций, которыми владеет Поплавский. Музыка, т. е. тот элемент поэзии, который составляет ее первичную природу, все то, что словом сказать невозможно, что выше или ниже, но во всяком случае внепонимания рассудком и пятью чувствами – вот это и есть самое замечательное в стихах Поплавского [108]108
Слоним М.Книга стихов Б. Поплавского // Воля России. 1931. № 1–2; цит. по: Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. С. 169.
[Закрыть].
Пожалуй, наиболее проницательным оказался Георгий Иванов, почувствовавший в стихах Поплавского «frisson inconnu» – «неизведанную дрожь»:
Да – в грязном, хаотическом, загроможденном, отравленном всяческими декадентствами, бесконечно путанном, аморфном состоянии стихи Поплавского есть проявление именно того, что единственно достойно называться поэзией, в неунизительном для человека смысле. Не «гроза» и не «лунная ночь» – и не ребячески – дикарско-животное их преломление (степень физической талантливости ничего не меняет), а нечто свойственное человеку и только человеку, нечто при всей своей «бессознательности» и «безволии» проистекающее прямо (и исключительно) от крайнего и высшего напряжения сознания и воли, «бессознательное» уже «вторично», – на границе бессмертия – как бы крайняя точка прямой, на противоположном конце которой сосредоточено все «первичное», в том числе и всяческие «грозы» – внешняя прелесть жизни, переходящая в смерть, вернее, в тлен [109]109
Иванов Г.Рец. на: Б. Поплавский. «Флаги» // Числа. 1931. № 5; цит. по: Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. С. 158–159.
[Закрыть].
Иванов хорошо уловил, что у Поплавского бессознательное находится под контролем сознания и что «отсутствие работы над собой», за которое поэта упрекал Слоним, является сознательным приемом, скрывающим за собой огромную работу поэта по отбору и сортировке поэтических образов [110]110
К тому же, формальные «недостатки» (провалы, длинноты, темнота, глухое косноязычие) позволяют уйти от поэтической «красивости», ибо «красота и поэзия – это вещи разные» ( Неизданное, 233). Когда Поплавский говорит, что поэту «следует бояться музыки стиха» точно так же, как живописцу надо «бояться живописи» (Групповая выставка «Чисел» (Числа. 1931. № 5) // Неизданное, 334), он имеет в виду как раз эту сомнительную формальную красоту, но никак ни таинственную музыку сфер.
[Закрыть]. Вот как об этом пишет друг Поплавского Николай Татищев:
Музыка замутненная, непросветленный хаос, вот образ, невольно возникающий, когда стараешься вплотную подойти к этой поэзии. <…> У другого такой метод писания вылился бы в что-то бледное, неопределенно-расплывчатое, тусклое, в конечном итоге, – в пустоту. У Поплавского это жизнь, насыщенная содержанием, кровью, болью. Тайна ли в этом языка его, особого выбора слов, бесконечного обдумывания сотни раз переписанных в черновиках фраз, расчета, взвешивания и его абсолютного слуха, не допускающего и тени фальши в образах и ритме, чтобы не проскользнуло что-нибудь не свое, даром полученное, дешевое, не выстраданное? Так или иначе, это поэзия, где слова умышленно не точны (выбраны так, чтобы смертельно ранить в области сердца) [111]111
Татищев Н.Поэт в изгнании // Новый журнал. 1947. № 15; цит. по: Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. С. 100–101.
[Закрыть].
Слово не является точным эквивалентом образа, подобно тому, как между музыкальными в своей основе «тихими чувствами» и их «живописным» образом имеется некий «зазор». Именно в данной перспективе становятся понятными слова Татищева о поэзии, где слова не точны и, более того, умышленноне точны. Умышленная неточность слова проявляет себя в нежелании поэта «прикреплять» слово к образу. Он не хочет уподобляться тому дикарю, который удовлетворяется сравнением «синий как небо» и использует его всякий раз, когда хочет передать свое ощущение от слова «синий». Поэт неустанно «выискивает вещи внешнего мира», те живописные образы, которые, путем «присоединения» к ним «беспричинного переживания», образуют поэтический образ, выражаемый, как правило, различными тропами: метафорами, сравнениями, эпитетами.
Например, цветовые эпитеты играют в поэзии Поплавского важнейшую роль: такие словосочетания, как «черный свет», «сиреневый полюс», «синий покой», «розовый снег», являются «несущей конструкцией» образной структуры «Флагов» и активно не понравились недоброжелателю Набокову, уподобившему их «крашеному марципану или цветной фотографической открытке с перламутровыми блестками» [112]112
Набоков В.Рец. на: Б. Поплавский. «Флаги». С. 168.
[Закрыть].
Посмотрим, как функционируют цветовые эпитеты в стихотворении «Гамлет». В нем поэт показывает себя тонким знатоком цветовых переходов: синий цвет различной степени интенсивности (голубой, синеватый) перетекает в розовый (розоватый) и алый, проходя через этапы сиреневого, лилового и малинового. Такая цветовая гамма, кстати, заставляет вспомнить о французском художнике Рауле Дюфи, картины которого Поплавский хорошо знал.
Синие души вращаются в снах голубых,
Розовый мост проплывает над морем лиловым.
Ангелы тихо с него окликают живых
К жизни прекрасной, необъяснимой и новой.
Там на большой высоте расцветает мороз,
Юноша спит на вершине горы розоватой,
Сад проплывает в малиновом зареве роз.
Воздух светает, и полюс блестит синеватый.
Молча снежинка спускается бабочкой алой,
Тихо стекают на здания струйки огня,
Но растворяясь в сиреневом небе Валгаллы,
Гамлет пропал до наступления дня.
(Сочинения, 61–62).
Действительно, похоже на цветную открытку, но никак не фотографическую: у Поплавского каждый объект окрашен в какой-то цвет, но цветовые эпитеты не «прикрепляются» к данному объекту, а, напротив, подвижны и могут как бы переходить от объекта к объекту. Например, в стихотворении «Последний парад» души окрашены уже не в синий, а в розовый цвет; в стихотворении «Дон-Кихот» полюс не синеватый, а сиреневый; серое, а не малиновое зарево встает в тексте «В Духов день». При этом прилагательные, обозначающие цвета, присоединяются и к существительным с конкретным значением (синие звезды, розовый снег, бледно-алый флаг, лиловый лес), и к существительным абстрактным (синий воздух, розовый ветер, бледно-алый рассвет).
Такая «подвижность» эпитетов характерна как для цветовых, так и для прочих эпитетов, обозначающих внешние признаки объекта (прозрачные скалы, прозрачный ветер, прозрачный бой часов; холодный саван, холодный праздник, холодный рассвет; пустые бульвары, пустая вода, пустые цветы; стеклянные здания, стеклянный мальчик; снежная степь, снежные звезды, снежная душа). В результате изобразительные эпитеты, которые в тексте играют ту же роль, что краски в живописи, приобретают особую метафорическую глубину и позволяют поэту-художнику установить связь между материальными и нематериальными объектами: так, «холодный, грязный саван» («Целый день в холодном, грязном саване…») и «желтый холодный рассвет» («Жалость к Европе») оказываются связанными эпитетом «холодный», что актуализирует в этих двух текстах важную для Поплавского и более определенно выраженную в других стихотворениях мифологию раннего утра, утренней зари как времени перехода в вечность, в смерть:
Все казалось иным. Было время Тебе снизойти.
Было что-то в заре, что уже не хотело проснуться.
Солнце в бездне молилось, ему не хотелось взойти,
А заплакать, погаснуть и в саван лучей завернуться.
(«Серафита II» // Сочинения, 96).
Очень точно Поплавский описал этот феномен взаимной проницаемости вещей и понятий в статье «Около живописи»:
Ибо ошибка натурализма заключалась в том, что он искал только фактической точности передачи вещей, со всеми их подробностями, забывая, что всегда вещь окутана сиянием воздуха, аурой пыли, дыма, бесчисленными отражениями и свечениями окружающего, особенно неба. И, находясь рядом с другими, инако окрашенными и расположенными вещами, вместе с ними движутся, как бы в поле зрения, темнеют и светлеют, меняют свой цвет и поглощаются их соседством ( Неизданное, 330).
И еще одна цитата из статьи Поплавского, посвященной на этот раз художнику Абраму Минчину [113]113
О Минчине и Поплавском см.: Menegaldo Н.«Dévoiler quelque chose d'invisible à nos yeux morts…» // Pleine marge. N 3. Juin 2001. P. 122–127.
[Закрыть](Числа. 1931. № 5):
Посредством необычайно редкого соединения реализма и фантастичности Минчину удавалось писать парижские закаты или даже нереальные ночные освещения так, что ангелы, изображать которых он так любил, демоны, куклы, арлекины и клоуны сами собою рождались из сияния и движения атмосферы его картин, раньше всего и прежде всего необыкновенно реальных ( Неизданное, 325–326).
Поэт как будто говорит о себе, о своем собственном поэтическом методе, который также заключается в соединении реализма и фантастичности, точных наблюдений парижской жизни и мистических откровений, полученных благодаря максимальному напряжению духовных сил и изнуряющей медитации.
Любимые персонажи Минчина – ангелы, арлекины, клоуны – обитают и в поэтическом пространстве стихов Поплавского, пространстве, организованном вокруг семантически насыщенных объектов, таких, как башни с развевающимися флагами, городские площади с цирковыми балаганами, сады, где умирает «рассветных часов синева» («Hommage à Pablo Picasso»), «лунные» дирижабли, «рыскающие» в небе «как рыба» («Paysage d'enfer»), корабли, «утопающие в океане», подобно Титанику («Жалость к Европе»).
Последнее стихотворение «Флагов», посвященное Георгию Адамовичу, можно уподобить магистралу в венке сонетов, настолько оно насыщено мотивами и образами, характерными для текстов сборника. Приведу его целиком.
Солнце нисходит, еще так жарко,
Но в воздухе осень, и парк поредел.
Там ярко горят лимонады в хибарке
И желтые листья газет на воде.
Еще мы так молоды. Дождь лил все лето,
Но лодки качались за мокрым стеклом.
Трещали в зеленом саду пистолеты.
Как быстро, как неожиданно лето прошло.
Так поздно в стекле синева отражалась,
И месяц вставал над фабричной трубой.
Душа мирозданья – Надежда на жалость, —
Быть может мы летом простились с Тобой.
Так тише и чище. Молчит в амбразуре
Высокой тюрьмы арестант на закате,
И в ярком сиянье осенней лазури
Свистит паровоз на кривой эстакаде.
Вагоны, качаясь, уходят на запад.
С бульвара доносится шум карусели.
Он смотрит в сиянье; не хочется плакать.
Как пыльно и кратко отъездов веселье.
Над башней проносятся поздние птицы.
Как быстро о солнце листва забывает.
Рука открывает святые страницы.
Глаза закрываются. Боль убывает.
( Сочинения,99-100).
Прежде всего, обращает на себя внимание зачин стихотворения: Поплавский остается верен своей манере начинать стихотворение с существительного («Мир был темен…», «Фонари отцветали») или же с глагола («Было тихо в мире…», «Спала вечность в розовом гробу…»), что позволяет ему сразу определить пространственную доминанту текста, поскольку пространство организуется объектами, в нем расположенными, и доминанту временную, выражаемую глагольным временем.
Противительная конструкция с союзом «но», а также глаголы с семантикой убывания признака («нисходить», «редеть») с самого начала задают меланхолическую, пессимистическую тему, на которую не могут повлиять даже «всплески» цветовых эпитетов («желтые листья», «зеленый сад») и слов, обозначающих сиянье, яркость («яркое сиянье осенней лазури», «ярко горят лимонады»). Вообще, все строфы построены на контрасте между мотивом увядания и смерти и мотивом радости жизни: например, во второй строфе лирический герой жалуется на то, что молодость, ассоциируемая с катаньем на лодках и развлечениями в парке, проходит так же быстро и неожиданно, как лето. В следующей строфе синева, допоздна отражающаяся в стекле, сменяется лунным светом, что воспринимается поэтом как разрушение надежды, надежды на жалость.
Последнее требует пояснений; дело в том, что концепт жалости играет важнейшую роль в творчестве Поплавского и связан прежде всего с его глубокой, но при этом не ортодоксальной религиозностью. В статье «О смерти и жалости в „Числах“» Поплавский говорит о том, что многие молодые писатели и поэты эмиграции считают вопрос о религиозном опыте основным вопросом литературного творчества:
… и есть ли хоть кто-нибудь еще в русской литературе, который сомневался бы, что добро есть любовь и солидарность людей, все сумрак и ложь, на небе и на земле, и только одна точка ясна и тверда. Эта точка есть жалость, и на ней стоит Христос… ( Неизданное, 263).
Православие воспринимается поэтом как «нищая» религия [114]114
Рецензия на № 24 и 25 журнала «Путь» (Числа. 1930–1931. № 4) // Неизданное, 279.
[Закрыть], «православие – болотный попик в изодранной рясе, который всех жалеет и за всех молится» (О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции // Неизданное, 259), – утверждает он, «модернизируя» идею Достоевского о слезе ребенка в русле символистской образности второй книги стихов Блока [115]115
См. стихотворение Блока «Болотный попик» из цикла «Пузыри земли». См. об этом: Livak L.The Surrealist Compromise of Boris Poplavsky // The Russian Review. 2001. N 60(1). P. 101–102.
[Закрыть].
О Блоке он вспоминает и в рецензии на журнал «Путь», где излагает свое вйдение православия:
Христос католиков есть скорее царь, Христос протестантов – позитивист и титан, Христос православный – трости надломленной не переломит, он весь в жалости, всегда в слезах, потому-то все, далеко даже отошедшие от церковности, все же никогда с презрением о ней не говорят, а сохраняют навек некую боль разрыва с православием, как Блок ( Неизданное, 279).
По убеждению поэта, именно «жалостливое» отношение к объекту изображения делает картину шедевром:
Картина может состоять только из нескольких мазков и быть глубочайшим шедевром (Матисс) – в том случае, если художник (живописно одаренный, конечно) как бы боится писать, священный страх его удерживает, как бы не налгать, не сделать лишнего, но с огромной «жалостью» и восхищенным любованием относится к своей модели (Около живописи // Неизданное, 331–332).
Литература же вообще есть «аспект жалости, ибо только жалость дает постигание трагического. Исчезновение человека. Таянье человека на солнце, долгое и мутное течение человека, впадение человека в море. Чистое становление. Время, собственно, единственный герой, всечасно умирающий. Отсюда огромная жалость и стремление все остановить, сохранить все, прижать все к сердцу» (По поводу… // Неизданное, 273). Две любимые темы лирической поэзии – любовь и смерть – неразрывно связаны с проблемой восприятия времени. Любовь есть попытка «спасения времени для некоей качественной вечности, некоего чувства сохранения и безопасности своей жизни, наконец спасенной от исчезновения в руках любимого человека». Смерть же, напротив, это расточение и исчезновение времени, ибо «душа умирает постоянно, и каждый день нестерпимей в розоватом дыме, как последний день, но главное – умирание часов и минут, отблесков и освещений, запахов и ощущений безвозвратно» ( Неизданное, 102).
Цель поэзии не в преодолении времени и смерти, поскольку остановка времени и вечная жизнь означали бы конец музыки, которая есть движение, но в том, чтобы в каждом мгновении сопротивляться смерти и умирать, воскресая в мгновении новом: «…только погибающий согласуется с духом музыки, которая хочет, чтобы симфония мира двигалась вперед» (О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции // Неизданное, 258).
И современники, и исследователи творчества Поплавского очень часто видят в нем «певца смерти». Так, Георгий Федотов писал о культе смерти: «Сострадание, обнищание, „Кенозис“ не исчерпывают христианства. От славы Преображения „Кенозис“ ведет к небытию, сострадание – к общей и последней гибели. Здесь наше русское (а не православное) искушение. В этом корень народнического нигилизма и разложения Блока, благоговейная память о котором не требует следования его пути» [116]116
Федотов Г.О смерти, культуре и «Числах» // Числа. 1930–1931. № 4. С. 147.
[Закрыть]. Французская исследовательница Елена Менегальдо также настаивает на том, что «это принятие смерти, столь полное и столь естественное, ведущее к окончательному исчезновению, не должно нас удивлять, ибо лишь оно способно превратить простого смертного в поэта» [117]117
Менегальдо Е.Поэтическая вселенная Бориса Поплавского. СПб.: Алетейа, 2007. С. 96.
[Закрыть]. И далее она приводит цитату, к которой я также обращался выше и где Поплавский говорит, что «принятие музыки есть принятие смерти». Однако подобная трактовка не отличается точностью, ведь Поплавский ясно указывает на то, что музыка как начало чистого движения, чистого становления и превращения «предстоит как смерть» единичному, законченному и временн ому. Другими словами, музыка воспринимается как смерть тем, кто существует во времени, ограничен в своих возможностях, страдает от одиночества, то есть человеком. Музыка воспринимается им как бы извне, точно так же, как и время – как «система отсчета и сравнения двух движений» ( Неизданное, 102; об этом шла речь в предисловии). Извне человек воспринимает только внешний «слой» времени, в котором смерть является окончательной и бесповоротной; но в его внутреннем «слое» смерти нет, поскольку она побеждается вечным становлением, вечным движением, порождающим бесконечную «симфонию мира». Принятие музыки есть принятие смерти, так как без умирания нет рождения; однако принятие смерти не есть принятие музыки, ибо означает отказ от движения, «стабилизацию» и, следовательно, смерть музыки.
Конечно, Поплавский был болен той «болезнью к смерти» (С. Кьеркегор), которая и свела его в могилу в возрасте 32 лет. Болезнь эта была вызвана как внешними причинами (крайней бедностью, невостребованностью, конфликтами с родителями), так и особенностями психической структуры личности – ранимостью, мнительностью, склонностью к неврозам и комплексам, страстным желанием сближения с другим человеком и при этом страхом перед этим сближением, грозящим потерей собственной идентичности. Не стоит забывать и о том, что в поведении Поплавского было и немало позерства, аффектации, желания еще больше акцентировать свою непохожесть на других, свою исключительность – Поплавскому хотелось быть «пр оклятым поэтом» и он делал все, чтобы таковым казаться.
Зная все это, соблазнительно прочитать такое, например, стихотворение «Флагов», как «Роза смерти» (посвященное Георгию Иванову), как апологию смерти, тем более что и заканчивается оно этим словом:
В черном парке мы весну встречали,
Тихо врал копеечный смычок.
Смерть спускалась на воздушном шаре,
Трогала влюбленных за плечо.
Розов вечер, розы носит ветер.
На полях поэт рисунок чертит.
Розов вечер, розы пахнут смертью
И зеленый снег идет на ветви.
Темный воздух осыпает звезды,
Соловьи поют, моторам вторя,
И в киоске над зеленым морем
Полыхает газ туберкулезный.
Корабли отходят в небе звездном.
На мосту платками машут духи,
И сверкая через темный воздух
Паровоз поет на виадуке.
Темный город убегает в горы,
Ночь шумит у танцевальной залы,
И солдаты, покидая город,
Пьют густое пиво у вокзала.
Низко низко, задевая души,
Лунный шар плывет над балаганом,
А с бульвара под орган тщедушный,
Машет карусель руками дамам.
И весна, бездонно розовея,
Улыбаясь, отступая в твердь,
Раскрывает темно-синий веер
С надписью отчетливою: смерть.
( Сочинения, 56–57).
Опять, как и в более позднем стихотворении «Солнце нисходит…», мы видим вечерний парк с балаганами и киосками, с бульвара доносится шум карусели, «свистит паровоз на кривой эстакаде». И снова поэт «чертит на полях» стихотворения сложный рисунок, главными персонажами которого являются жизнь и смерть. И если из «линейного» прочтения обоих текстов следует вывод о том, что смерть представляется поэту избавлением от земных страданий и тревог, то чтение текста как «рисунка» позволяет разглядеть в нем гораздо более сложную композицию, «силовыми» точками которой являются понятия, связанные со временем, – весна, осень, заря, закат.
В «Розе смерти» смерть приходит розовым весенним вечером, что само по себе является своего рода оксюмороном: смерть как закат дня, закат жизни приходит у Поплавского весной, когда все оживает и радуется жизни. В других произведениях эквивалентом весны выступает утро – смерть приходит на заре, на рассвете, как в стихотворении «Hommage à Pablo Picasso»:
Одинокий шептал: «Завтра снова весна на земле
Будет снова мгновенно легко засыпать на рассвете».
Завтра вечность поет: «Не забудь умереть на заре,
Из рассвета в закат перейти, как небесные дети».
( Сочинения, 73).
Мотив смерти детей, так широко представленный во «Флагах» («Мальчик и ангел», «Успение», «Вспомнить – воскреснуть», «Смерть детей»), также отражает противоречивую диалектику рождения и смерти: умирают те, кто только начал жить. Но та ли это смерть, чья «сабля» «свистит во мгле, рубит головы наши и души» («Двоецарствие»)? Скорее это «прекрасная» смерть «в час победы, в час венчанья» («Мистическое рондо II»), смерть, без которой нет жизни. Неслучайно она приходит на заре, в рассветный час, который обещает воскресение и новую жизнь. В стихотворении «Богиня жизни» [118]118
Богиней жизни Поплавский называл свою возлюбленную Татьяну Шапиро.
[Закрыть]Поплавский называет ее «курчавым Гераклитом»: «А вдалеке, где замок красных плит, / Мечтала смерть, курчавый Гераклит». Однако Гераклит – в полном соответствии с учением этого древнегреческого философа, проповедовавшего единство противоположностей, – персонифицирует также и жизнь: «Богиня жизни на вершине башни / Смотрела вдаль с улыбкой Гераклита» ( Сочинения, 66–67). Богиня смерти – это и богиня жизни, богиня движения и богиня музыки, каждый звук которой, умирая, уступает место следующему.
Итак, услышать внутреннее восходящее звучание времени может только тот, кто согласился с духом музыки, а соглашается с ним, как пишет Поплавский в статье «О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции», только «погибающий». В этой гибели, в этой боли он находит предвестия освобождения, предвестия новой жизни: «И, действительно, в пять часов утра в дешевом кафе, когда все сплетни рассказаны и все покрыты позором и папиросным пеплом, когда все друг другу совершенно отвратительны и так, так больно, что даже плакать не хочется, они вдруг чувствуют себя на заре „какой-то новой жизни“», – говорит Поплавский о молодых эмигрантах. И вот боль неожиданно исчезает:
Они, бедные рыцари, уже на заре и по ту сторону боли. Кажется мне, в идеале это и есть парижская мистическая школа. Это они, ее составляющие, здороваются с нежным блеском в глазах, как здороваются среди посвященных, среди обреченных, на дне, в раю ( Неизданное, 258–259).
Неслучайно последнее стихотворение сборника «Флаги», пронизанное мотивами энтропии и умирания (даже вагоны в нем уходят на запад, то есть в смерть), заканчивается все-таки не смертью, а просветлением; глаза поэта закрываются, но, переставая видеть внешний уродливый мир, он обретает внутреннее зрение, позволяющее ему прочитать «святые страницы».
Понятно, почему Поплавский не хотел, чтобы его считали декадентом; в своем дневнике он записывает: «Отличие от старого декадентства: то, что мы радостные, золотые. Умираем, радуясь, благословляя, улыбаясь. В гибели видя высшую удачу, высшее спасение» ( Неизданное, 96). С этим связана и важная для Поплавского тема физического совершенствования: противопоставить что-то разрушительной силе смерти смогут только те, кто силен физически, занимается спортом.
Такое «идеалистическое» толкование смерти, разумеется, вступало в противоречие с жестокой реальностью. Жизнь казалась Поплавскому мостом, по которому можно было перейти из жизни в смерть, а оттуда в новую жизнь:
Мост этот тихо качался меж жизнью и смертью,
Там на одной стороне, был холодный рассвет.
Черный фонарщик нес голову ночи на жерди,
Нехотя загорался под крышами газовый свет.
Зимнее утро чесалось под снежной периной.
А на другой стороне был отвесный лиловый лес.
Сверху курлыкал невидимый блеск соловьиный.
Яркие лодки спускались сквозь листья с небес.
(Детство Гамлета // Сочинения, 68).
Однако удержаться на этом мосту ему не удалось.
* * *
В 1998 году в парижском архиве Николая и Дины Татищевых были найдены стихотворения, написанные, как поясняет Елена Менегальдо, в начале 1930-х годов и собранные Поплавским под названием «Автоматические стихи» [119]119
По сообщению К. Захарова и С. Кудрявцева, на двух разных сохранившихся рукописных титульных листах стоят разные даты: 1931 и 1930–1933 соответственно; см.: Поплавский Б.Орфей в аду. С. 146.
[Закрыть]. В 1999 году сборник был опубликован в Москве. Менегальдо, подготовившая сборник к печати, недвусмысленно связала – в полном соответствии с данным самим поэтом названием сборника – поэтическую технику Поплавского с техникой сюрреалистического письма. Эта позиция требует уточнения [120]120
Благодарю Елену Гальцову за плодотворную дискуссию по данному поводу.
[Закрыть].
В статье «По поводу „Атлантиды – Европы“, „Новейшей русской литературы“, Джойса» Поплавский подробно пишет о «способе автоматического письма»:
Способ написании «Улисса» Джойсом, этой огромной книги в почти девятьсот огромных страниц мелкой печати, описывающих всего один день некоего Леопольда Блюма, сборщика объявлений в Дублине, и его знакомых, есть так называемое «автоматическое письмо», впервые примененное Изидором Дюкасом – графом Лотреамоном (а много ранее, вероятно, составителями всевозможных Апокалипсисов), который в 70-х годах написал им, совершенно независимо от Рембо, гениальную книгу «Les chants de Maldoror» (песни предрассветной боли?) и затем бесследно исчез в возрасте 26 лет. Этим способом искони пользовались медиумы и визионеры (в том числе столь замечательный Уильям Блейк), а в настоящее время широко пользуется школа Фрейда для своих изысканий и французские сюрреалисты. Он состоит как бы в возможно точной записи внутреннего монолога, или, вернее, всех чувств, всех ощущений и всех сопутствующих им мыслей, с возможно полным отказом от выбора и регулирования их, в чистой их алогичной сложности, в которой они проносятся ( Неизданное, 274).
Парадокс состоит в том, что, давая в принципе верное определение автоматического письма, поэт записывает в адепты данной техники не только изобретших ее сюрреалистов, но и Лотреамона и Джеймса Джойса. Лотреамон был, как известно, кумиром сюрреалистов, но привлекало их в его творчестве не автоматическое письмо, а та смелость, с которой он манипулировал неожиданными и парадоксальными образами. Знаменитое сравнение Лотреамона – «прекрасный, как случайная встреча швейной машинки и зонтика на анатомическом столе» – стало для них моделью сюрреалистической образности.
Что касается Джойса, то он мастерски использует технику потока сознания, выступая в роли всемогущего манипулятора, но никак не в роли сюрреалистского «регистрирующего аппарата». По словам Бретона,
иллюзорному потоку сознательных ассоциаций Джойс противопоставит течение совсем иного рода, пытаясь отыскать повсюду его брызжущие ключи и все больше приближаясь в своих поисках к предельно точной имитациисамой жизни (и именно это течение затягивает его в омут искусства, искушает миражами романного письмаи в конце концов неизбежно выбрасывает на отмель натурализма и экспрессионизма) [121]121
Бретон А.О сюрреализме в его непосредственных проявлениях; цит. по: Шенье-Жандрон Ж.Сюрреализм. С. 45.
[Закрыть].
Недаром сам Поплавский спешит оговориться:
Конечно, «Улисс» не есть только документ, а продукт огромного отбора и сложнейшей конструкции, почти невидимого соединения множества дней. Ибо один июльский день этот описывался шесть лет. Отбора. Но отнюдь не отбора и выдумывания мыслей, а отбора бесчисленных текстов-документов, написанных бесконтрольно ( Неизданное, 275).
Вот определение сюрреализма, данное самим Бретоном:
Чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить, или устно, или письменно, или любым другим способом, реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений [122]122
Бретон А.Манифест сюрреализма (1924) // Поэзия французского сюрреализма / Сост. М. Яснов. СПб.: Амфора, 2004. С. 368. Перевод Л. Андреева и Г. Косикова.
[Закрыть].
Подходит ли под это определение поэзия Поплавского? Безусловно, нет. Когда Поплавский говорит, что «ничего живого нельзя написать, если не увидеть этого во сне» ( Неизданное, 229), он вряд ли имеет в виду порождение текста в полусне или в гипнотическом трансе, практиковавшееся сюрреалистами. На мой взгляд, лишь некоторые стихи сборника «Автоматические стихи» можно посчитать написанными в такой манере, остальные же напоминают сюрреалистические тексты лишь своими необычными образами, но никак не техникой письма. Вот пример текста, характерные особенности которого (хаотическая композиция, отсутствие рифмы, рваный ритм) делают его похожим на автоматический:
Соединенье железа, стекла, зеленого облака,
Предсмертной слабости, а также скрежета,
Испарины снега, бумаги, геометрии и перчаток
Снятых со многих, многих снов
Давно истлевших
Забытых
Кто знал тогда что перед нами предстанет
На западе
И почему столько судов замерзло на юге
Полных вращения <…> [123]123
Поплавский Б.Автоматические стихи / Сост. Е. Менегальдо, А. Н. Богословский. М.: Согласие, 1999. С. 57.
[Закрыть].
А вот текст, написанный уже явно в другой манере:
Скольженье белых дней, асфальт и мокрый снег
Орудия стреляют из-за сада
Конина снова поднялась в цене
Лишь фонари играют над осадой
Рембо, вам холодно? Ну ничего, я скоро
Уеду в Африку, смотрите, гаснет газ
Солдаты ссорятся и снег идет на ссоры
Лишь там один не закрывает глаз <…> [124]124
Там же. С. 134.
[Закрыть].
Кстати, тот факт, что некоторые из стихотворений сборника были включены Поплавским в «Дневник Аполлона Безобразова» (или наоборот, попали из «Дневника» в сборник), написанный «в манере» Рембо, лишний раз свидетельствует о том, что не стоит называть конкретное произведение «автоматическим» и сюрреалистическим только потому, что оно названо так самим автором.
Конечно, Бретон считал, что «Алхимия слова» Рембо написана как бы автоматически в состоянии «разупорядочивания всех чувств»; однако очевидно, что поэтический метод Рембо этим не исчерпывается. Существенно, что когда исследователи творчества Поплавского говорят об автоматизме, они имеют в виду именно сюрреалистическую практику и игнорируют другие способы письма (как, например, у Рембо и Лотреамона), в чем-то близкие к автоматизму, но полностью к нему не сводящиеся.
Публикация «Автоматических стихов» вновь ставит вопрос о том, в какой мере творчество Поплавского в целом зависимо от сюрреалистической теории и практики. Вряд ли можно согласиться с Менегальдо, что стихотворения сборника «Флаги» отвечают сюрреалистической доктрине бессознательного производства образов [125]125
Приступая к анализу образов в сборнике «Флаги», Менегальдо сразу исходит из того, что стихи Поплавского «более близки по духу к стихам французских сюрреалистов, чем русских символистов» (Поэтическая вселенная Бориса Поплавского. С. 21). Тем более неожиданным кажется вывод, к которому исследовательница приходит в конце книги: «Манерой использования образа „русский поэт-сюрреалист“ существенно отличается от Бретона и его друзей, которые отрицали всякую трансцендентность, и остается органически связанным с символизмом <…>» (Там же. С. 262).
[Закрыть]. Более осторожен в своей оценке Леонид Ливак, оспаривающий мнение Менегальдо о «бессознательности» образов во «Флагах»: в его интерпретации сюрреалистическая образность характерна для ранних сборников Поплавского, а в стихотворениях «Флагов», написанных после 1928 года, поэт сознательно отходит от сюрреализма, так часто и нарочито используя сюрреалистические образы и тропы, что они превращаются в клише [126]126
Livak L.The Surrealist Compromise of Boris Poplavsky. P. 99.
[Закрыть]. Тот факт, что Поплавский создавал в начале 1930-х годов тексты, названные им самим автоматическими и, следовательно, непосредственно отсылающие к сюрреализму, делает аргументацию ученого достаточно уязвимой.
Вызывает протест то, с какой легкостью исследователи творчества Поплавского оперируют понятием «автоматический» [127]127
Неточность в определении теории и практики автоматического письма приводит некоторых исследователей к чрезмерно широким обобщениям; так, А. Чагин в различных публикациях неправомерно, на мой взгляд, называет русскими сюрреалистами членов группы «41°», обэриутов, а также Поплавского (см., например: Чагин А.Русский сюрреализм: миф или реальность? // Сюрреализм и авангард. М.: ГИТИС, 1999. С. 133–148).
[Закрыть]. В «автоматические» тексты попадает и «Истерика истерик», и стихи сборника «Флаги», и оба романа [128]128
Вот цитата из Менегальдо: «…знакомство с „Улиссом“ Джойса и „Парижским крестьянином“ Луи Арагона открывает Поплавскому доступ к новым экспериментам: под диктовку бессознательного, „автоматическим письмом“ будут написаны не только сюрреалистические стихи, но и „лирическая, властная, завораживающая проза“ – пользуясь словами Ю. Фельзена – „Аполлона Безобразова“ и „Домой с небес“» ( Менегальдо Е.Неизвестный Поплавский // Поплавский Б. Неизданные стихи / Сост. Е. Менегальдо. М.: TEPPA, 2003. С. 13).
[Закрыть], не говоря уже о «Дневнике Аполлона Безобразова». Получается, что Поплавский, на протяжении более чем 15 лет только и делал, что писал «под диктовку бессознательного». Возникает вопрос: а приходил ли он когда-нибудь в сознание?