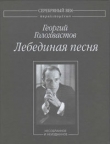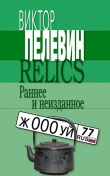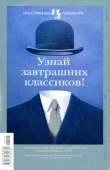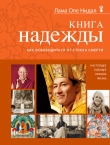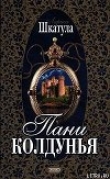Текст книги "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе"
Автор книги: Дмитрий Токарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
Существенно, что Поплавский значительную часть своего рассуждения посвящает спекуляциям по поводу чистого времени, двумя основными формами постижения которого являются любовь и смерть:
Так, можно вполне правильно сказать, что извне совершенно ложно выражение: «время стерло эту надпись», ибо извне время не сила, оно ничего не делает, оно только система счета, число, мера. Изнутри же время мною отождествляется с силой, изнутри развивающей мир. Здесь время есть сама жизнь in essentia на том ее полюсе, где она еще напор и возможность и откуда оно осыпается в случай и необходимость.
Писание о чистом времени, своем и мира, а у пантеистических натур об одном только чистом времени человеко-божеском, есть, по-моему, стихия современной лирики; недаром над греческим храмом Осипа Мандельштама так ясна Гераклитова надпись: «Все течет. Время шумит» ( Неизданное, 102).
Правда, из дальнейшего изложения становится понятно, что Поплавский, в отличие от Пруста, не связывает понятие чистого времени с проблемой памяти и воспоминания и делает акцент на свободном творчестве нового и ранее не бывшего:
Дело в том, что в чистом времени кажутся нам как бы разлитые слои его, лишь самому внешнему из коих удается воплотиться в реальности. Внутри же времени, снится нам, звучит некий свободный, активно-пророческий слой, который еще не смог воплотиться, который еще только взыскует к воплощению, т. е. этот напор, центр коего направлен к будущему, в более глубоких слоях своих есть песнь будущего, есть некое вечное устремление далеко за пределы актуально-реализуемого. Подслушать это внутреннее становление, еще находящееся в возможности, еще не нашедшее или же почти не нашедшее еще себе воплощения, есть назначение действительно благодатной поэзии, как нам это кажется. Тогда, как я уже говорил, поэзия была бы предварением грядущих дней, или даже первым их рождением в мире снов, из коего они впоследствии прорастут в мир реальности. Т. е., думаю я, все будущее уже вызревает, уже напирает изнутри на настоящее и склоняет его уступить ему место. Грядущее не вдалеке, а внутри настоящего, и первый мир, в который оно прорывается, есть всегда искусство. Но служить будущему, взыскующему к воплощению, т. е. подчиняясь внутреннему восходящему звучанию времени, создавать чувства, которых никто еще не переживал, и пейзажи, которых еще никто не видел, может только поэт, внутренне-морально согласившийся с духом музыки ( Неизданное, 102–103).
Стоит в то же время обратить внимание на то, что для Поплавского воспоминание не есть переживание когда-то испытанного ощущения как того же самого: когда он чувствует запах мандаринной кожуры, то вспоминает о том, как пахли мандарины в его детстве и затем выходит на воспоминания о Рождестве, но ощутить то Рождество как нечто, данное в непосредственном восприятии, он не в состоянии. Об этом ясно говорит он сам: «…некое ощущение тех дней – вот что совершенно неповторимо». Пруст же утверждал, что, поскольку «невольные воспоминания» «дают нам попробовать то же ощущение в иных обстоятельствах», они «освобождают это ощущение от контингентности и показывают его вневременную сущность» [22]22
«…comme lis (souvenirs involontaires. – Д. Т.) nous font goûter la même sensation dans une circonstance tout autre, ils la libèrent de toute contingence, ils nous en donnent l'essence extra-temporelle <…>». Впервые сформулировано в письме к Антуану Бибеско (ноябрь 1912 г.) и воспроизведено в интервью, которое Пруст дал газете «Le Temps» (13 ноября 1913 г.) накануне выхода из печати романа «По направлению к Свану».
[Закрыть].
Итак, запах мандаринов, вальс или же слово являются лишь сигналом к воспоминаниям, но они не воспринимались бы в качестве сигналов, если бы не были обусловлены тем самым «содержательным волнением», которое трансцендирует их чувственную природу и онтологически связано со «вторым» миром, называемым Поплавским миром музыки. Магическая «эвокационная» сила музыки подобна заклинанию, утверждает поэт, и «рассказать ею невозможно» ( Неизданное, 99). Вероятно, дневник здесь воспроизведен неточно или же сам Поплавский допустил ошибку, написав «ею» вместо «её» (надо: «рассказать её невозможно»), но суть от этого не меняется: невозможно ни рассказать саму музыку, ни рассказать что-либо посредством музыки. Для подтверждения своих слов Поплавский обращается к авторитету Джона Рёскина [23]23
Поплавский, видимо, отсылает к работе Рёскина «О ложной патетике», где тот утверждает, что все «сильные чувства» (violent feelings) «вызывают у нас ощущение фальшивости всех наших впечатлений от внешних предметов» (produce in us a falseness in all our impressions of external things). Под «ложной патетикой» Рёскин имеет в виду наделение природы человеческими страстями. См.: Ruskin J. Of the Pathetic Fallacy // Ruskin J. Modern Painters. London, 1856. fcl. 3. Pt. 4.).
[Закрыть]:
…область лирической поэзии есть область особого рода беспричинных переживаний, которые Рескин назвал тихими чувствами, в отличие от громких чувств – страстной любви, ревности, гнева, зависти. Да и эти более ясные чувства рассказать трудно; что можно сказать о ревности – что она была более или менее сильна, т. е. пытаться описать только ее количество, написать, напр<имер>, что она огромна, но каждая ревность каждого человека имеет еще свое особое качество. И в каждую минуту своего течения еще особый дополнительный оттенок. Язык же так беден словами, что, как уже жаловался Шопенгауэр, невозможно рассказать разницу между кислым и горьким ( Неизданное, 99).
Любопытно, что Поплавский, подвергая сомнению возможность зафиксировать качествотакого абстрактного понятия, как ревность, и допуская лишь возможность определить его количество, то есть в данном случае степень его интенсивности, интегрирует в данные восприятия то, что Лосский называет «данными представления», обнаруживающими себя в качестве «вспоминаемых данных прошлого опыта»:
Без сомнения, – постулирует философ, – каждое восприятие взрослого человека содержит в своем составе, кроме воспринимаемых теперь элементов предмета, множество вспоминаемых данных прошлого опыта, которые мы условимся называть данными представленияв отличие от данных восприятия. Опыт у разных субъектов более или менее различен; поэтому один и тот же предмет может предстать в сознании двух субъектов в крайне различном виде в зависимости от элементов, представленных ими по воспоминанию [24]24
Лосский H. О.Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. С. 175.
[Закрыть].
Разумеется, Лосский здесь говорит о предметах, но и Поплавский, рассуждая о количестверевности, интегрирует в свое восприятие конкретного случая проявления ревности данные своего представления о возможных степенях интенсивности этого чувства, почерпнутые из воспоминания. При этом его опыт ревности отличен от опыта ревности других субъектов; несовпадение данных этого опыта ставит под сомнение возможность объективно «рассказать разницу» между ревностьюи ревностью. Но и ревность каждого отдельного человека тоже находится в процессе постоянной модификации, что еще больше осложняет задачу того, кто хочет рассказать ревность.
Так же обстоит дело и с предметами: когда Поплавский смотрит, скажем, на развевающийся флаг, то флаг не только воспринимается как зрительно данный, но и заставляет работать механизмы памяти, позволяющие идентифицировать флаг как флаг [25]25
Мне кажется, что трактовка флага у Поплавского как «символа души творческой, души художника, склоняющейся над толпой, озаряющей жизнь сиянием „вечного праздника“», не учитывает сложный комплекс перцептивных и мнезических составляющих творческого акта и обедняет символическое содержание этого объекта; см. Чагин А.Расколотая лира (Россия и зарубежье: судьбы русской поэзии в 1920-1930-е годы). М.: Наследие, 1998. С. 170–173.
[Закрыть]. Хотя флаг может в данный момент быть совсем не таким, как в некий момент в прошлом, он все равно идентифицируется в качестве такового. При этом Поплавский в своем дневнике сравнивает, похоже, даже не два разных флага, а два ощущения от того же самогофлага, и его память опять оказывается неспособной воспроизвести «ощущение тех дней». В то же время у него есть воспоминание об ушедшем ощущении, иначе как бы он мог утверждать, что новое ощущение не похоже на старое. «Содержательное волнение» рождается как раз из этого «зазора» между восприятием и представлением, чувствами и памятью; оно является тем «тихим», «мистически-эмоциональным», музыкальным состоянием, погружение в которое есть форма познания. Мне кажется, что пристрастие Поплавского к некоторым объектам, в изобилии встречающимся в его текстах (флаги, ангелы, корабли, башни и т. п.), объясняется как раз стремлением еще и еще раз попытаться пережить утраченное ощущение от этих предметов; стихотворение же в целом является той формой, которую принимает охватившее поэта «содержательное волнение», спровоцированное этим стремлением и одновременно подозрением, что реализовать его вряд ли удастся. Другими словами, текст выступает продуктом «мнезической» неудачи.
Еще раз процитирую дневник:
Так создается мелодия; если поэт умеет ее изолировать и развить, разрастается в стихотворение, т. е. спасти от исчезновения хочет поэт некое ощущение, причем понял он это, может быть, только через музыку, т. е. используя магическую эвокационную силу музыки, подобную заклинанию, ибо рассказать ею невозможно <…>.
И далее:
…в передаче вышеупомянутых острейших, но тихих чувств, беспричинных и бесконечно-ценных волнений <язык> терпит абсолютную неудачу, ибо, с одной стороны, они не имеют имен, с другой стороны, они не разрешаются ни в каком действии, кроме разве в хватании за голову романтиков ( Неизданное, 99).
Отмечу, во-первых, что Поплавский не случайно употребляет слово «эвокационный»: во французском языке глагол évoquer означает «заклинать» и «воскрешать в памяти, в представлении». Во-вторых, неудачу языка нельзя назвать абсолютной – сама фиксация неудачи есть уже удача. Если в физическом мире «тихие» чувства выражаются хватанием за голову, то в мире литературы текст, выражающий эти чувства, отсылает даже не напрямую к ним, а лишь к воспоминанию о них:
Воспоминание о тихом состоянии подобно воспоминанию о музыкальном произведении, или, вернее, о чистом мистическом опыте: оно началось – оно нарастало – потрясло душу – оно затихло. Оно было кратковременно, как почти все действительно высокое в душе, поэтому запись о нем и имеет короткую форму лирического стихотворения, отрывочного сна, тогда как излюбленная форма передачи отражений действенных устремлений есть поэма, символизирующая целую связанную жизнь ( Неизданное, 99—100).
С одной стороны, воспоминание о состоянии не есть само состояние, но с другой, оно дает возможность хотя бы создать иллюзию этого состояния. Оно относится к состоянию так же, как к духу музыки относится то, что Поплавский называет «образом музыки» или «образом о музыке». Дух музыки выражает сущность «второго» мира, то есть мира идей в вечном движении, а образ музыки – сущность «третьего» мира, где образы сопротивляются музыке и стремятся «спастись от исчезновения». Если само состояние «содержательного волнения» можно условно «поместить» во второй мир, то воспоминание об этом состоянии должно тогда «помещаться» в мире третьем, связывая его с миром вторым. Ясно, почему Поплавский отказывается говорить о духе музыки – это еще «слишком бесформенная область, где моему духу решительно не за что ухватиться», – но готов порассуждать об образе музыки; вспомним, что в платоновской Гиперурании идеи не имеют предметных характеристик и не фиксируются органами чувств.
В главе «„Злой курильщик“: Поплавский и Стефан Малларме»конфликт между бесформенным духом и обладающим структурой образом рассматривается через призму известного стихотворения Малларме «Toute l'âme résumée», в котором дух иронически представлен в виде выдыхаемых курильщиком колец дыма. Поплавский пишет два текста, которые, по моему мнению, напрямую отсылают к этому стихотворению.
Понятие «тихих чувств» актуализирует важный для Поплавского концепт похожести, подразумевающий иллюзорную идентичность двух объектов при их сущностном несовпадении:
Для различения громких и тихих чувств – чисто-эмоционального и мистически-эмоционального, только, по-моему, следует именно обратить внимание на это различие, громкие чувства раньше всего действенные, устремленные в жизнь, они – прямые противоположности некоторых излюбленных их поступков – убийства, обладания, власти; тогда как тихие чувства не прямо подстрекают душу к бездействию, они только раскачивают душу прекрасно и странно, как волшебное дерево, ибо они только похожи на любовь, или, вернее, на беспричинную радость или беспричинную печаль так же, как ангелы только похожи на людей ( Неизданное, 100).
Наверное, проще было бы сказать, что люди похожи на ангелов, но Поплавский предпочитает расставить акценты именно так. В любом случае проблема соотношения оригинала и копии, объекта, до неразличимости похожего на другой объект, но этим объектом не являющегося, может быть рассмотрена в контексте платоновского мимесиса, попадающего, как отмечает М. Ямпольский, в «ловушку иллюзии или правдоподобия»:
Поскольку чувственный мир в этом мимесисе понимается как копия вечной и неизменной эйдетической модели, то мир будет лишь правдоподобным образом, который мы в состоянии принять за само Бытие. Логос, связанный с ним, будет лишь мифическим образом образа. Классический платоновский мимесис поэтому целиком пойман в ловушку иллюзии или правдоподобия [26]26
Ямпольский М.Ткач и визионер. С. 43.
[Закрыть].
Яркий пример такого рода симуляции – идол (эйдолон) Елены Прекрасной, в котором видимость полностью вытесняет сущность. Вряд ли все-таки Поплавский имеет в виду, что люди являются эйдолонами ангелов, ведь он говорит о похожести ангелов на людей, а не наоборот. На мой взгляд, проблематика похожести здесь может быть проанализирована в контексте предложенной немецким психологом Эрихом Рудольфом Йеншем (Jaensch) концепции эйдетических образов. Согласно Йеншу, эйдетические образы занимают промежуточное положение между последовательными образами [27]27
Вот как их описывает Л. Выготский: «Если фиксировать глазом какую-нибудь цветную фигуру, например крест, квадрат и т. п., и затем перевести взгляд на белую или серую поверхность, мы увидим ту же самую фигуру только в дополнительном цвете. Так, если основная фигура была красного цвета, то ее последовательный образ будет зеленым и т. д.» (Эйдетика // Основные течения современной психологии. М. – Л.: Госиздат, 1930. С. 182).
[Закрыть]и образами представлений [28]28
«Когда мы говорим, что мы представляем в уме тот или иной предмет, мы имеем в виду не то, что перед нашими глазами, в буквальном смысле этого слова встает образ этого предмета, так что мы можем пальцем указать, где он находится, каковы его очертания и т. д. Это – следовые раздражения, которые то более ярко, то более смутно возобновляются в нашем мозгу, но которые существенно отличаются от последовательных образов» (Там же).
[Закрыть]. Эйдетик способен сохранять яркие образы предметов долгое время спустя после их исчезновения из поля зрения, как бы продолжая воспринимать предмет в его отсутствие, причем отсутствие предмета является необходимым условием такого рода восприятия. По своей наглядности и детальности этот образ ничем не уступает образу представлений. Объект может быть воспроизведен как непосредственно после его исчезновения из области зрительного восприятия, так и спустя несколько минут, дней и даже лет. Эйдетизм особенно ярко проявляется у детей и подростков, но встречается и у взрослых людей. Я думаю, что Поплавский обладал предрасположенностью к воспроизведению эйдетических образов. В сущности, в цитированном выше пассаже о развевающихся флагах и сиреневом асфальте граница между восприятием и воспоминанием настолько размыта, что образы флагов и асфальта могут трактоваться и как данные в непосредственном восприятии, и как яркие визуальные феномены, данные лишь в представлении. Это именно тот случай, по поводу которого Лосский заметил, что
восприятие и представление воспоминания так приближаются друг к другу, что становится возможным смешение их; восприятие можно принять за воспоминание, и наоборот. В самом деле, с одной стороны, в восприятии есть много элементов только представляемых и, к тому же, есть много пробелов; с другой стороны, воспоминание может отличаться большою чувственною полнотою и даже, по поводу этой полноты, могут возникать у субъекта реакции, напр., рассматривания, расслушивания и т. п., что еще увеличивает сходство с восприятием [29]29
Лосский Н. О.Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. С. 177.
[Закрыть].
Во «Флагах» необыкновенная зрительная насыщенность образов достигается прежде всего за счет использования цветовых эпитетов, а также за счет того, что связь между образами является синтагматической, то есть один образ не порождает другого. В результате читатель начинает воспринимать эти образы как визуальные феномены, они как будто «предстоят» его глазам во всей своей чувственной интенсивности. Понятно, что когда поэт фиксировал эти образы в своем тексте, то он уже тогда имел дело с иллюзией восприятия, но не с самим восприятием. Запечатлевая, к примеру, образ флага, он видел перед собой не конкретное полотнище, а его эйдетический образ, такой яркий, что его можно было принять за саму вещь. Поплавский, надо отметить, отдает себе отчет в иллюзорной природе этих образов, поскольку подчеркивает, что можно в воспоминании воспроизвести предмет так, как если бы он был в наличии, но воспроизвести ощущение того момента, когда видел этот предмет, невозможно. «Ощущение этого всего совсем другое».
Эйдетическая память имеет другой механизм, нежели тот, который описан в знаменитом пассаже «Поисков утраченного времени». Интересно, что поначалу рассказчик описывает некий образ, который встает перед его глазами на фоне полной темноты (это равнозначно тому, что его глаза были бы закрыты и как бы видели изнутри собственное веко):
Так вот, на протяжении долгого времени, когда я просыпался по ночам и вновь и вновь вспоминал Комбре, передо мной на фоне полной темноты возникало нечто вроде освещенного вертикального разреза – так вспышка бенгальского огня или электрический фонарь озаряют и выхватывают из мрака отдельные части здания, между тем как все остальное окутано тьмою: на довольно широком пространстве мне грезилась маленькая гостиная, столовая, начало темной аллеи, откуда появлялся Сван, невольный виновник моих огорчений, и передняя, где я делал несколько шагов к лестнице, по которой мне так горько было подниматься, – лестница представляла собой единственную и притом очень узкую поверхность неправильной пирамиды, а ее вершиной служила моя спальня со стеклянной дверью в коридорчик; в эту дверь ко мне входила мама; словом, то была видимая всегда в один и тот же час, ограниченная от всего окружающего, выступавшая из темноты неизменная декорация <…> [30]30
Пруст М.В поисках утраченного времени. М.: Крус, 1992. Т. 1. По направлению к Свану. С. 45–46. Пер. Н. М. Любимова.
[Закрыть].
Этот образ обладает интенсивностью, присущей образу эйдетическому, однако он не удовлетворяет рассказчика, так как не имеет объема и не «обладает плотностью», являясь чистой симуляцией, trompe-l'oeil. Более адекватным задаче ему представляется иной механизм вспоминания, когда отправной точкой выступает некий объект (например, бисквитное пирожное, мадлен), воспринимаемый чувственно. Когда Марсель пробует чай с размоченным в нем пирожным, он погружается в «непонятное состояние», которому он не может дать «никакого логического объяснения и которое тем не менее до того несомненно, до того блаженно, до того реально, что перед ним всякая иная реальность тускнеет» [31]31
Там же. С. 47.
[Закрыть]. Похоже ли это состояние на «бесконечно-сладостное» «содержательное волнение»? В первом приближении – да, однако у Поплавского оно скорее все-таки предшествует восприятию, в то время как у Пруста воспоминание возможно лишь тогда, когда настоящее ощущение «коммуницирует» с прошлым ощущением. Как отмечает Валерий Подорога,
для того, чтобы таинство коммуникации свершилось, в опыте воспоминания должно существовать по крайней мере две частицы: одна – прошлого, другая – настоящего. Частицы эти не просто совпадают друг с другом в «одно счастливое мгновение», но борются, вступают, как говорит Пруст, в «рукопашную схватку»: два мотива в сонатной фразе Вентейля, вкусовое ощущение от чая с бисквитом Пти-Мадлен, вызывающее у героя романа, в борьбе с аналогичным ощущением прошлого, удивительный мир Комбре давних лет. Отдельно ни одна из частиц ничего не значит, значимо лишь их сцепление, причем настолько интенсивное, что оно способно разорвать поверхность встречаемых нами вещей, превратить их в знаки чего-то другого, чем они сами. Так образуется книга памяти, испещренная неразборчивыми записями, которую каждый из нас учится читать. В этой книге все знаки являются меморативными. Функция меморативного знака – «сцеплять» [32]32
Подорога В.Двойное время // Феноменология искусства. М.: ИФ РАН, 1996. С. 105.
[Закрыть].
Эйдетик же представляет себе отсутствующий предмет или с закрытыми глазами, или глядя на поверхность, которая служит фоном для изображения [33]33
Пожалуй, близки к эйдетическим те образы, которые принцесса Матильда («Подражания и смесь») считывает на своей собственной сетчатке; см. комментарий Ямпольского: «Воспоминание – это чтение чего-то невидимого для внешнего наблюдателя, чтение скрытого текста на сетчатке, вытесняющего видение актуально существующего. Глаз утрачивает устремленность на дистанцированное. Он как бы обращается внутрь себя. Объект зрения теперь оказывается не вне глаза, но внутри него, на собственной сетчатке, которая перестает регистрировать внешние объекты и сама становится объектом зрения» (О близком. С. 150).
[Закрыть]. По сути дела, такой поверхностью является пустой холст, на который живописец проецирует образы, всплывающие в его памяти. Речь здесь идет не о копировании, поскольку художник не переносит на холст некий созерцаемый им реальный объект, а о более сложном процессе, подразумевающем снятие оппозиции «идеальное-материальное». Действительно, с одной стороны, такой объект, манифестирующий себя в качестве эйдетического образа, кажется реальным, настолько сильно ощущение его материальности, но с другой, эта реальность является все-таки иллюзорной, так как самого предмета в наличии нет. Художник, который фиксирует на холсте эйдетический образ, «увиденный» им на этом холсте, уже не может быть назван подражателем, копирующим объекты, созданные мастерами. Платоновское противопоставление мастеров и живописцев оказывается в данном случае нерелевантным. Живопись перестает быть репрезентацией репрезентации и уподобляется фактически ремеслу, которое претворяет в жизнь вечные идеи. Конечно, нельзя сказать, что художник творит совершенно новый объект, так как этот объект был когда-то увиден им в реальности, но утверждать, что этот объект является лишь продуктом миметической репрезентации, тоже было бы неправильно. Белый лист бумаги, перед которым сидит поэт, функционирует так же, как и холст, то есть является тем фоном, на который проецируются эйдетические образы. То, что поэт облекает эти образы в слова, не меняет сути дела: поэт, как и художник, подражает природе, а не подражанию природы.
При всей условности подобного сопоставления, можно уподобить поверхность, на которой запечатлеваются эйдетические образы, платоновской хоре, помещаемой философом между идеей и образом, являющимся подражанием, копией идеи. Воспользуюсь комментарием М. Ямпольского:
Хора – это именно то место, в котором происходит переход от умозрительного к материальному, где идея отпечатывается в материи, это место, позволяющее осуществиться материализации идеи. <…> Хора – это воплощение совершеннейшего ничто; о ней можно сказать лишь то, что она есть чистая инаковостъ. Без хоры идеи производили бы абсолютно идентичные материальные вещи. Однако реальность наполнена разными вещами. Индивидуация вещей в материальном мире невозможна без хоры, которая как чистая инаковость «деформирует идею», вводит некий элемент отклонения, позволяющий состояться различию, то есть многообразию вещей. При этом она ассоциируется Платоном с абсолютно гладкой поверхностью, с которой стерты какие бы то ни было очертания возможной фигуры. Это чистый фон, без которого мир был бы скоплением клонов. Это воплощение тотального незнания о великом проекте миметического удвоения, но без которого это удвоение невозможно [34]34
Ямпольский М.Ткач и визионер. С. 40–41.
[Закрыть].
Хора находится в постоянном движении, не принимая никакой стабильной формы; вспомним, что подобным образом можно охарактеризовать и «второй мир», который Поплавский ассоциирует с музыкой и который есть сфера «переделывания» форм. Подобно тому как эйдосы «отпечатываются» в хоре, чтобы затем выйти из нее копиями, «первый мир» неподвижных форм проецируется на «второй», а материальным «оттиском» этой проекции выступает мир «третий», мир образов. Если дух музыки властвует во «втором» мире, то «третий» удовлетворяется «образом музыки». Следуя платоновской схеме, образ музыки должен рассматриваться как отпечаток духа музыки, но в случае эйдетического вспоминания имеет место своеобразная инверсия: эйдетический образ объекта (образ музыки) проецируется из памяти человека обратно на дух музыки или, если угодно, обратно на хору. Этот образ, чувственно воспринимаемый, но реально не существующий, отсылает, таким образом, одновременно к сфере идей и к сфере образов, не совпадая при этом в строгом смысле слова ни с идеей вспоминаемого материального объекта, ни с самим этим объектом (копией) этой идеи. Странная формула, использованная Поплавским – «ангелы только похожи на людей», – хорошо выражает этот сбой классического миметического механизма, который имеет место в ситуации эйдетического вспоминания. Ангел похож на человека так же, как эйдетический образ похож на существующий лишь в акте вспоминания материальный объект.
Выготский так описывает опыт по фиксации перехода от последовательного образа к эйдетическому и последующего «затухания» образа:
Десятилетнему ребенку показывают в течение 9 секунд совершенно неизвестную ему до того картину. Затем картина убирается, перед ребенком остается гладкий серый экран, но ребенок продолжает видеть отсутствующую картину и видеть ее так, как каждый из нас видит последовательное изображение, после того как цветная фигура убрана из поля нашего зрения. Ребенок видит отсутствующую картину во всех деталях, описывает ее, читает текст на картине и т. д. <…>
Не показывая ребенку рисунка в промежутке, его спрашивают через полчаса, может ли он снова видеть на экране. Ответ утвердительный. Задаются снова подобные же вопросы, на которые ребенок дает правильные ответы. Еще через час на 25 % всех вопросов ребенок отвечает: «Я больше этого точно не вижу», или: «это стало неясно», или даже: «это уже исчезло» [35]35
Выготский Л.Эйдетика. С. 183, 186.
[Закрыть].
Интересно, что похожая динамика наблюдается в знаменитом «негативном» описании России, данном в конце первого тома «Мертвых душ». Подробнее о гоголевском тексте как объекте пастиширования со стороны Поплавского будет говориться в главе «„Птица-тройка“ и парижское такси: „гоголевский текст“ в романе „Аполлон Безобразов“», пока же отмечу, что в качестве фиксируемого образа итальянский пейзаж у Гоголя (города, дворцы, утесы, «картинные дерева» и т. п.) обладает такой же степенью интенсивности, какой обладают последовательные образы и образы эйдетические. Русский же пейзаж дается как «плохо увиденный» образ итальянского пейзажа: рассказчик как будто всматривается в постепенно исчезающий образ Италии и на вопрос, продолжает ли он видеть «дерзкие дива природы», дает те же ответы, что и ребенок-эйдетик в опыте Йенша: «я больше этого точно не вижу», «это стало неясно», «это уже исчезло». Вместо ярких образов он начинает видеть то, что от них осталось, – точки и значки на однородном, бесцветном фоне.
* * *
Спекуляции Поплавского по поводу «громких» и «тихих» чувств естественным образом подводят его к тому, чтобы дать некую формулу поэтического творчества, описать механизм порождения художественного слова.
Как же пишется стихотворение? – спрашивает он себя и отвечает: Не могучи рассказать ощущение, поэт пытается сравнить его с чем-нибудь, как дикарь, который, чтобы сказать «горячо», говорил «как огонь», или, чтобы сказать «синий», говорил «как небо», т. е. выискивается вещь внешнего мира, которая становится как бы прилагательным оттенка, начинается описание с какого-нибудь общего туманного слова-сигнала, напр<имер>, любовь, или тоска, или лето, небо, вечер, дождь, жизнь. Выискивается вещь внешнего мира, присоединение коей к слову жизнь, т. е. присоединение ощущения с этой добавочной вещью, связанной со словом жизнь, создает конструкцию, образ, лучше уже создающий эмоциональную травму, подобную эмоциональной травме в душе автора, обволакивающей это слово. Так, индусы отыскали образ дерева, кажущийся довольно далеким от слова жизнь. «Дерево моей жизни грустит на горе», – говорит индусский поэт, но и это кажется ему недостаточным, следует конструкцию еще усложнить; тогда извлекается еще добавочное ощущение, связанное с образом синего цвета.
«Синее дерево моей жизни грустит на горе»; если нужно, также поет или танцует на горе; эта странная конструкция – соединение многих ощущений – создает некое сложное, приблизительно всегда воссоздающее ощущение автора ( Неизданное, 100).
В главе «„Поэзия – темное дело“: особенности поэтической эволюции Поплавского»я рассматриваю, в частности, феномен «подвижности» цветовых эпитетов в поэзии Поплавского, когда эпитет как бы переходит от предмета к предмету. Сейчас же хочу обратить внимание на то, что поэту, как некоему «первому» дикарю, еще предстоит создать язык для фиксации своего чувственного опыта: язык возникает из «наложения» объекта (например, неба) на ощущение (например, синего цвета), но просто «рассказать ощущение», без апелляции к вещам, он не в состоянии. Соединение ощущения с «добавочной вещью» создает образ, который лишь передаетэмоциональную травму, но – надо подчеркнуть– не являетсясамой этой эмоциональной травмой [36]36
Ср. у Поплавского в статье «По поводу… „Атлантиды – Европы“, „Новейшей русской литературы“, Джойса» (Числа. 1930–1931. № 4): «…иногда кажется, что между Джойсом и Прустом такая же разница, как между болью от ожога и рассказом о ней» ( Неизданное, 274).
[Закрыть]. Иными словами, эмоциональная травма, передаваемая образом, подобна(но не равна) эмоциональной травме в душе автора, «обволакивающей это слово». Здесь мы вновь сталкиваемся не только с проблематикой похожести, но и с принципиальным положением о невозможности повторить ощущение, которое Поплавский сформулировал в своем рассуждении о «содержательном волнении». Наверное, поэт-дикарь, зрительно воспринимающий синий цвет, но не могущий назвать его синим без добавления к нему некоей вещи, должен испытывать именно такое «содержательное волнение», которое существует как бы до языка и не поддается вербализации. Это волнение, эта эмоциональная травма в душесвязывает человека с миром музыки, с ее духом. Образ же, зафиксированный в слове (иными словами, образ музыки), хранит в себе «память» о «содержательном волнении», что дает ему возможность «травмировать» читателя.
Если вербальный образ «лишен» этой памяти, то он может быть уподоблен визуальному знаку, составленному из не обладающих собственным значением компонентов-фигур (фрагменты линий, цветовые пятна и т. п.); не случайно Поплавский критически отзывается о некоторых стихах Есенина как о примерах «грубой энигматической живописи» и противопоставляет их текстам Блока, в которых образы не просто соединены между собой, но находятся в постоянном движении, актуализирующем процессы смыслопорождения:
…так слово к слову подлетает в уме поэта, создавая странные конструкции, напр<имер>, картину Незнакомки со шлагбаумами, остряками в котелках, рекой и девушкой в перьях, рестораном, сокровищем; все вместе – это одна большая конструкция, один сложный образ, присоединение отдельных частей которого из бесконечного моря возможностей диктовано некоей удачей, некоей странной способностью отбора и извлечения, которая и есть для меня вместе с музыкальностью талант поэта – образ музыки, причем в эту конструкцию входят не только статические прилагательные, но и целый ряд сказуемых, глаголов, которые заставляют это странное синее дерево, напр<имер>, танцевать, Незнакомку проходить, звать с другого берега реки, раскачивать страусовый веер; все это неизвестно почему, но необходимо для создания целостного ощущения, причем в результате созданный образ столь же загадочен для поэта, как и для читателя, поэт сам свой первый читатель, чаще всего самый плохой. Только дух музыки сообщает этой конструкции движение [37]37
Здесь Поплавский обнаруживает знакомство со статьей Блока «Крушение гуманизма», где говорится: «Всякое движение рождается из духа музыки, оно действует проникнутое им <…>» ( Блок А.Собр. соч.: В 8 т. М.; Д.: Художественная литература, 1960. Т. 6. С. 111).
[Закрыть], колыхание, нарастание и скольжение, без которого стихотворение превращается в грубую энигматическую живопись, как иногда у Есенина. Причем все время поэт сосредоточен на некоем ценном ощущении, которое он, как бы кота в мешке и под полой, передает читателю, который обратным процессом восходит от танца образов к музыке, ее одушевляющей, к ценному ощущению поэта ( Неизданное, 101).
Для того чтобы читатель смог «взойти» от образов к музыке, образ не должен быть слишком однозначным, слишком ярким, слишком «живописным»; напротив, он должен быть загадочным, суггестивным, намекающим на то, что за ним кроется нечто еще более эфемерное, нестабильное, «музыкальное». В статье «Около живописи» (Числа. 1931. № 5) Поплавский противопоставляет художников «самодовольных и ярких», таких как Рубенс, тем, кто, подобно Рембрандту, видит трагизм мира, «гибельность и призрачность его»:
Мир, руками художников, самодовольных и ярких, сам делается ярким и пышным. Консистенция его крепнет и красивеет, но смерть и ложь воцаряются у него внутри. <…> И не только красивее, но в тысячу раз глубже и серьезнее взор художника, и не очаровательность, а трагизм мира, гибельность и призрачность его, смерть и жалость открываются нам глазами Рембрандта ( Неизданное, 333).
Итак, без духа образ сводится к чисто формальной визуальной репрезентации объекта, к «голому» образу, как говорит почитаемый Поплавским Фридрих Вильгельм Шеллинг [38]38
Шеллинг Ф. В.Философия искусства. С. 111. Поплавского привлекали не только философские спекуляции Шеллинга, но и, вполне возможно, сама манера философствования, подразумевающая определенную переменчивость взглядов, за которую Шеллинга прозвали «философским Протеем». Поплавский, как известно, тоже не отличался стабильностью своих воззрений.
В дневниках Поплавского Шеллинг упоминается неоднократно. См., например, такие записи мая-июня 1930 года: «Сегодня буду читать Шеллинга и писать сюрреалистические стихи или наоборот»; «Сейчас буду читать Шеллинга, которого читал вчера с трудом, но толково, 20 страниц в два часа. Медитировал духовно, но без блеска»; «Записал 40 страниц Шеллинга» (цит. по: Вишневский А.Перехваченные письма. С. 198–200). «Нет, только между Шеллингом и стоиками чувствую себя на своем месте», – запись, сделанная 22 августа 1935 года ( Неизданное, 117). «Роман, типичный для нашего века, – это не Онегин и Татьяна, а бракосочетание, соединение в одно Пространства и Времени, а теперь, что еще важнее – Субъекта и Объекта», – откликается Поплавский на шеллингианскую философию тождества ( Неизданное, 233). Доктриной тождества интересуется также Морелла, героиня одноименного рассказа Эдгара По, занимающая особое место в личной мифологии Поплавского. К. Кэмпбелл считает, что вся история Мореллы восходит к философии Шеллинга ( Campbell К.The Mind of Рое and Other Studies. Cambridge (Mass.): Harvard University press, 1933. P. 13).
Шеллинг упоминается также в «Автоматических стихах».
[Закрыть]. «Голый» образ – это бытие, лишенное значения, и исчерпывается он своим чувственным восприятием. Поплавский как раз не хочет, чтобы образы в стихотворении воспринимались лишь на уровне их материального – зрительного и слухового – субстрата.