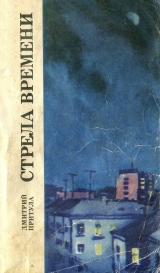
Текст книги "Стрела времени (Повесть и рассказы)"
Автор книги: Дмитрий Притула
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
А ведь Сережа мог бы и уговорить мать выслушать оправдательный лепет отца – если кто и имеет влияние на Людмилу Михайловну, то только Сережа. Да уведи мать к себе или же попроси отца не приходить домой, а посидеть пока со Светой.
И в любом случае не следовало вмешиваться – пусть родители самостоятельно расхлебывают заваренную кашу. А теперь что же? Теперь вот ведь как паренька жалко: пройдет самое короткое время, да Света ему еще сегодня всыплет, вот кто не станет кривить душой и терпеть фальшь и несправедливость, словом, одумается паренек, и что тогда? Ведь маяться будет, станет искать встреч с отцом. И неизвестно, сынок, захочет ли отец с тобой встретиться, ведь у него тоже может оказаться малая гордость. Конечно, встретится, конечно, простит, но каково ж это будет пареньку завтра и в дни следующие? А каково твоему папаше, дружище, ты это представляешь? Вот то-то. А представлять следовало заранее.
Дверь подъезда распахнулась, и на улицу выбежала Оленька. Она не могла видеть отца в темноте двора. Нежность и благодарность к дочери залили Николая Филипповича – вот узнала, как брат и мать обошлись с ее отцом, и бросилась разыскивать его. Так, ход надежд ее верен, она свернула налево и добежала по Приморской улице, следовательно, к Константиновым.
Окликать ее Николай Филиппович не стал – ему унизительным было признание, что он все еще торчит во дворе и ждет, когда его позовут в домашнее тепло.
Минут через двадцать из подъезда вышел Сергей. Он постоял, поднял лицо к небу, поежился, и неторопливо, прошел мимо здания «Союзпечати», потом свернул направо – это он домой пошел, в надежде, что отец не станет чудачить и пойдет прямехонько к нему, где всегда на случай крайности можно выделить комнату. Но ведь, сыночек, надо было без демонстраций, а вернее, до демонстрации предоставить отцу такую возможность, а потом уж принимать красивую позу. Ведь раскаиваться будет парень, не иначе.
Николай Филиппович не знал, что с ним дальше будет, не знал, как протечет ночь морозная, как проскрипит холодными шестеренками ближайший час, но знал твердо – унижать себя он не позволит и домой сегодня не вернется. Вы считали, что отец ваш – бескостный человечек, которого иной раз и пнуть не грех, а вот, оказывается, у него есть кой-какой характер. И Николай Филиппович из тьмы двора выбрался к яркому свету автобусной остановки.
И когда он сел в автобус, то понял, что поступает правильно. Конечная остановка всех автобусов города одна – железнодорожный вокзал, вот там Николай Филиппович и скоротает вечер и ночь. Это единственное помещение; которое на ночь не запирается.
Николай Филиппович поставил сумку в ящик камеры хранения, записал цифры, оглядел зал ожидания – скамейки были чисты и удобны, в полночь он сядет на ту вон угловую скамейку и подремлет, сколько сможет. Пока же времени у него достаточно.
Однако сейчас находиться в зале ожидания было опасно – его будут разыскивать, если он сообразил, что, кроме вокзала, другого пристанища нет, то ведь и дети так, сообразят, и он вышел на перрон.
Он стоял в тени газетного киоска и смотрел вдаль, в глухую темь залива. Где-то сквозь туман пробивались смутные огни фонарей. Небо раскидано было холодно и вольно. Луна была вымыта и светила бесперебойно и ясно.
Николай Филиппович хоть и смотрел вдаль и на небо, но держал под прицелом и входную дверь вокзала, чувствовал, что его будут искать. И не ошибся – в вокзал вбежала Оленька. Вот она осматривает зал ожидания, вот, по всей вероятности, зашла в ресторан – умница, хорошее предположение, отец хоть несчастен, но голоден, конечно, в ресторан зашла, иначе где ж могла задержаться, вот снова вышла, идет по перрону.
А в Николае Филипповиче борьба шла: с одной стороны, дочь нужно пожалеть, ведь она ищет его по морозу, нужно радость ей доставить, но с другой-то стороны, все нужно снести до конца, это и пареньку будет поучительно – ведь ему жить дальше.
Но главное – придя на вокзал, Николай Филиппович понял, что не пропадет, не замерзнет, то есть не было суеты непосредственно за жизнь, а оттого, что был он одинок, Николай Филиппович знал, что ничего у него нет – ни дома, ни семьи, ни имущества – только он сам, его голова, сердце, и, следовательно, он волен.
Ничего, как-либо переживет эту ночь, да, было в нем сейчас даже молодое чувство отчаяния, когда ничего не известно. И утешал себя он, выходит, отчасти молодостью, потому что чувство бездомности, сиротства – чувства молодые.
Он вошел в вокзальный ресторан. Прежде бывал здесь лишь несколько раз, ожидал, что будет шумно, оркестр станет греметь, но людей было мало, тихо играл музыкальный автомат «Меломан» – песни все те же, что каждый день слышал Николай Филиппович на юге, – повсеместная музыкальная культура.
Тут было два зала – один для спешащего люда (хватил на ходу, селедочкой заклевал и потек дальше), второй, дальний, для едоков основательных. Николай Филиппович прошел во второй зал и сел за столик в углу.
Подошла тучная медлительная девушка. Николай Филиппович молча указал на грязную посуду, девушка молча же кивнула – один моментик.
Потом Николай Филиппович спросил самого лучшего мяса, какое есть.
– У нас только антрекот под яйцом остался.
Николай Филиппович кивнул.
– Его прожевать можно будет? – Это он пошутил. Девушка шутку оценила. Она вообще была доброжелательна к Николаю Филипповичу.
– Это уж зависит не от мяса – оно какое дают, а от зубов, они свои или казенные.
– Свои покуда.
– Справитесь. И сто граммчиков?
– Пожалуй.
– Тогда селедочку? Или килечку?
– Селедочку.
Пол был грязен, стоял невыветриваемый алкогольно-пищевой дух, здесь алкоголь крепок, а пища проста, да все мешалось с застоявшимся запахом табачного дыма, а девушка – ведь молодец, поняла, что Николаю Филипповичу одиноко, и резонно предложила сто граммов. Он не собирался принимать горечь, ему и без того горько, но девушка права – горечь искусственная, введенная извне, никак не помешает.
Он вдруг вспомнил времена давние, относящиеся еще к раннему детству Сережи, все Николай Филиппович видел сейчас подробно, ему тяжело было вспоминать те времена, но остановить память он не смел.
Снова вспомнил операцию, когда паренек чуть было не погиб.
Николаю Филипповичу дали короткий грязноватый халат – не стали прогонять на улицу, чувствовали свою вину, что проморгали болезнь, – он ходит по коридору отделения, смотрит в окно, а там полдень раскаленный, а мальчугана его насильно усыпили и что-то там делают в животе, Николай Филиппович словно во сне тягостном, вот уже и слова какие-то невозможные говорят – перфорация, да гангренозный, да перитонит – и головой качают, и в глаза не смотрят, а вот худенькая санитарка несет на руках спящего Сережу, она руки установила так, чтоб живот мальчика не напрягался.
Сережа лежит, запрокинув голову, и во сне всхлипывает. Суетится подле него юная постовая сестра, ей жалко погибающего мальчика, нужно поставить капельницу, а для этого необходимо ввести толстую иглу в детскую вену, и присутствие отца ребенка ей мешает, она все толкает иглу в вену, но попасть не может. Тогда Николай Филиппович выходит в коридор.
Николай Филиппович не жил в эти мгновения, он тлел, вся жизнь его прошедшая и жизнь будущая сосредоточена была на кончике иглы, время его оставшееся вытекало из него, как капля за каплей в этой стекляшке над резинками.
Когда мальчик открыл глаза, отец склонился над ним и, боясь пропустить хоть миг времени, смотрел, как моргает сын, выплывая из насильственного сна, и обиженно надувает губы – ведь он ни в чем не провинился, за что ж наказание – и видит отца, склонившегося над ним, и капельницу, и провода эти резиновые, и, оглядывая палату, вспоминает, что он в больнице, и, как-то неестественно изогнув шею, пытается посмотреть в окно – здесь толстые стены, здесь темно и сыро, а на улице жаркое солнце и тусклая зелень позднего лета, и все новые впечатления мальчика складываются в простейший вопрос:
– Папа, я умираю, да?
А возможно ль снести такой вопрос – лицо усталого маленького мальчика и глаза взрослого, даже старого человека – да, возможно снести, и все будет хорошо, ты уже поправляешься, и ты себя вел как настоящий мужчина, и я горжусь тобой. Да, я горжусь тобой.
Тут девушка принесла водку в фужере, предоставив Николаю Филипповичу самому определять величину глотков, не стесняя его рюмочками. Поставила перед ним селедку.
А вот еще память услужливо помогает – яркая, ослепительная точка радости. Николай Филиппович вернулся из командировки. Боже мой, да сколько ж ему лет, ах, да всего двадцать шесть, пацан, в сущности, если смотреть с сегодняшней высотны. Праздник, да еще какой. Они ждали его, притаившись за дверью, видели из окна, как он идет по двору, – и вот он дверь распахивает – ах-ха! – напугали папу, и ой как страшно, как же я испугался, и обнял их разом, жену и сына, ждали его, и вот он дома – вся семья разом в обхвате его рук, потом закружил жену по комнате, а сын ревниво дергает его за плащ – а я, а я как же? – и тогда к потолку его под заливистый смех, под колокольчик этот, от которого заходится сердце.
А вот уж после ужина – дом родной, комната хоть одна, хоть слишком казенная, а все ж своя, лежит Николай Филиппович на кровати – в майке, в пижамных полосатых брюках, босоногий, тело разгорячено после мытья и праздничного ужина – телевизор смотрит. А телевизор-то, смешно вспомнить, величиной с кукиш, и, чтоб кукиш этот казался побольше, линза перед экраном укреплена, бокс передают, дерутся сборные Москвы и Ленинграда. Николаю Филипповичу бокс неинтересен, но ведь это счастье какое – в мерцающем голубом свете лежать на собственной кровати, – а паренек притаился, посапывает, что-то карандашом выводит на отцовских голых подошвах. Николай Филиппович скашивает на сына взгляд – что-то Сережа затеял, рисунок хочет отцу подарить.
– Все! Готово! – торжественно объявляет сын.
Николай Филиппович, изогнувшись, видит, что корявые буквы сложились в имя «Коля».
– Сам? – недоверчиво спрашивает Николай Филиппович.
Это вот недоверие и приводит сына в восторг.
– А кто же! А кто же! – прыгает он на кровати.
– Да откуда? – удивляется Николай Филиппович.
Глаза Людмилы Михайловны светятся гордостью за себя и за сына.
– Он тут неделю кашлял. Я с ним сидела, и мы по часу в день занимались. Вот выучил.
– Ну молодец! – Радости Николая Филипповича нет предела. Обнимает, вернее сказать, тискает сына. – Да ты уж взрослый. – И огорчение: – Без меня читать и писать начал. Так главное и проездишь.
Горячая, невозвратная радость.
Жаркий летний день. Зной послеобеденный. Изнемогают на скамейке жильцы, вяло покачиваются разноцветные флаги воскресной стирки, пожухли на клумбе цветы. Проезжающая машина взбивает пыль, и пыль долго не оседает. Солнце неподвижное, расплавленное, оно занимает полнеба, тусклое – в дымке жары и пыли. Движения людей ленивы, сонны. Сережа мается перед взрослыми. Большим пальцем ноги он колупает мягкий асфальт.
– Сережа, – говорит сосед Антонов, – ты бы нам посчитал.
– А до сколька? – радостно соглашается Сережа.
– До семидесяти.
Сережа, подпрыгивая, считает. Когда доходит до семидесяти, смотрит на Антонова, ожидая похвалы, а тот говорит:
– Все хорошо. Но ты пропустил число сорок шесть.
– Разве?
– Да.
И Сережа, тощий и шустрый, снова начинает считать.
– А теперь ты пропустил шестьдесят три.
– Разве?
– Да.
И все сначала. Наконец Антонов сдается.
– Сейчас полный порядок. Молодец.
А Сережа изнемогает от жары.
– Папа, – канючит он, – пойдем на залив.
– Мы уже ходили.
– А еще!
– Попозже сходим. Перед закатом.
– Ну, а жарко.
Вдруг Николаю Филипповичу приходит в голову:
– Давай душ сделаем.
– Да! – замирая от восторга, соглашается Сережа.
– Неси все лейки.
И вот они наполняют лейки, Николай Филиппович забирается на крышу сарая, торчащего в центре двора. Сын, задрав голову, смотрит на отца. На лице ожидание близкого счастья – ой! что сейчас будет! да на глазах всего двора, да какой душ!
Сарай высок, виден с него белый клок залива с замершей яхтой – безнадежно повисли ее паруса.
Вот на мальчугана льются холодные струи, он повизгивает от счастья, тощий, вертлявый, он прыгает на одной ноге, черные трусики сползли, видны тощие, с кулачок, ягодицы, смеется и Николай Филиппович, и все соседи смеются, душ этот собрал всех дворовых мальчишек, каждый тащит лейку, и наполняет водой, поднимается на сарай, передает лейку Николаю Филипповичу и ссыпается вниз под колющие струи – и всеобщее томление, визг, суета – где-то там далеко внизу, среди замедленного струения жара, замедленных же движений взрослого люда, всеобщего оглушения мальчуган его сияет от гордости за отца, который устроил волшебный душ для мальчишек всего двора. И тогда Николай Филиппович спускается вниз.
– Ах, мальчик, – вздыхает он, – я бы с удовольствием поменялся с тобой местами.
– Так давай, – простодушно вскрикивает сын, у него даже дух захватило от такой возможности. – Давай, папа.
– Если бы это было возможно, Сереженька, – смеется отец, и улыбаются мальчишескому простодушию соседи. – Но это уже невозможно.
«Осень. Прозрачное утро. Небо как будто в тумане».
Ранние заморозки. Иней на траве. Листья с деревьев не успели облететь, все вокруг тихо, покою души не мешает даже долетающая с аттракционов песня «Может быть, он некрасивый, может быть».
Сереже девять лет, он ходит в третий класс, утро воскресное, собирают желуди – так велели в школе, – домашнее задание, будут делать жучков и машины. Сережа в свитерке, в тонкой голубой шапочке. Листья дубов скручены от первых заморозков.
Выходят к Нижнему пруду. Дубы растут на горке, но желуди скатываются вниз, к воде.
Небо синее, выцветшее, скользят белые облака, солнце светит ярко, виден дальний низкий берег с желтым строем берез, осень золотая, красные кленовые пятна, прозрачность воздуха, полетность, легкое дыхание.
Здесь, на склоне горы, растет ель, зелень ее притомленная, тягучая, блеск тусклый, с некоторой даже голубизной.
«Пусть осень у дверей, я это твердо знаю».
Дали недостижимые, красная крыша домика среди берез, синее холодное стекло пруда, чахлая юная березка у самой воды, одинокая рябина – ободраны ее гроздья, лишь на верхушке осталась одна яркая гроздь, это уже ни у кого не хватило отваги снять ее, для этого нужно дерево повалить; желтая трава холодит руки, когда ищешь желуди, время удивительное, когда взор различает всякий листик, всякую ягоду на другом берегу пруда, покой в душе невозможный.
Переговариваются тихо – вот какой желудь отыскал, – оба понимают, громко говорить нельзя, суетливых движений делать не следует – повсеместная осторожность передана душе.
Николай Филиппович долго бродит внаклонку, вдруг он распрямляется, взгляд его разом охватывает все пространство от дворца до берега противоположного, вмещает и летящие вдали над желтыми склонами круговые качели. Листья на деревьях сохранны, дали прозрачны, надежда в душе не скосилась еще тоскою; и Николай Филиппович замер от сознания совершенства осеннего парка, от залившего душу восторга и умиления, он хотел поделиться этим состоянием с сыном, но не было нужных слов, да в этой тишине они были бы лишними, тогда он протянул ладонь и поймал ладонь сына и слегка сжал ее, как бы приглашая сына сделать перерыв в поисках желудей и посмотреть вокруг, и сын понял состояние отца, нет сомнения, понял и не убрал руку прочь, и тогда Николай Филиппович обнял его за плечи и прижал к своему боку, и они долго стояли молча.
Это, может быть, человек придумывает себе – вот тебя тогда такой-то человек понял до конца – и ты ему навсегда благодарен за такое понимание, – но никогда больше не было с сыном такого взаимного понимания, слитности.
Не уходи…
Тебя я умоляю…
А время, между тем, летело довольно-таки ускоренно, и когда, покончив с едой и питьем, Николай Филиппович взглянул на часы, то оказалось, что он проторчал здесь полтора часа. До закрытия оставалось всего полчаса.
Николай Филиппович вышел на перрон. Ветер полностью стих, снег звонко, морозно скрипел под ногами, все было ярко освещено луной, чистой, безущербной, и не было на небе каких-либо помех для ее свечения, и она как бы звенела от накала, окруженная радужным светом.
Еще ходили электрички, но перрон был пуст. Николай Филиппович дошел до конца перрона, спустился по узким ступенькам и по тропке перешел железнодорожные пути. Перед ним до самого города лежал залив, снег у берега казался темным, дальше же, к горизонту, ярко-желтым.
По узкой тропке пошел он берегом залива, из будки, провожая электричку, вышла юная стрелочница, и она долго смотрела в спину одинокому странному пешеходу.
На берегу стояло лишь несколько перевернутых кверху днищами лодок.
Смахнув рукавом снег, Николай Филиппович присел на лодку. Мороза он пока не чувствовал, но чтоб подольше сохранить в себе тепло, съежился в комочек, охватив грудь руками, и так замер.
Сейчас в Николае Филипповиче не было горечи, что вот он враз утратил для себя семью, но была жалость, и жалость не к себе.
Он жалел Людмилу Михайловну – каково ей сейчас, один день перечеркнул тридцатилетнюю жизнь, а как уязвлена ее гордость, это даже представить невозможно, ему жалко было Тоню, только бы она не надумала увольняться после сегодняшнего скандала, это надо завтра ее уговорить; но всех больше жалел Николай Филиппович Сергея – как-то, с каким чувством проснется он завтра, ведь не может не понять, что был с отцом жесток и несправедлив. А отец-то всю жизнь любил его больше всего на свете. Да что любил, разве же сейчас не любит, и страдает сейчас за сына, от жестокости его страдает, но и от жалости к нему – да можно ль так не понимать близкого человека, можно ль так оглохнуть к чужой боли. Быть не может, чтоб Сережа уже завтра утром не застонал от непоправимости случившегося. Быть этого не может.
Сейчас Николаю Филипповичу нечего было терять, потому что все было потеряно. Сейчас он ясно видел, что жизнь его зашла в тупик, и особенного выхода из этого тупика Николай Филиппович не подозревал, В прежние годы, глядя на свою жизнь не очень-то серьезно, то есть как бы посторонним взглядом, отсутствие у себя честолюбия и, во всяком случае, искательства он объяснял привычными мотивами, библейскими почти словами – суета сует… тщета… ловля ветра. Он постоянно в своей жизни не приобретал, но терял: утрата юношеских надежд – что же, это дело повсеместное, куда-то испарилась любовь к жене, растаяла и надежда, что он добьется в жизни чего-то внятного, ощутимого, даже весомого: была большая удача жизни, он сделал свою машину, но этой машины нет и, по всему судя, никогда не будет; он надеялся, что его семья неразрывна, она вечна, но вот он отпал от семьи, и догадываться можно, что и без него мира в семье не будет; всегда верил, что сын его – человек особого склада, настоящий, значительный человек, и он всегда поддержит отца в минуту трудную – и что же – не понят сыном, изгнан, отторгнут. А это была, пожалуй, самая стойкая и верная надежда. И теперь – ничего. Тупик.
А нет, все-таки приобретено немало – не одни только потери, – а приобретено хотя бы понимание, что все потеряно и все позади. И такой ясный взгляд тоже далеко не каждому дан. Терять больше нечего, и Николай Филиппович спокойно размышлял об этом, глядя в темь залива.
И была в нем уверенность, что он живет, нет, не функционирует – дышит, ест, пьет, – но живет. Он изгнан из семьи, даже предан, но все равно не унижен и не проиграл. Пока человек сам себе не скажет, что проиграл и пора сдаваться, он не проиграл свою жизнь. Да, он живет, Николай Филиппович, и это главное приобретение, это уже не ловля ветра. И он дождется, когда сын осознает нынешнюю свою жестокость и начнет искать встреч с отцом. Вот если так не случится, и если Николай Филиппович признает, что машина его – детская бездарная игрушка, и если Тоня разлюбит его, тогда, что же, – он проиграл.
Светился плоский стол залива, ярко вспыхивали отдельные снежинки, вдали виднелись огни парома, а Николай Филиппович думал о том, что не так страшны одиночество и бездомность, как ожидание одиночества и бездомности. Когда же они приходят, то человек понимает, что ему больше нечего терять, и душа его стремится к новому кругу надежд и рассчитывает на перемены впереди. Вроде и надеяться не на что, но не покидает душу юное чувство, что все-таки что-нибудь еще да произойдет, но сам ты не сделаешь ничего, что могло бы хоть как-то не то что унизить, нет, но умалить тебя.
Он сидел на днище лодки и смотрел на желтый снежный стол, мелькало иной раз детское утешение, что не худо бы ткнуться на лицо посреди этого стола да и заснуть, и хоть страха такое соображение не вызывало – сон будет, всего вернее, сладчайший, – исполнять его невозможно, то был бы поступок низкий, так круто обойтись с женой, с сыном и Тоней Николай Филиппович не мог даже в мыслях. Нет, сейчас он силен, коли дал себе слово не позволить умалять себя, более того, сейчас он чувствовал, что сильнее, чем сейчас, он никогда прежде не был.
Он подставил циферблат радужному свету луны и увидел, что совсем близка полночь, и услышал, как гудит последняя электричка, и это означало, что можно идти в зал ожидания – человек опоздал на последнюю электричку, то есть он не бездомен – и это оправдание перед стражем порядка, – но ожидает первую электричку и потому имеет право на сон.
Электричка ушла, и Николай Филиппович побрел к вокзалу.
В зале ожидания народу было мало, и он без труда отыскал свободную скамью. Даже обрадовался удаче – конец скамьи прятался за газетный киоск, и Николаи Филиппович, забившись в угол, останется, незамеченным.
И он забился в угол, шапку сбил на лицо, защищаясь от света и узнавания, и задремал.
Несколько раз проваливался в настоящий сон и ночь скоротал без труда.
Утром Николай Филиппович проснулся рано, тело свое ощутил словно избитым, но голова его была ясна. В вокзальном буфете он выпил кофе, съел бутерброд с сыром и пошел на работу.
До прихода сослуживцев оставался час, и Николай Филиппович успел умыться.
В восемь часов пришел Константинов.
– Все знаю! – сказал он. – Погорелец. Где ночевал?
– На вокзале.
– Здорово. Я так и думал. Ты не обижайся, но я позавидовал тебе.
– Есть чему завидовать. Тело ломит, словно на булыжниках спал.
– Этому и завидую. Ладно, это все лирика. Теперь по делу. Твои были у меня.
– И Сережа?
– Нет, только Оля. А теперь слушай внимательно. Тебе нужно срочно уезжать отсюда.
– А куда же?
– Сменишь Кифаренко под Москвой.
– Спасибо тебе. Ты друг.
– Там ты будешь сидеть, пока я тебя не вызову. Ты понял?
– Чего уж тут не понять.
– Если из Москвы будет ответ и ты понадобишься, я опять-таки вызову. А ты сиди и жди, пока все уляжется. Там, к слову сказать, работы навалом. И морозы. Все равно Кифаренко нужно сменить. Так сделаем это на неделю раньше положенного. Командировка с сегодняшнего числа. Прямо сейчас иди в железнодорожную кассу и закажи билет. К одиннадцати придешь в бухгалтерию. Все! Будь здоров. Просьбы есть?
– Да. Если Тоня подаст заявление об уходе, ты ее отговоришь.
– Она толковый специалист и нам нужна. Сделаю. Все?
– Все.
– Будь здоров.
– Спасибо. Ты друг.
– Мы стареем с тобой. И начинаем повторяться.
– Тогда все.
Николай Филиппович пошел в свою комнату взять необходимые для командировки бумаги, он объявил группе, что уезжает сегодня же, сейчас же, и, взяв бумаги, распрямляясь над столом, встретился со взглядом Тони и глазами попросил ее выйти следом за ним.
Остановился в коридоре перед стенгазетой и вроде бы внимательно принялся читать ее, но не понимал ни слова, потому что боковым зрением следил за дверью. Вот вышла Тоня, вот она подошла к Николаю Филипповичу, и он сжал ее ладонь, и они стояли, прижавшись плечами, лица обратив к газете. Что-то высматривали в газете, посвященной недавним праздникам, вдруг рывком повернулись лицом к лицу, и Тоня с испугом и с жалостью смотрела на него.
– Вот уезжаю, – сказал он, словно оправдываясь, – так надо, и выхода нет другого.
– Да, конечно.
– Как ты вчерашний день пережила?
– Плохо. Как же еще! Стыдно было. Но главное – вас было очень жалко. Потому и перетерпела день – знала, что вам хуже. Вечером не смогла дома усидеть, так было тревожно за вас, и я ходила по улице перед домом.
– А меня из семьи прогнали, и я ночь провел на вокзале, – пожаловался Николай Филиппович. – Я хотел прийти к тебе, но не смог. И ты прости. Понимал, что тебе плохо и нужна моя помощь, но прийти не смог. Отец, мать, сестра – ну, не смог. Не в таком вот избитом состоянии приходить. И за что? Понять не могу. Да ладно. Мне вот ехать пора. И ты одно должна знать – что б ни случилось, я тебя люблю. Я там посижу месяц или чуть больше и вернусь. Мы все вытерпим, верно?
– Да.
– Как туда приеду, сразу напишу. И ты мне напиши. До востребования.
– Хорошо.
– Я могу быть уверен, что ты не уволишься и не уедешь? Я скоро вернусь. Съезжу и вернусь. А ты подождешь меня. Могу я на это надеяться?
– Да. Я вас подожду.
То был райцентр в Подмосковье, и городок отчаянно похож на Фонарево: типовые пятиэтажные дома, парк, каток, озеро в парке, в центре дворов, как занозы, торчат сараи, вечерами на улицах безлюдно, тусклый свет, ну Фонарево и Фонарево. И тосковал Николай Филиппович: вроде он в родном городе, а Тоню видеть не может. Однако Николай Филиппович был благодарен этому городу: в отчаянную минуту здесь для него оказались ночлег – комната в СПТУ – и интересная работа, требующая не только напряжения ума, но вновь напомнившая Николаю Филипповичу, что человек он очень способный к созданию либо улучшению новых машин. А ведь для этого он и прибыл сюда. Считается, что Николай Филиппович направлен для согласования – местное КБ, как и фонаревцы, подчиняется одному начальству, и темы их работ параллельны, на самом же деле он был направлен сюда в помощь. Константинов заботится не только о благе собственного дела, но и о благе дела общего, и он ловко сообразил, что голова работает особенно продуктивно, когда человек одинок и несчастен.
Работы было много, Николая Филипповича здесь ценили, мнение его чаще всего оказывалось решающим, день протекал интересно и резво, и только вечера Николай Филиппович ожидал с тревогой – вечером он будет одинок.
Точно рассчитал Константинов и то, что Николая Филипповича придется вызвать в Москву на совещание, и время это пришло довольно скоро – в декабре, через три месяца после отправки бумаг – срок малый. Николай Филиппович ожидал, что на знакомство с бумагами уйдет не меньше полугода. Но, видно, очень уж толковыми оказались бумаги.
Это совещание Николай Филиппович запомнил хорошо – прошлые наезды в Москву как-то слились для него в нечто целое: вот они чего-то добиваются, а их то ласково, то строго уговаривают утихомириться и предоставить дело естественному течению.
Перед совещанием к ним подошел директор центрального бюро, подал руку Константинову и Нечаеву, расспрашивал о работе, был вежлив и даже ласков.
– Вы не сердитесь, что мы нарушили субординацию? – спросил Константинов.
– Ну что вы, у нас общее дело. А форма – это мелочи.
– Мы можем выиграть? – спросил Николай Филиппович.
– Не знаю. Будем стараться. Убедитесь сами. Но ведь со всех спрашивают за основы основ – за хлеб, свеклу, картофель. А морковь – это все же не основа основ. – И он отошел.
– Это хорошо, что он ласково, – проворчал Николай Филиппович. – Но что же это он раньше не пробивал машину?
– Он же все объяснил. Вот если б мы придумали принципиально новый хлебоуборочный комбайн. А морковь? Да ладно. Низкая урожайность? Но она соответствует капиталовложениям.
К ним подошел поздороваться и главный конструктор – это противник машины, однако они были любезны друг с другом, и разговор – хоть и короткий – Николай Филиппович запомнил.
– Вы меня приятно удивили, оказавшись настырным человеком. Вы по-прежнему считаете, что каждый человек должен делать то, что ему положено?
– Нет, теперь я думаю, что на это надеяться нельзя. Я должен каждый винтик проверить собственноручно. И если машина пойдет, то лично проследить, чтоб каждый механизатор дочитал инструкцию до конца, иначе он машину сломает к концу первого же сезона.
– Вот! Мысли взрослого человека. Голос не мальчика, но мужа. У меня иногда появляется еретическая мысль: на местах с нашей техникой обращаются так вольно и ломают ее так стремительно, что механизация полей может оказаться просто невыгодной.
Народу собралось много – человек пятнадцать: люди из центрального бюро, из ВАСХНИЛ, из Министерства сельского хозяйства и из Министерства сельскохозяйственного машиностроения.
Человек, проводивший совещание, вопросы ставил так, что было ясно: в сути дела он разобрался хорошо. Говорит тихо, без суеты, у него была великолепная дикция. Совещание продолжалось сорок пять минут – школьный урок.
Константинов дал краткую справку – машина не просто нова, но нова принципиально, это новый шаг в создании корнеплодоуборочных машин – дальше шли цифры, известные всем участникам совещания. В поддержку Константинову была зачитана справка ВАСХНИЛ с выводом, что машину следует запустить в серийное производство.
Затем задавали вопросы Николаю Филипповичу, и он коротко отвечал. Экономия. Освобождение рабочей силы. Срок службы.
– Кто проводил испытания?
– Опытная станция в подмосковной области.
– Чья станция?
– Центрального бюро. Даже при негативном отношении они получили вот эти результаты. На самом деле результаты должны быть лучше.
– Неплохо.
Николай Филиппович отвечал охотно, спокойно, без лишнего порыва, дескать, достоинства машины так очевидны, что непонятно, почему ее так долго мурыжили и затирали, и уже верить начинал, что все окончится благополучно. Чувствовал Николай Филиппович, что Константинов им доволен.
– Ну что ж, – сказал руководитель совещания, – товарищи создали умную, толковую машину. – Он сделал паузу, приглашая возразить, если кто не считает машину умной и толковой. – Это всегда радует, когда сильна инициатива. Особенно сейчас, когда так остро стоит вопрос о неиспользованных резервах. Вот вам резерв – ум и талант конструкторов. Спасибо вам, товарищ Константинов и товарищ Нечаев.
Тут на несколько мгновений установилась тишина, и в этой тишине Николай Филиппович рад был угадать всеобщее удовлетворение человеческим умом, придумавшим такую штуковину, почудилось Николаю Филипповичу даже некоторое умиление этим умом.
– Значит, решим так. Провести новые испытания в различных погодных условиях, с различными нагрузками.







