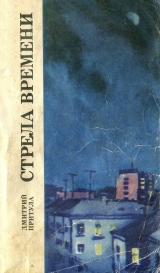
Текст книги "Стрела времени (Повесть и рассказы)"
Автор книги: Дмитрий Притула
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Вся она казалась взбитой из сливок, белая, даже сказать, сияюще белая кожа, да вся тугонькая, а в шагу плавна и легка – это когда еще она погрузнеет и сливки разбавляться начнут лишней влагой, да об этом никто и думать не смеет, глядя ей вслед, да вот за руку ее подержать, да вот пройтись с ней по улице, глядишь, и тебе перепадет что-либо от всеобщего внимания к твоей спутнице – да то и ладно.
И вот теперь она стояла перед Павлушей Пастуховым и спрашивала, где ее отец.
– А тебя как звать? – спросил Павлуша.
– Люба.
– А я Павел.
Она едва повела плечами – ей все равно, Павел он, или Геннадий, или Роберт.
Они стояли друг перед другом. Ее-то молчание не тяготило, она-то молчать могла сутками, ей даже шло – молчать, и она об этом знала, Павлуша же начал испытывать неловкость, а потом и беспокойство от плывущих на него теплых токов, и молчание все снижало и снижало его, и уж казался он себе не орлом, вернувшимся в отчий дом, но человечком небольшого роста, тщедушным, с защечными мешочками и не вполне гладкой кожей – это было тягостное и унизительное молчание.
Неумение быть в нужный момент веселым и находчивым, даже нагловатым, и губило всегда Павлушу, оттого-то девушки и обходили его своим вниманием.
Сейчас Павлушу могло спасти только чудо, и оно, представьте себе, случилось – взгляд Любы Мамзиной пробился сквозь сладкую пелену дремоты и остановился на десантном значке Павлуши.
– Это что еще такое? – ткнула она пальцем в Павлушину грудь.
– Десантный значок.
– Обалденный значок. Так ты прыгал сверху вниз?
– Да.
Она, пожалуй, впервые поняла, что кто-то может сделать такое, чего она никогда не сможет. Вот она не сможет выпрыгнуть из самолета, а этот, прямо скажем, плюгавый паренек может, этим вот соображением Павлуша ее и заинтересовал.
– Обалденно. Я бы этого не смогла.
– Ну, если подучить. Да если смелая.
– Ну, если подучить. Да если смелая, – как эхо, повторила Люба. Вот именно этими повторениями, словно эхо, она доводила отца своего Федора Евгеньевича до ослепления злостью. Тогда он в изнеможении разводил руками, поднимал глаза к потолку и цепенел на весь вечер.
– И это с большой высоты?
– Да с разной. Вот с тысячи примерно метров.
Люба ахала. Что-то ей хоть на короткое время было интересно кроме собственных снов.
– Так это же очень страшно.
– Да, страшновато, – только и сказал Павлуша.
– Обалденно, – снова восхитилась она.
Ах, Павлуша, Павлуша, да кто другой на его месте позу бы должную принял, чтоб рассказать о прыжках, а он знай улыбается смущенно. И главное – есть ведь что рассказать – да вот хоть про последний прыжок. Да, признаться – страшновато ночью прыгать, днем ты хоть видишь небо, а ночью – темная бездна плоть твою ничтожную поглотит, но есть и счастье – вот рвануло тебя за плечи, и туго налился купол, и уж восторженность в тебе клокочет, боже мой! как красива земля, когда падаешь на нее с ночного неба при раскрытом парашюте, она темна, лишь где-то далеко тускло серебрится, охваченная дымкой, и в небе виден край восходящего солнца и подсвеченные вечным прожектором облака.
Павлуша ничего не рассказал Любе, и она, поняв, что интересного не услышит, напомнила:
– Так поторопи моего папу. А то заждалась.
Павлуша пошел в дом, заглянул на кухню – там Алексей Игнатьевич все не мог сговориться с Федором Евгеньевичем.
Павлуша вдруг предложил:
– Так, может, я помогу тебе, папа?
– А вот это правильно, – обрадовался Алексей Игнатьевич. – Это такой парень, скажу вам, Федор Евгеньевич, это даже удивительно какие ловкие у него руки
– Но мне нужен мастер, вы то есть, – не глядя на Павлушу, недовольно сказал Мамзин.
– Это вы потому так говорите, что не знаете, какой это парень. Да он через год-другой меня переплюнет.
Тогда Мамзин нехотя повернулся к Павлуше и в упор уставился на него. Павлуша, однако, этот взгляд презрительный выдержал, и тогда Мамзин криво усмехнулся – дескать, им внушили, что человек создан для счастья, и потому всякий воробей желает парить орлом, а солдат стать генералом – что ж, он не против.
– Ладно, мне все равно, – устало махнул рукой Мамзин. – Мне лишь бы катер, был не хуже чем у людей.
Когда Павлуша служил, ему ни разу не снились прыжки, а сейчас, в первую ночь дома, снился Павлуше прыжок, и счетчик уже сработал, и парашют раскрылся, но купол повис колбаской, а воздухом не наполнялся, тогда Павлуша дернул кольцо ПЗ – запасного парашюта, – но и второй купол колбасил, а падение не замедлял, и в тот момент, когда земля вовсе налетала на Павлушу, он закричал и рывком сел на кровати.
Тело покрыто было липким потом – Павлуша испытал страх, которого не было даже во время самых трудных прыжков.
Он лег снова, чтоб успокоиться и смирить сердцебиение. Было раннее утро, и Павлуша чувствовал, как солнце согревает левую щеку, и вдруг он услышал, что его кто-то окликает. Павлуша хотел откликнуться, но голос его не слушался.
Да, звала его Люба Мамзина.
У него хватило воли приоткрыть глаза – Люба медленно плыла к нему, и как прекрасна она в своих замедленных движениях – задержанный поворот головы, чуть отстающая от шага правая рука. Павлуша согласен был вовсе не оживать, чтоб продлить это ее движение.
Люба остановилась возле Павлуши, склонилась над ним, опустилась на колени. Колени ее были так округлы, что с боков коленных чашечек видны были маленькие ямочки.
Люба приблизила свое лицо к его лицу и сухими, как в жару, губами коснулась его губ – мгновенное касание – всплеск крыльев бабочки перед полетом, шелест взорвавшейся почки – это все!
Павлуша снова проснулся и вышел на крыльцо. На землю наплывал сероватый рассвет. Над заливом что-то серебряно вспыхнуло. Воздух был солен, дрожал от комаров и прохлады.
Павлуша стоял на крыльце и улыбался, он не то чтобы догадывался, нет, он твердо знал, что сегодня во сне приключилось с ним чудо немалое – он просто-напросто влюбился в Любу Мамзину. А ведь видел всего десять минут. Сейчас Павлуша задержал в себе не вчерашний разговор с ней, но ночной сон, и память об этом сне была так блаженна, что стала она дороже любой яви.
Дело, которое ожидало Павлушу, не было для него новым – с малолетства он вертелся возле отца и помогал ему ремонтировать и строить лодки – дело ему известное. Но одно помогать, а другое – самому за все отвечать и быть в деле человеком самостоятельным.
Книг, чертежей, вырезок из журналов в доме была целая этажерка, и Павлуше понадобилась всего неделя, чтоб освежить память и сообразить, что именно и когда следует делать.
И потом Павлуша рассчитывал, что папаша его недолго будет стоять в сторонке. Павлуша брал советы у отца, тот охотно их давал, но горения приблизиться к лодке у него не было.
И вот в начале июня настал день тот первый, когда Павлуша впервые подступил к лодке.
Помощников да и просто наблюдателей, как всегда в начале любого дела, собралось немало. Хотя Алексей Игнатьевич, главмастер, не пришел, – у него, как назло, какое-то более неотложное дело случилось.
А потом Павлуша один остался – подразбрелся народишко, это ведь не на воду лодку спускать, когда любопытство заедает, – а ну как сразу даст она течь, – а так что за интерес: ну удаляет Павлуша шпаклевку с красно-медных заклепок – и пусть удаляет, ну прошелся паяльной лампой по краске, чтоб слупить ее, – тоже пусть, запашок горелой краски в нос шибает, это да, – пусть Павлуша сам его и вдыхает, раз ввязался в дело такое.
А вот уже день следующий: тоже жаркий, но сухой, не душный, солнце раскалило воздух, а он дрожит от жары, неподвижный залив слепит глаза, пространства так прозрачны, что справа виден блеск Исаакия, до ближайшего форта пять километров, а видна всякая выбоина на нем – волшебное время, пространства скрадены жарой, все смещено, закручено, раскалено.
Лениво копошатся люди в неоглядном дворе – распахнуты гаражи, дети прячутся в тени, движения людей экономные, словно бы человек по этакой жаре собирается жить не день, но век, словно человек не в Фонареве живет, но в Ницце. Двор вспыхнул разноцветными флагами воскресной стирки, да вот он и скандальчик – кто-то пытается ковры выбивать, а пыль – куда ей деться – медленно оседает на влажное белье, так ведь воскресенье одно хоть для стирки, хоть для ковробоя, однако нет сил у людей на серьезную ссору, так, легкий шип – ну там ты гопник либо скобарь, да так все по мелочам, да и разойдутся себе. И трещат мотоциклы, и пионеры из «Архимедика» врубили на полную катушку «Не отрекаются, любя» – рано, рано созревают наши юные друзья.
А вот и Павлуша – он шкрябает поверхность лодки.
А теперь снова кликнуть помощников – сейчас натянем полотнища да и влепим их в лодку. И Павлуша руки смазал вазелином, очки защитные надел да резиновые перчатки и поднял руки над головой, и пальцами пошевелил для верности, и, пританцовывая у лодки, руками стал протопывать полотнища, да начинал с середины, да следил, чтоб не было пузырей, а если пузырь появлялся, то Павлуша давил его гаечным ключом, он время от времени останавливал танец, и, чтоб поправить перчатки, поднимал руки кверху, и снова пританцовывал у лодки.
Он был хорош, Павлуша, в это время – движения точные, нет ничего лишнего – знает человек свое дело.
А потом Павлуша принес из дому бидон с холодным пивом, и все, кто помогал ему в такой день, легли на землю чуть влажную в тени от кочегарки и пересохшими губами припадали поочередно к бидону – да есть ли что лучше, чем лежать в тени в жаркий день и пить холодное пиво, да чтоб рядом с тобой были друзья беззлобные.
Пошла себе гражданская жизнь Павлуши, сперва медленно, тягуче, а потом все резвее и резвее да и понеслась во весь дух. И месяц отсквозил, и другой, отсветили свое белые ночи, все раньше и раньше стало солнце клевать залив и вплывать в него на ночь – так покатилась Павлушина жизнь.
Он и отдохнул-то от армии пять дней, а потом поступил на мебельный комбинат. Но сейчас главное дело для него было в лодке. Потому, во-первых, что обещал сделать, потому еще, что стал Павлуша к лодке прикипать, и это была его первая лодка и опозориться он никак не хотел, ну и главное – лодку он мастерил для отца Любы, а Любу он вспоминал ежедневно и надеялся предстать перед нею в наилучшем виде.
Все вечера с семи и до одиннадцати Павлуша просиживал в лодке. То есть сначала, конечно, возле лодки, это когда днище до ватерлинии покрывал суриком на эпоксидке, а потом звал друзей, чтоб снова перевернуть лодку, и уж с тех пор сидел внутри. Ну, конечно, еще и потому сидел все вечера в лодке, что особенно-то ему и деваться было некуда.
Конечно, дом родной он и есть дом родной, но в нем стало тесновато. Одну комнату занимает брат Боря с Людой и Владиком, а в другой – большой, но проходной – вся остальная семья. С отцом-матерью, глядишь, сжился бы сносно и в одной комнате, а вот с братом Павлуша сумеет сжиться вряд ли.
Что попивает брат, это понятно, хотя, конечно, не каждый день, – шофер, жизнь собственная тоже дорога, – а вот в пятницу как разгонится, так до воскресного утра не просыхает. Да еще и гордость его заедает – пьет только на свои, недодавая Люде основательную часть зарплаты. Да каждый день приходит домой часов в девять, хотя работа кончается в шесть, а Люде в это время изводись – до нее слухи дошли, что муж захаживает к Вале, учетчице гаража, к тому ж она бывшая подруга Люды и при встрече задевает ее взглядами победными.
А Люду Павлуше жалко – уж как она нравилась ему пять лет назад – стройная была, веселая.
Пять лет всего отлетело, а где ж та юная Люда, расплылась, не стесняется при Павлуше ходить в драном халате, волосы нечесаные, вся она нахохлившаяся.
А Владик-то все понимает, вид у пацана испуганный, к бабкиному подолу как прибьется, да так и простоял бы до сна, а Люда, вся на взводе, шпыняет его, отгоняет от бабкиных колен, не портите ребенка, мама, уже доказали, какой вы есть воспитатель, на сына старшего, к примеру, полюбуйтесь.
И что в случае таком людей держит, разлетитесь вы, братцы, в разные стороны. Но, Павлуша, я уже старая стала, я себя чувствую так, будто мне пятьдесят лет, а куда я сбегу, да еще с ребенком, если у матери одна комната и в ней младший брат с женой, а Борьке жилья не будет в ближайшие годы. Да и его мне жалко, я его хоть чуть сдерживаю, а без меня совсем пропадет. Что он болтается, это как раз ничего, не мыло – не изотрется, но только б и жену законную не забывал.
Вот и скрывался Павлуша в своей лодке, и дело это ему нравилось, и радовало, что работа продвигается не так уж и медленно – потопчины соорудил для ходьбы вдоль бортов и три переборки поставил для усиления лодки, форпик (это для топливного бака на шестьдесят литров), заднюю стенку каюты и ахтерпик.
Тихий стоял августовский вечер, и было часов около одиннадцати. Белые ночи давненько уже обессилели и упорхнули отдыхать до следующего лета, небо стало сине-зеленым, тугим, высоким. В тишине иной раз посвистывала электричка, земля темна и дома темны, словно бы они вырезаны из фанеры, над домами узкой полосой лился слабый зеленый свет, звезды были мелки, а серп луны четок и ярок – можно работать и при лунном свете, но Павлуша для верности жег керосиновую лампу. Иногда глубоко в небе мерцали огни – то пролетал самолет. Пелена, сотканная из покоя, прохлады и вечерней неуловимой влаги, окутала землю, продлилась еще, вечер позднего лета, не покидай душу, покой предночный.
Сейчас собственная дальнейшая жизнь казалась Павлуше радостной загадкой, и разгадка не сулила, конечно, ни беды, ни тревоги.
Ему оставалось всего-то ввинтить два-три шурупа, чтоб на сегодня работу закончить, как вдруг услышал он осторожные шаги у лодки.
– Кто? – недовольно спросил Павлуша.
– Да я это.
– Люба? – удивился Павлуша и выглянул из лодки – Вот так штука. Случилось что? Отец послал посмотреть, как идут дела?
– Нет, я просто так. Я, может, давно не видела тебя. И, может, увидеть хочу.
Он скорехонько выпрыгнул из лодки и сел на ступеньку. Не во сне это – Люба перед ним. И видел-то всего раз, а скучал по ней, а сейчас обрадовался так, что сердце гулко заколотилось.
– Ты почему не появляешься? Ведь вон когда прибыл.
– Где ты живешь, не знаю. Мог бы узнать у своего отца, но как пойти к тебе домой? Вот когда лодку доделаю…
– Значит, не хотел увидеть.
– Очень хотел. Даже снилась.
– Даже снилась. Значит, не хотел увидеть.
– Очень хотел. Даже, говорю, и снилась.
– Даже и снилась. А что же на работе не нашел?
– А я не знаю, где ты работаешь.
– Ты не из детского сада, нет? Нашел бы. На рынке, в уцененных товарах.
– Значит, найду.
– И раньше мог, если б захотел.
– Да ты замерзла, поди, – сказал Павлуша.
На Любе было легкое платье. Он протянул руку и дотронулся до Любиного плеча. То есть он хотел согреть ее плечо горящей своей ладонью, и только, – погладить плечо он не осмелился бы, потому что как раз смелости да и сноровки в нем не было, но Люба-то поняла, что есть в нем и смелость и сноровка, и подалась вперед, к Павлуше, совсем приблизилась к нему, а Павлуша, вдруг растворившись в ее желании, припал к ее рту, и губы ее, во сне сухие, сейчас были влажны и горячи, и Люба как бы обмерла в напряжении, и дыхание ее участилось. Павлуши сейчас как бы и не было, сознание его померкло, слаще не было минуты в его жизни – размытое в лунном свете ее лицо, вздрагивающие ноздри, и кожа, невозможно гладкая, как бы пульсирующая кожа – все так. Но вдруг в сознание Павлуши стало проникать что-то такое уж знакомое, повседневное, что-то уж очень близкое, что вошло в жизнь, как атмосферный столб, солнечный свет либо осенний дождик, – то был винный запах, и Павлуша, ненавидящий спиртное, узнал, что это не легкий запах шампанского, но тяжелый запах водки либо заменителя типа «клопомор», и этот запах был так неожидан, что Павлуша отпрянул.
Люба потрясла головой, чтоб прийти в себя.
– Ты что? – удивилась она.
– А где это ты пила?
– В ресторане. А тебе что?
– Да ничего. А только противно.
– А может, я с подругой посидела да для храбрости и приняла. Ты же не появляешься. А может, я не одна была, а с телком вроде тебя.
– Я ж тебя не звал.
– Я домой шла и увидела свет. Но ты… ты, – нужного слова Люба сразу подобрать не могла и только уничтожающе махнула рукой.
– Я тебя ждал, очень ждал, но так – не могу.
– А ведь пожалеешь.
– Да, пожалею, – согласился Павлуша, а Люба растворилась в темноте за гаражами.
Павлуша же лег в лодку между каютой и ахтерпиком, погасил лампу, руки завел за голову и долго смотрел в сине-зеленое небо, мерцающее огнями самолетов и вспышками малых звезд, лежал он долго, понимая, что отчаянно, даже бесповоротно любит он вот эту самую Любу Мамзину, уж какая она ни есть, и под этим глубоким ночным небом догадывался Павлуша, что ничего хорошего из этой любви не может выйти, но и готов был ко всему.
Да, Люба Мамзина работала в магазине уцененных товаров. Вернее, то был не магазин, а лавка, и торговала Люба ненужным товаром: креслами без ножек, авторучками-фонариками, которые не умещаются в руке и, конечно же, не пишут, съеденными молью ковриками, битыми пластинками, дырявыми ведрами.
Хотя лавка была на рынке, люди заходили сюда редко. А лавка между тем работала, занимая довольно просторное помещение.
И Люба понимала, что без лавки никак нельзя. Потому что магазины должны делать план, на том торговля и держится. И уцененка должна делать план, а на хламе его не сделаешь. Вот и открыли лавку – спускают лежалый товар. Товар пару лет пролежит у Любы, его подчистую и спишут. Иначе никак нельзя. С другой-то стороны, а Любе что за смысл работать? Премию ведь она не получает, только восемьдесят рублей зарплаты. Но ведь она уже присохла к торговле, куда ж ей деться? А в обычном магазине надо весь день вертеться, а Любе больше нравится дремать. Ну и что – нет премии, зато ей начальство иной раз продаст то, чего нет в магазине, – кофточку, пальтецо, сапожки. Так что Любе было неплохо – она при месте, и папа не ругает.
И место удачное: лавка на рынке, и это славно, видна колокольня и слышен галдеж ворон на ней, и видны торговые ряды, забавно смотреть, как народишко топчется у прилавков. Да разве ж не забавно видеть, как люди открывают рты, а слов не слышно – будто они рыбы, заглатывающие воздух. А вот собачек продают, и песик из хозяйственной сумки помахивает хвостиком, и Люба часами могла смотреть на этот хвостик.
Тихо, дремотно текли кое-какие соображения в голове Любы: вот вчера вечером она была там-то и там-то, съела то-то и то-то, а сегодня вечером встретится с подругой Наташкой, та познакомилась с молодым портным – он художник, но бросил рисовать, потому что этим делом не прокормишься, а вот шить женские брюки и юбки – это да, этим можно прокормиться, и жене не нужно работать, брюки шьет за вечер, и брюки, скажем прямо, всем на удивление, сразу видно мастера, на улице все ахают и спрашивают адресок его, но он тоже ловкач, знает жизнь – только ателье подняли цены, он тоже не отстает от жизни – брал двадцать рублей за брюки, теперь тридцать, за юбку десятку брал, теперь – пятнадцать. Но работа – ахнешь.
Не мешали Любе и редкие посетители: она знала одну точку на оконном стекле – муха долго сидела, – и Люба при посетителе смотрела ровнехонько в эту точку, а так как товар был весь сразу виден, то посетитель, стушевавшись, уходил прочь.
А вот и первые белые мушки полетели, да крупные какие, чуть подкручены ветром, сносит их как бы по касательной к земле, да и то сказать – зима припозднилась, пора бы и на шубку переходить, шубка хоть синтетическая, но очень хороша, летом купила, да и шапка хороша – беличья с длинными ушами, так что Люба вполне похожа будет на Снегурочку.
В лавке было тепло, на душе у Любы спокойно, дремотно и уж конечно беззлобно, покруживали мушки, вскидывались с колокольни вороны и, покружившись, возвращались на насиженное место, снег оживил очередь, и люди задвигались порезвее, Люба же была далеко от повсеместных забот, ей было уютно и счастливо, потому что она уверенно знала, что не всю жизнь ей вот так стоять, будут приятные перемены, а покуда и так жизнь течет спокойно и незатруднительно.
Каковы перемены, Люба не знала, но что они непременно будут и непременно приятные, не сомневалась.
Итак, стояли бесснежные морозы, земля промерзла стала упруга и звонка, как резиновый мяч, и тут-то пошел первый снег, мушки то есть полетели, и в лавку вошел наш друг Павлуша Пастухов.
Что-то даже и ворохнулось в Любе: не то сожаление, что вот ходит человек понапрасну, не то обида, что вот он поучал ее, словно папаша родной.
А Павлуша-то готовился к этой встрече, даже с работы отпросился, вчера долго не мог заснуть и сегодня с утра нервничал, да и сейчас поджилки его тряслись, сердце же, как только Павлуша увидел Любу, поколотившись о прутья грудной клетки и поняв безнадежность их сломать, соскользнуло с законного места куда-то в подвздошье.
– Ну что, Люба, как живешь?
– Да так и живу.
– Хорошо тебе здесь, что ли?
– Хорошо здесь, что ли. Во всяком случае, никому не завидую и потому собой довольна.
– А вечерами что делаешь?
– А вечер – время нерабочее. И человек имеет право на личную жизнь.
– На танцы ходишь?
– Хожу. Но редко.
– А куда?
– В Манеж, например. Но скоро перестану. Там все девочки четырнадцати и пятнадцати лет. Я уже вроде мамочка для них.
– Так сходим в кино.
– Фильмы плохие.
– Будут и хорошие.
– Не будет хороших – я знаю.
– Так, может, не приходить больше сюда?
– А я никого между тем и не звала. И даже странно. Будто бы люди сюда ходят недобровольно.
– А вроде когда-то звала.
– Вроде когда-то звала. А больше не зову.
Ну хоть бы в глаза человеку посмотрела, улыбнулась, раз приходит, значит, чего-то ждет, а чего, чего он ждет, даже взгляда пристального он не стоит – уничтожен, совсем уничтожен.
– Значит, так, Люба?
– Значит, так..
– До свиданья тогда.
– До свиданья.
Ну, вот так-то, если разобраться, что его сюда тянет, на что рассчитывает, может, и был у нее к нему какой интерес минутный – вроде он птичка новая, залетная, а потом интерес пропал.
Но что Павлуше все эти резоны, если он каждодневно помнит Любу, и если он бежит за ней, когда видит на улице, и всякий раз оказывается, что это другая девушка, и если он считает дни на работе – вот тогда-то я зайду в лавку. Он заходил бы каждый день, да неудобно глаза мозолить лишний раз. Так что пришел уж тогда, когда больше не мог выдержать.
И то сказать: разве это не радость – увидеть Любу. Вот даже если нет ответа. Теперь Павлуша согласен был и без ответа. Потому что его не оставляла надежда, что еще не все потеряно, что нужно лишь терпением запастись, Люба еще увидит, какой он мастер. Да разве же может один человек не оценить другого человека, если этот другой человек, предположим, мастер, если он может сделать вещицу, от которой дух замирает, вот бы только весны дождаться да снова к делу подключиться, и Люба все оценит и поймет точное место Павлуши.
Между стадионом (музыка играет, мальчишки на коньках гоняются) и обществом слепых (в большом цехе люди вяжут волейбольные сетки, платная чтица роман читает) воткнулся мебельный комбинат.
Название, конечно, громкое – комбинат! – на самом деле предприятие небольшое, это филиал большого комбината, что находится в городе (два часа езды в один конец).
Выпускают здесь два вида товаров: матрасы для деревянных кроватей и кресла-кровати для подростков.
Вот тут-то и работал Павлуша. Он два года учился в ПТУ, где из него готовили классного мастера мебели, да год проходил практику в мастерской по восстановлению старинной мебели. Павлуша считался лучшим учеником, надеялись, что из паренька выйдет толк, да и сам он чувствовал в себе некоторое умение и вкус к хорошей мебели.
Всего две недели понадобилось Павлуше, чтоб освоиться с новым делом. Начальница цеха Валентина Александровна Верозубова не могла нарадоваться на Павлушу: покладист, непьющ и с делом справляется.
Да и товарищи по работе были им довольны – беззлобен, на дружеские шутки не обижается, с работой справляется, еще и напарнику Василию Семеновичу поможет, если у того очередной раз поясницу прихватит. Все знали, что Павлуша в работе хороший товарищ.
Да и сам Павлуша поначалу был доволен всем: еще бы, новые для него люди, а он среди них уже разный, никогда прежде не было самостоятельных денег, а тут сразу до ста семидесяти колотит, так что живи себе и радуйся.
Почти всякий человек так и поступил бы, но Павлуша – вот беда! – устроен был малость по-другому.
Уверен был Павлуша, что человек должен радоваться тому, что он выпускает, и тогда людям, которые станут пользоваться вещами этого человека, тоже не с чего будет горевать. Денежки, понимал Павлуша, дело хорошее, даже отличное, но ведь без радости работа уж не работа, а наказание тяжкое.
И тут Павлушу ожидало некоторое разочарование. Он еще в училище на разных выставках несколько раз брал награды за свою мебель, ему и дальше так виделось: он мастерит что-либо, столешницы ли с хитрой инкрустацией, шкафы ли с резными украшениями, а люди, кто понимает в такой работе, вещи эти покупают, а Павлуша делает вещицы одну другой лучше, да так, пожалуй, вся жизнь и проходит – в труде, близком сердцу.
Но получилось грустновато. У Павлуши способности были к товару штучному, а его подключили к потоку.
Однажды Павлуша сказал своему напарнику Василию Семеновичу:
– А что такая сиротская обивка у кресел? Повеселее, что ли, нельзя придумать? Глазу и то скучно смотреть.
– Глазу, может, и скучно, да заду весело. Потому что вполне мягко. А ты мне-то что об этом говоришь?
– А кому же говорить? Вы здесь с основания, тридцать лет.
– А ты Валентине Александровне скажи.
Сказал Павлуша и Валентине Александровне, и та, видно, поняла Павлушино состояние и не обиделась.
– Так ведь, Павлик, разве мы сами обивку делаем?
– Так добейтесь, чтоб сменили.
– И сменят, когда товар идти перестанет. А наш товар идет.
– Тоже и кресла. У них бы чуть подогнуть ножки и поставить по-другому – вид иной будет. Хорошие же кресла.
– Но ведь мы филиал. Ножки-то мы сами не делаем. Да и условий нет.
Павлуша был готов к этому и сказал:
– Но уж латекс-то, губку, мы можем сами резать. Чуть дугой сделать, так и так, – Павлуша показал, – вид сразу станет более товарный, да и спине удобно отдыхать.
– А это ты, пожалуй прав. Это мы можем делать сами. Надо подумать.
– А то ведь не вполне ловко получается, Валентина Александровна. Можем ведь так работать, чтобы товар наш был самым лучшим. Забываем иной раз, что не для себя работаем, а для других людей. Что они подумают о нас? Что мы халтурщики? А как жить? Это уж себя не уважать.
Приятно было Валентине Александровне слушать такие слова – новичок, юный еще рабочий, а сознательный. Это ж опора на будущее. Радовали ее эти слова, но и тревожили: хрупкая душа у паренька, так что несдобровать, поди, Павлику этому, скорехонько его скрутит поток.
И Валентина Александровна Верозубова, пятидесятилетняя женщина, сказала ему так:
– Павлик, ты мне очень нравишься – с делом справляешься и совесть у тебя не перевелась. Но тебе бы поскорее жениться, да чтоб детей у тебя было хотя бы двое, да чтоб ты постоянно соображал, как бы их получше прокормить. Тогда бы ты думал не только о посторонней спине, которой удобно в твоем кресле, а о собственной семье. Вот тебе мой материнский совет.
Павлуша вышел с комбината. Пять часов, – а солнце ярко-красное, снег голубой, верхушки деревьев охвачены красным огнем заката. Морозит, но после дневного бокогрея ледок похрустывает под ногами. За один день случилось что-то в природе – и вот пришла весна.
Но Павлуша не радовался приходу весны, он был печален. От мгновенного осознания прихода весны ему стало жалко себя – вот он хоть и молод, но одинок, и сейчас ему хотелось, чтоб другие люди пожалели либо – на худой конец – полюбили его.
Да отчего это Павлушу в одиночество тянет, ведь есть друзья надежные, и много раз звали повеселиться основательно – вот у Вити Степанова мать всю ночь дежурит, и комната свободна, повеселимся, горечи глотнем, а подруги само собой, это не вопрос по нынешним временам, а ведь помнить следует, что год-другой после армии человеку специально и отпущен, чтоб он поколобродил, кое-какие удовольствия посрывал, ведь Павлуша – человек какой – руки и голова у него на должном месте, а заработки – года не прошло, а уж пальто зимнее купил, и плащ польский, и костюм отличный фабрики Володарского – кто ж это его не оценит и не пойдет за ним хоть и на всю дальнейшую жизнь.
Но в том-то вся беда и была, что нужен был Павлуше не кто-нибудь, но только Люба. Дня не проходило, чтоб он не вспомнил о ней, а вспомнив, не начинал печалиться, что не видит ее. В лавку он больше не заходил, чтоб не сердить ее, несколько раз ходил на танцы, надеясь увидеть ее да и сказать пару слов в свою защиту, но на танцы в Фонарево Люба не приходила, видно, ездила в другое какое место.
И вдруг Павлуше стало радостно – он понял, что сейчас не станет сдерживать себя и пойдет к рынку, чтоб увидеть Любу. Будь что будет, пусть она не станет с ним разговаривать, достаточно и того, что он увидит ее, этого пока достаточно. А лето впереди, когда Павлуша добьет лодку и будет сдавать ее хозяину, и будут ходить друг к другу в гости, успеет тогда наговориться с Любой.
Солнце уже село, но небо на западе горело малиновым огнем, воздух был гулок, движения людей чуть встревоженны.
Павлуша спустился под гору, перебежал широкое шоссе и радостно зашагал вдоль ограды рынка, обогнул большую церковь, увидел большой щит трансагентства и свернул направо – сейчас он увидит Любу.
И он увидел ее. Она торопливо шла по тротуару, шубка ее была распахнута, Люба искала кого-то глазами, вот нашла, и лицо вспыхнуло радостью, словно б зажглось закатным солнцем, словно б осветилось бьющим изнутри прожектором – это радость, что на месте человек, которого она ищет, и помахала ему рукой.
Махала она в сторону Павлуши, но внимание ее, знал он наверняка, к нему никак не относится, и, уже понимая непоправимость случившегося, Павлуша замер у щита трансагентства, вдавился в него, ощущая себя существом малейшим.
А Люба перебежала улицу и заспешила к овощному магазину – это в нескольких шагах от Павлуши, – Люба так торопилась, словно если в несколько мгновений она не успеет преодолеть пространство до того вон мотоцикла, то и мотоцикл, и хозяин его провалятся сквозь землю.
Но мотоцикл не провалился, а хозяин его, юный мичман, махал призывно рукой, и Люба что-то сказала ему на ухо, и он запрокинул голову и радостно – от переизбытка счастья – засмеялся.





![Книга Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] автора Семён Шуртаков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-povesti-243627.jpg)


