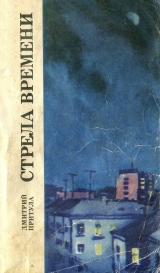
Текст книги "Стрела времени (Повесть и рассказы)"
Автор книги: Дмитрий Притула
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
– Но ведь эти испытания проводились четыре года назад, – возразил с паническими даже нотками в голосе Николай Филиппович, – ведь не я же водил машину по полям, а опытная станция. Вот они, данные испытаний. Машина не станет работать лучше за четыре года безделья, – он увлекся, Николай Филиппович, так, что Константинов потянул его за полу пиджака – да утихомирься ты.
– Вот вы еще раз проверите машину, может быть, доработаете в ней что-нибудь.
– Но к рабочему органу нет никаких замечаний.
– Вот и хорошо, – поборол раздражение руководитель совещания. – Словом, предлагаю госиспытания повторить – в тяжелых условиях и в полном объеме. – Он обвел глазами всех присутствующих – мимо Николая Филипповича глаза его проскользили. – Все согласны? – Все были согласны. – Тогда все. Спасибо вам, товарищи. Будет день, будет и пища. Тогда и встретимся.
Выходили молча. Николай Филиппович чувствовал себя раздавленным – решение его не устраивало. На улице он дал волю своим жалобам.
– Все, Константинов, это ведь все. Это же провал.
– Да успокойся ты, никакой это не провал, а скорее победа. Неполная, разумеется, но победа. Ты хоть одно возражение слышал? Нет. Все машину хвалили.
– Но и раньше хвалили, а она ни с места.
– А теперь стронется.
– Да где ж стронется? Это ж нас отфутболили.
– Нет, все не так. Испытания теперь обязательны. И если они будут успешными, а они будут успешными, мы можем ссылаться на сегодняшнее совещание.
– Да не будет у нас лучших данных. Ты денег на новую машину добудешь?
– Добуду. Теперь я могу не клянчить, а требовать, – разве это не успех?
– Но это ж все время.
– Ну да.
– К осени машину сделать не успеем.
– К этой осени отремонтируем старую. А на следующий год запустим новую. Назовем ее второй моделью. Это будет выглядеть солиднее.
– Но это ж не меньше двух лет. А там вступит в дело философия Насреддина.
– А быстрее, я теперь понимаю, ничего не делается.
– Это утешает.
– Ты хотя бы вспомни Желиговского с его виброплугами.
– Утешил, нечего сказать. В сущности, все то же ожидание.
– Но только на более высоком уровне, – засмеялся Константинов. – Но ты тоже хорош, начал заводиться. И нарвался. И тебе ясно дали понять, что пока все испытания не пройдут, больше никуда не обращайся.
– Это так, – ответил Николай Филиппович.
– А вообще-то выше голову, Нечаев. Ты еще малость посиди в Подмосковье. Кстати, там рядом опытная станция. Заведи с ними приятельство. Ну, поговори по душам, чтоб знали, что ты не горлохват, а печешься об общем деле. И вообще приятный человек. Далее. Я велю машину разобрать и начать приводить в порядок. Когда вернешься, сам определишь, что сгодится, что следует менять. Рабочий орган надежно укрыт, он сгодится, остальное – решишь сам. Скучаешь? – вдруг, без всякого перехода спросил Константинов.
– Да, Олег, скучаю, – признался Николай Филиппович. – Что там нового в Фонареве?
– А ничего. Снежная зима. Мороз. Оленька тебе написала?
– Да. А ты откуда знаешь?
– А я теперь как бы твой душеприказчик. Твой адрес можно узнать только у меня. Узнавала Оленька.
– Да, написала. – И Николай Филиппович улыбнулся.
Ему было приятно вспомнить письмо дочери – это было самое радостное событие последнего времени. Еще бы: она всю жизнь была как бы для него на втором плане, все на Сережу рассчитывал в минуту трудную, и на тебе – Оленька друг надежнейший, оказывается, – ну, так спрашивается, стоит ли голову вешать преждевременно, если в жизни всегда есть резервы неожиданные. И письмо-то ничего особенного, вот сессию спихнула, и все благополучно, но на экзамене по нервным болезням поплавала малость. И очень поддержали Николая Филипповича слова дочери, вроде бы шутливые – это уж как считать, – что вот она просит, чтобы отец скорее возвращался: «Когда я с тобой, я член семьи, Земли и даже Вселенной, а без тебя просто студентка медицинского института и ноль без палочки». Потом Оля писала, что Сережа все время ходит мрачный – «это ему попало от Светы, она, ты же знаешь, папа, какая она – не терпит несправедливостей, я ее очень за это люблю, но она ведь отходчивая, не то что наш Сереженька, и с ним скоро помирится».
– Дома все здоровы? – спросил Николай Филиппович.
– Да. Люда две недели назад вышла на работу. Как я знаю от Маши, на развод она покуда не подавала. Может, ждет твоего возвращения. Не знаю.
– Сергея видел?
– Нет.
Это огорчало Николая Филипповича, он все ждал, что сын напишет ему, адрес отца мог узнать у Константинова, но вот – не узнавал. Хотя и попало ему от жены и сестры. Может, не начал покуда по отцу томиться, время не пришло. Придет, дружище, непременно придет. Быть иначе не может. Есть же в тебе некий стержень справедливости, не даст он тебе покоя. Но не тяни слишком долго – ведь жизнь твоего отца не вечна. Конечно, от любви к тебе твой отец никогда не освободится, но все же береги его. Не тяни бесконечно.
– А так у нас все в порядке, – сказал Константинов. – Никто не пришел, никто не ушел. Давай, Николай, доделывай положенное и возвращайся. Там дела еще много?
– Недели на три.
– Добивай. Ты мне, надо сказать, сейчас нравишься. Мы с тобой годки, но сейчас у тебя дух помоложе. Я не люблю людей, которые, если на них нажмут беды, расползаются, как манная каша. Ты сейчас, пожалуй, не расползешься.
– Пожалуй, не расползусь, – усмехнулся Николай Филиппович.
За три недели, что он прожил в этом городке, Николай Филиппович получил несколько писем от Тони, и эти письма помогали ему скоротать одиночество. Он каждый день ходил на почту и примелькался молодой женщине с печальным подвижным лицом, так что она протягивала ему письма, не спрашивая документа.
А это нетерпеливое стояние в очереди у окошечка, и всякий раз письма ожидаешь так, словно от него и зависит вся жизнь дальнейшая. Да и точно – зависит, вот с сочувствующей улыбкой кивок женщины – вам сегодня нет ничего, – и невозможным кажется вечер одиночества, и тревога камнем давит грудь – что ж могло случиться и почему нет письма, да, он в отдалении и потому забыт, там, в городке родном, события какие-то развиваются, а он не в силах вмешаться, а он – в забвении, несчастнейший человек то есть.
Но уж когда ожидания оказывались не напрасными и он дрожащими от напряжения руками принимал письмо, то выходило, что справедливость в мире уже восстановилась, тревоги казались такими давними, что на краткое время их можно забыть, более того, он знал в такой момент, что не бывает страданий напрасных – он тосковал – и вот награда. Он отходит от окошка, но нет сил уйти с почты и прочесть письмо в тихом месте, и еще не вполне вытек недавний страх – а вдруг снова нет письма, – и еще трепещет душа, и Николай Филиппович, не очень-то подробно еще разбирая текст, понимает смысл: «…Я очень люблю вас, и значит, я живой человек… И всегда буду с вами, пока нужна вам… пока я полна вами, я ничего не боюсь – ни себя, ни других людей».
И когда выходишь на улицу, это ль не торжество, это ль не ликование – ждал, дождался, победа!
Николай Филиппович не жаловался в письмах на свое нынешнее положение, а только он не мог смириться, что только сейчас, под занавес проходит он всю юношескую страсть. Всякий человек проходит ее в молодости, чтоб яснее понимать ценности жизни. А он – лишь сейчас. И за что ему это невозможное счастье – когда и он и она постоянно друг другу желанны. Да, сейчас они в вынужденной разлуке, но ведь разлука не вечна, и, следовательно, все на свете еще можно исправить. Так он и писал; что бы ни случилось с ним в дальнейшем, он всегда будет благодарен судьбе, что она подарила ему Тоню. И потому он тоже ничего не боится, и потому они никогда не расстанутся – ведь нельзя расставаться, когда люди счастливы. Или были счастливы. Или хранят надежду на возврат счастья.
Он заходил на почту в среду, перед совещанием – письма не было.
После совещания, в пятницу, он снова пошел на почту, твердо надеясь, что письмо ждет его, и даже протянул в окно руку, чтоб взять письмо поскорее, но женщина покачала головой – вам пишут. В растерянности вышел Николай Филиппович на улицу и острейшим приступом затосковал по Тоне. Все ждал, что с минуты на минуту эта тоска пройдет, но то были напрасные ожидания.
Когда человек один, то вечер перед выходными днями – самое трудное время. В будний день можно лечь пораньше, объясняя себе так, что завтра рабочий день и нужна ясная, отдохнувшая голова.
В пятницу вечером Николай Филиппович спустился вниз, в комнату отдыха, надеясь приткнуться к телевизору, но в комнате отдыха молодежь танцевала.
Тогда он поднялся в свою комнату, надел пальто и снова спустился, но, выйдя на улицу, почувствовал, что никуда из Фонарева не уезжал – такое же белое кирпичное здание общежития ПТУ, те же тусклые фонари, да и тот же ветер задувает. Он побрел по знакомым фонаревским улицам, надеясь, что усилия по преодолению ветра заглушат тоску, но это были тщетные надежды. Потому что Фонарево среди прочих похожих городов имело отличительную ценность – в нем жила Тоня.
И когда Николай Филиппович под летящим по касательной к земной поверхности снегом понял, что именно он сделает завтра, то сразу успокоился. Конечно, он говорил себе, что это все глупость, безрассудство и ничего предпринимать не станет, это что ж туманцу напускать, если даже вслух невозможно обозначить будущий поступок, но в душе сидело четко – завтра он увидит Тоню. Как это произойдет, неважно. Соображение это было так невыполнимо, что даже не взволновало Николая Филипповича, и когда, устав от ходьбы и ветра, он пришел в свою обшарпанную комнату, то сразу уснул.
А утром, часов, что ли, в семь, он вскочил и, даже не сделав привычной зарядки, однако ж побрившись – он ведь почти столичная штучка и следует быть малость ухоженным, – побежал на электричку, и она за два часа домчала его до Москвы.
Цель поездки он определил ясно: нечего субботу просиживать в малом городке, когда есть возможность за счет столицы пополнить свой культурный багаж. Две недели назад он ходил в Третьяковку, а теперь сходит в какой-либо иной музей.
Электричка примчала Николая Филипповича на Казанский вокзал, он вышел на площадь, морозец стоял градусов под двадцать, над мостом выкатывалось солнце, оно пробивалось сквозь легкий туманец и казалось размытым, с проводов падали снежинки.
Он понимал, что следует идти вправо и дойти до центра, но усмехнулся своей наивной хитрости – ну, с собой-то что ж лукавить, – и пошел по подземному переходу, успевая это объяснить так, что он только глянет, как функционируют кассы – взгляд в будущие времена, когда отряхнет с себя долг работы. Только узнает про билеты, их, конечно, не окажется, и он пойдет прочь.
Николай Филиппович узнал, что билеты есть, но на вечерние поезда, а на дневные нет, и он может успокоиться. Но он не отошел, а стал уговаривать кассиршу выручить его – это уж сказалась всеобщая привычка вечно что-то канючить у обслуги.
– Вот нашла, – сказала пожилая кассирша. – Один билет. На дневной поезд. Он плацкартный и боковая полка.
– А не до жиру, – засуетился Николай Филиппович, дрожащей рукой протягивая десятку. Представить даже невозможно, что было бы с ним, не окажись билета. Ему должно было повезти, и вот повезло.
До отхода поезда оставалось полтора часа, и Николай Филиппович снова вышел на площадь.
Сейчас, когда не было выбора – билет-то в кармане, – когда не нужно больше лукавить, Николай Филиппович чувствовал острую радость – что бы ни случилось, а через десять часов он увидит Тоню. Он затем и едет, чтоб увидеть ее и сразу умчаться прочь. И ничто не могло его остановить, ни доводы собственного рассудка, ни любые препятствия. Знал вчера, что помчится, и он помчался.
Свою радость он ощущал как награду за три недели одиночества и тоски, и был потому молод, сух, взведен. И погода стояла такая же: морозец, который не схватывает дыхание, но дает телу легкость, город после недавнего снегопада чист, ясен, как чиста и ясна кажется Николаю Филипповичу собственная душа и сбывающаяся надежда.
Он воткнулся в свой поезд и в свой вагон – то был, по виду судя, резервный поезд и худший вагон – для отставшего и безответного люда, нашел боковое свое место, у самого входа, так что дверь постоянно хлопала да с каким-то ржавым надсадом, и Николай Филиппович укрепил дверь в распахнутом состоянии.
А купе было полно юными девушками, они ехали на экскурсию из Целинограда – десять дней, путевка стоит тридцать рублей, можно ль отказаться от нее, хотя и повсеместно январь.
Николай Филиппович кивал головой – город, куда едут девушки, ему знаком, однако ездить в него следует все-таки летом, когда наливаются белые ночи, и никак не зимой. Тогда девушки начали хвалить чистоту города, хоть ни разу в нем не были, особо выделяя вежливость горожан.
Николай Филиппович так это туманно заметил, что все мы живем в царстве мифов, и тогда девушка-казашка посмотрела на него так, словно он отнимает у нее надежду на личное счастье, и Николаю Филипповичу пришлось уйти в тамбур курить. Потом он забрался на свою полку – не брал белье и полностью ощутил жесткость полки, – так чувствовал себя совсем бездомным, это состояние стало для него привычным, вытянулся, завел руки за голову и замер на несколько часов блаженного ожидания.
То ли закрывал глаза, то ли нет, не вспомнить, просто провалился в ожидание и пролежал всю дорогу. Останавливались раза три, включили тусклый свет, молодые парни предлагали пирожки, кефир и пиво, а Николай Филиппович лежал неподвижно.
Вдруг внизу начали суетиться, за окном мелькнули острые огни, и Николай Филиппович спрыгнул вниз.
В кассах вокзала он попросил билет до Москвы, и ему дали возможность уехать в полвторого ночи. Иной возможности нет. Он взял билет и глянул на часы – девять. А это значит, в пол-одиннадцатого он в Фонареве а в полдвенадцатого надо спешить к электричке и к московскому поезду. Один час чистого времени. И это все. Да хотя бы столько, хотя бы увидеть, руки коснуться – и до свидания.
Он не помнил лица Тони, он не помнил ее улыбки, но знал только, что лицо это прекрасно, а от улыбки заходится его сердце, такого знания ему было достаточно, чтоб спешить из метро к электричке – тут каждые полчаса равны году и никак не менее.
Электричку ждал всего пять минут – удача! – и вагоны были пусты, он сидел у окна, смотрел в тьму свистящую, различал в этой тьме смутное, в блеске сиреневого света свое лицо, летящее шагах в десяти от окна вагона. Лицо его подпрыгивало на стыках, исчезало на остановках – это посторонний свет мешает – и вновь проявлялось в свисте разрываемого воздуха.
Тони может не быть дома – ушла в гости или на десятичасовой сеанс в кино, – но предвидеть такую возможность Николай Филиппович отказывался. Тогда, что же, – все зря, поезда эти, суета? – нет, ему непременно повезет, у него и времени-то хватит, чтоб поздороваться. Довольно? Вполне довольно. И можно еще терпеть месяц разлуки.
В Губине в вагон сели моряки из училища – они ехали танцевать с фонаревскими девушками. Паренек по транзистору пел пронзительным дискантом: «Вот почему так мила мне она, Вологда, гда, гда, гда, Вологда, гда», моряки полны были юным хмелем и уверенностью в счастливых свиданиях.
Летела электричка, летел с нею вместе и Николай Филиппович – куда? зачем? – а преодолевает такие расстояния, чтоб хоть бегло, мельком увидеть необходимого человека, и Николай Филиппович ощущал сейчас себя как никогда вольным – он захотел увидеть другого человека, и он все сделает, чтоб увидеть, – преград для Николая Филипповича сейчас не было; в транзисторе слышен был спокойный голос диктора, моряк повертел ручку, донеслись дальние разрывы, и до Николая Филипповича доплыла песня, которой он никогда прежде не слышал, артист слабым ломким голосом не пел даже, а приговаривал: «Что с душой приключилось твоей?» Песня была печальной, доплывала она издалека, не пробиваясь до сознания Николая Филипповича, потому что он был в полудреме ожидания. Вдруг сознание его включилось полностью, и он разобрал последние слова этой песни: «Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому».
А электричка прилетела и шаркнула, и остановилась, Николай Филиппович выпрыгнул на перрон, и сердце его ощутимо забилось – вот он, городок привычный, нет, ничего не бывает зря, только себя самого не предавай ни при каком счете, и тогда с человеком ничего поделать невозможно, и нет сил, которые могли бы человека сломить и бросить его на колени, он же, этот человек малый, напротив того, сделает все, что задумал, да, он умел терпеть, и вот ему награда – еще пять минут быстрого хода и на отшибе города, у самого парка, возникнет Тонин дом.
Рассказы

Год жизни Павлуши Пастухова
Ах ты, боже мой, ну какой красавчик, фуражечка-то как сбита к правой брови, а кителек какой, а брюки, это ж все новенькое, как для парада, стрелка какая на брюках, руку, поверь, порежешь, если до нее дотронешься, а на ногах не кирзачи, но ботиночки тупорылые, и как блестят они на майском солнышке, как в нос шибают гуталином. То Павлуша наш, боже мой, простите великодушно, как уж теперь защитника такого Павлушей называть, ума не приложу, то есть это же Павел Алексеевич Пастухов, гвардии младший сержант, последний день при погонах в полном блеске ходит. Но да знаем тебя, когда, прости, ты еще на горшок проситься не умел, так и дозволь по-прежнему Павлушей называть.
Боже мой, а грудь-то у него вся в металле – да что ж это такое – а это, представьте, гвардейский значок, а этот вот означает, что он, сын наш, сосед, земеля, отличник боевой подготовки, ну а это что означает – самолетик с веревочками и с металлической тютюнькой на веревочках да с цифрой «30», – а то и означает, что Павлуша наш герой, он служил в войсках десантных и прыгнул на землю как раз столько, сколько указано на тоненькой тютюньке – да орел он, а не птаха мелкая, ведь вам, парашютистам, привольно на небе чистом, легки ребята на подъем, словом, короче – шутить не следует с орлом.
Да румяный какой, чистенький, и как Павлуша важничает, да ряжку слегка в армии наел, вроде даже мешочки защечные появились – нет, это не от лишнего армейского харча, но от улыбки, рад ведь нам Павлуша, друг наш юный и сосед.
А вот его принимает и по спине хлопает Алексей Игнатьевич Пастухов, батя, отец родной, красиво говоря, значочки поглаживает, красуется за молодца перед соседями. И есть чем гордиться, это ж не чужой пацан-корка-в-носу, это ж не зять-что-с-него-взять, а сын в добром здравии и в полном согласии с законом в дом пришедший.
Алексея Игнатьевича тоже еще мало кто зовет вот так сложно – все больше Лехой либо Пенсионером – шутка такая. Ему год назад пятьдесят лет стукнуло, а он на пенсию вышел, да с верхушкой в кармане – сто двадцать рублей ежемесячно гребет, – а здоров, черт, волосы целы, зубы все на должном месте, и не казенные, но свои. А почему так? А потому что на плечах Алексей Игнатьевич носит голову, да еще какую, – он десять лет назад подался в гальваники – ему под руку пыхтели, мол, нигде ничего даром не дают и Сонечку, начальницу главную, никак то есть не объехать, десятку эту прожить еще следует, но вот теперь всем его сверстникам до пенсии пыхтеть, а Лехе, то есть сейчас Алексею Игнатьевичу, – жить да наслаждаться.
Ксения, голубушка, да что ж это ты к сыну не прибьешься, или не рада, что все теперь в полном сборе.
Да рада, рада, но вот батя все его тискает, да соседи вокруг Павлуши столпились, мне и не пробиться, да по моим-то габаритам, ну-ка раздайся, люди, подь сюда, сынок, Павлуша, как ты повзрослел за два года, а мы все такие же, и ничего у нас не случилось.
Так давайте все в дом, к столу, ждали нашего паренька три дня, мать вон не спала, как приказ министра вывесили, все сына ждала, в дом, в дом, вот и за дядьями сгоняли – за Серегой и Мишаней – сегодня уж будет разворот для праздничка.
А на столе уж студенек свои последние минуты доживает, где ж это, хозяюшка, ножек раздобыла, а и салат из филе трески сияет, – а вон рыбка отварная, судачок, выходит, это уж кто-то из своих руку потренировал, а вот Павлуше спецблюдо, мечтал сынок о материнском борще, снился, говоришь, он тебе, так вот твоя глубокая тарелка, да и всем не отставать и влагу по стопкам да и за радостное такое возвращение.
– А ты что же, Павлуша? – голос удивленный.
– А не принимаю.
– Что-то новенькое. Слышал, только памятники не принимают.
– Молодой еще, – похвалил Павлушу отец. – Это успеется.
– Насквозь, гляжу, положительный.
– Так и есть. Ладно, Павлуша, пропусти стопарик.
И так это скорехонько все смолотили да вспоминать стали, кто и как служил, да как демобилизовался, да как успел в обмотках походить, а Павлуша сидел и радостно улыбался тому, что вот он снова дома и служба – будь она трижды распрекрасна – позади, он прыгнул двадцать восемь раз и уцелел.
Что было главное в Павлуше? Его никак нельзя назвать человеком видным, приметным, что ли, нет, иной человек может увидеть его пять или десять раз, а при повой встрече не узнать – росток у него средний, сто семьдесят сантиметров, Павлуша тощ и кажется тщедушным, кожа на лице его не так уж чтобы и гладка, но что замечательно у Павлуши – так это зубы и улыбка. Как только Павлуша улыбается, так человеку опытному понятно становится, что паренек этот открыт, и юн, и доверчив.
Павлуша улыбался, радуясь, что сидит он дома, и ест борщ и студенек, и что здесь все такое же, как прежде. И точно – за два года ничего не изменилось. Он-то, Павлуша, повзрослел на целую жизнь, а здесь ничего не изменилось – ни отец, ни мать, ни дядья не состарились, и те же шутки за столом, и те ж две комнаты в деревянном доме, те ж занавески кружевные на окнах, и на подоконниках те ж цветы в горшочках – то и славно, что все без изменений.
А мать – Ксения Васильевна – все суетилась, меняла тарелки со студнем и салатами, подавала жаркое, и вдруг, освободившись от улыбки приветливой, села на стул у окна и задумалась.
Задумалась Ксения Васильевна о том как раз, что вот семья ничего никому не должна и все наконец дома. Теперь только бы текла жизнь без неожиданностей, отец пенсию выработал, ей бы вот, клейщице резиновых сапог на «Восходе», доработать до пенсии, это еще семь лет, а здоровьишка, вот беда, не так и много остается, давление начало что-то прыгать, но теперь, когда не будет страха за Павлушу, все наладится. Теперь только бы жить да жить.
Хорош паренек – сын младший – застенчивый, как девушка, совесть имеет, и руки удачливые. Так это обживется и женится, и это бы лучше некуда. Он, конечно, не пойдет в старшего брата Борю. Тот пришел из армии пять лет назад, сразу женился на Людке – вон она, кваша, сидит, – а ссоры пошли, чувствует Ксения Васильевна, ничего у них путного не выйдет. Владика, четырехлетнего внука, жалко.
– Боря, – подала голос Ксения Васильевна, – на белое не очень налегай, ты больше на рыбу да на мясо.
– Все путем, мама, все путем, братан ведь как-никак вернулся. А за меня спокойствие. Ну, братка, ты бы похвастался службой.
– Да, да, как служил-то, парень? – подхватили все разом.
Все довели уже свое веселье до нужной точки, когда оно не так-то сразу начнет улетучиваться, и были сыты, а потому очень хотелось сообща поговорить о чем-нибудь таком, что к ним самим прямого отношения не имеет, – о жизни на Марсе или в Америке, о полетах в космос или о Павлушиной службе.
– Служба как служба, – увернулся Павлуша.
– Сколько раз сиганул? – настаивал брат.
– Двадцать восемь.
– А без парашюта? – Это шутка такая – все засмеялись.
– Вот вам и Павлуша Пастухов, – сказал Алексей Игнатьевич. – Вот вам и робкий. А из робких, гляжу я, самые герои и получаются. А горлохваты, – тут Алексей Игнатьевич пристально посмотрел на Бориса, – они долгохлебы, только за столом и храбрые.
– А все ж, перед первым прыжком штаны не намочил? – не унимался Борис.
– Нет, – улыбнулся Павлуша. – А страшно было. Ну, перед первым прыжком страшно оттого, что не знаешь, как это выглядит. А потом уж страшно, что знаешь, как выглядит.
Только в разговор врубились дядя Серега и Мишаня, только они собрались загалдеть, что сейчас служба – масло сплошное и это не то, что двадцать лет назад, когда эту кашу хлебали они, как в комнату заглянул незнакомый мужчина.
– Или отдай деньги, или займись делом, – мимолетом бросила Ксения Васильевна мужу.
Впрочем, мужчина был незнаком только Павлуше, Алексей же Игнатьевич очень даже хорошо его знал, и он поспешно встал, ладонями потолкал перед грудью, что следовало понимать – минутку, гости дорогие и закуски, я сейчас человечка спроважу.
Но то был не человечек, а капитан второго ранга – кап-два, привычно говоря – Мамзин, и одет он был подчеркнуто по-дачному – кроме рубашки-распашонки он был в штучных семирублевых брюках и шлепанцах на босу ногу.
Они вышли на крыльцо.
– Ну, Алексей Игнатьевич, как лодка? – строго спросил Мамзин.
– Хороша будет лодка, Федор Евгеньевич.
– Деньги между тем плачены, Алексей Игнатьевич. И деньги немалые.
– Но и не большие, Федор Евгеньевич.
– Не в деньгах счастье.
– Что совершенно верно. А пройдемте на кухню, Федор Евгеньевич, – сказал Алексей Игнатьевич, надеясь угостить Мамзина чем-нибудь горьковатым.
Гость на кухню прошел, но от горечи отказался – ему и так горько, деньги дал вперед, а товара нет.
– Поймите меня правильно, Алексей Игнатьевич, деньги на улице не валяются, это ясно каждому, но не в деньгах счастье, повторяю, мне на вас указали как на лучшего мастера, деньги я уже оторвал от себя, и теперь мне нужна хорошая лодка, а не деньги.
А Павлуша в это время спросил у матушки Ксении Васильевны, кто это пришел и почему отвлекает отца, и та объяснила, что папаша год назад раздобыл списанную с большого парохода шлюпку и взялся – дело для него привычное, сколько лет им занимался – соорудить хороший катер, часть денег, как водится, взял вперед, но что-то в папаше заколодило, и он никак не может приняться за дело.
– Деньги-то большие?
– Двести.
– Тю!
– Но из них за шлюпку плати, и за подъемный кран, и за материалы, а работы на целое лето, как не поболее.
– Хитрован! – Это дядя Мишаня сказал про заказчика.
Алексей же Игнатьевич в это время соображал, как бы ему половчее отделаться от незваного гостя. За свою жизнь, подхалтуривая помимо основной работы, Алексей Игнатьевич сделал немало лодок. Были среди них похуже и получше, но вовсе плохоньких, чтоб их стесняться, когда видишь в ходу или на приколе, – не было. Год назад он взялся сделать из шлюпки катер. Для чего Мамзину катер – для рыбной ли ловли или чтоб было чем пред гостями хвалиться, – это неясно, да и не в этом дело – ваши денежки, наши труды – счет простой.
Но случилось вовсе неожиданное: Алексей Игнатьевич так ждал, когда ж ему подвалит пенсия, что когда день этот настал, он малость ошалел. А утром первого дня, когда Алексей Игнатьевич проснулся в пенсионном состоянии, он вдруг почувствовал, что в нем нет ни малой воли, чтобы хоть что-то делать.
Ну прямо беда приключилась с человеком: был в нем завод некий трудиться, и вот теперь завод этот кончился, и Алексей Игнатьевич почувствовал себя человеком, свободным от какого-либо труда.
Каждый вечер он говорил себе, ну все, он не тунеядец, он человек рабочий и завтра с утра засядет за привычное дело, но приходило утро, и Алексей Игнатьевич понимал, что нет ничего слаще, чем без всякого дела греться на солнышке, лежать на берегу залива и подставлять солнцу то один бок, то другой, и, постанывая, плюхаться в воду, да и плавать до услады полнейшей.
Деньги с Мамзина Алексей Игнатьевич взял перед самым выходом на пенсию, он, Алексей Игнатьевич, конечно же, не какой-нибудь ханыга, чтоб зажимать чужие деньги, да Мамзин и не требовал их возврата, но вот так взять да и вернуть Алексей Игнатьевич тоже не мог: это будет означать, что всякий человек в городе поймет, – мастеру конец, – но главное – перед собой ясно стало бы, что Алексею Игнатьевичу больше не быть трудовым человеком и следует признать поражение.
Вот и тянул Алексей Игнатьевич, вот и говорил – еще один день, да еще один, я отдохну, и притекут силы для труда привычного.
– Но так тоже делать нельзя – я прихожу, а вы от меня прячетесь, – сказал Мамзин. – Взрослые люди. И неловко. И вроде бы уважаемые в городе люди.
– Лодка будет что надо, Федор Евгеньевич. Скоро ее спустим на воду. Да и шампанское разобьем для легкого хода.
А Павлуша в это время ждал, когда к столу вернется отец, и, не дождавшись, вышел на крыльцо, чтоб помочь отцу освободиться от неожиданного посетителя.
На крыльце никого не было.
День угасал, медленно наползали сумерки, плоский диск солнца неотступно врезался в ровное блеклое зеркало залива, что-то недавно отгоревшее пропитывало воздух, покруживало душу грустью и надеждами на юное счастье, белые ночи мелькали вдали, еще только бледной тенью своих крыльев прикрывая землю, в КЮТе – Клубе юных техников «Архимедик» – пионеры гоняли пластинки, и под окнами в заболоченном пруду отчаянно, навзрыд тосковали лягушки.
О! Павлушин двор огромный, чего только нет в нем: сараи, гаражи, черная труба кочегарки, длинный сарай «Архимедика», склад ящиков для бутылок, детская площадка, – а дальше пустырь необъятный. Да, а слева от детской площадки два домика как занозы торчат, и домики эти полубарачного типа, и в каждом домике по четыре семьи. Вот одна из них и есть семья Пастуховых.
Павлуша медленно привыкал к своему двору, как вдруг услышал:
– А где мой папа?
– Какой еще папа?
– Да мой. Чей же еще?
– Я тебя-то вижу впервые, а папу – подавно не знаю.
– Да он к вам в дом зашел и пропал.
– Так это ему мой отец лодку должен?
– Вот именно. А то денежки берут, а лодки нету – хитренькие какие.
– Разберемся.
– В том-то и дело. И побыстрее бы.
– Разберемся, я сказал.
Перед ним стояла девушка. То была Люба Мамзина.
Павлуша-то ее видел впервые, но те, кто видел ее еще пять лет назад, говорили себе, что из этой девчушки вырастет красивая девушка – и точно, не ошиблись – и выросла, и красивая, так что когда она идет по улице, редко какой мужчина не остановится и не посмотрит ей вслед. Слов нет, умненькой девочкой ее никто никогда не называл, в прошлом году со скрипом и со стонами окончила школу, при поступлении в институт срезалась на первом же экзамене, так что вторую попытку даже и делать не пытается.
Она, Люба Мамзина, окружающих как бы и не замечала. То ли в детстве ей внушили, что она станет красивой женщиной, то ли внутренняя уверенность жила, что вот этот народишко противоположного пола никуда от нее не денется, всегда будет обалдевать в ее присутствии, так что и замечать-то его не следует. Тут можно понять людей, глазеющих ей вслед: Люба как бы всегда дремала – на уроках, дома ли, на улице, – ей снится вроде бы один и тот же замечательный сон, что это за сон, она и сама понять не может, но что-то в голове вертится необыкновенно приятное, и она этому улыбается. Так вот все теряли покой именно от этой улыбки, направленной не к окружающим, но в себя, в свой сладкий сон. Вот смотрит она на тебя, а тебя не видит, ты и теряешься в смущении, букашкой малой кажешься себе, перестарком, недостойным попадаться на ее дремотные глаза.





![Книга Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] автора Семён Шуртаков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-povesti-243627.jpg)


