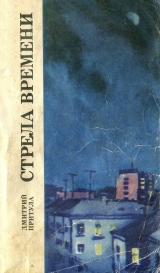
Текст книги "Стрела времени (Повесть и рассказы)"
Автор книги: Дмитрий Притула
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Верно – по улице спешила Надя. Руками размахивала. Увидев Пашку, остановилась.
– Искала! – крикнула. – Беги! Да Марину-то оставь!
– Что? – испугался Пашка, и дыхание его захлестнулось. – Аня?
– Аня. – И Надя заплакала. Лицо ее перекосилось и сразу сморщилось. – Аня.
Рванулся. Быть не может. Так не бывает. Неправда. Побежал по Парковой, потом вдоль покосившегося забора, и нырнул в Песочный переулок, и все вдоль зеленого больничного забора, и он был бесконечным.
Остановился. Дыхание перевел. Рукавом вытер пот. Душно. Тяжело бежать. Много пива выпил. Две кружки. Почти три. Третью чуть-чуть не допил. Побежал дальше. Никогда забор не кончится.
Вбежал в больничный двор, и мимо «Скорой помощи», и зеленых ворот, и красного кирпичного здания, влетел наконец во второй этаж.
А на лестнице стояли больные и посетители, и кто-то поздоровался и сразу отвернулся, и Пашка остановился перед дверью и, кажется, даже волосы поправил и толкнул дверь.
Знакомая медицинская сестра подняла голову.
– Что, Лена? – подошел к ней Пашка. – Так, да?
Она ничего не ответила. Глаза ее суетились, она их отвела и что-то долго искала в историях болезней.
Увидел Екатерину Андреевну, заведующую отделением. Глаза ее покраснели. Плакала. По каждому плачет, что ли. Смотрела в сторону. Подошла близко к Пашке. Увела его в свой кабинет.
– Как же так? – спросил он.
– Так, Павел. Ничего не смогли сделать. Острая сердечная недостаточность.
– А как же?
– Она тяжело болела, Павел.
– Да. Знаю. – И чтобы тверже стоять, налег спиной на стену.
А думал – свалится. На полу кататься станет. Но нет. И не плачет. И что-то еще спрашивает. Хоть и не очень понимает ответы. Хоть бы завыть. Но не получится.
Екатерина Андреевна что-то еще говорила и успокаивала Пашку, а он только кивал головой – спасибо вам, спасибо.
– Дать тебе нашатырю?
Покачал головой. А ноги ватные. Дрожат колени. Сесть бы на пол. Вон туда, в угол. Но нельзя. Чужие люди. Место постороннее.
– Нет, я сам. Я ничего. Вытяну. А как же теперь?
– Как что? – не поняла Екатерина Андреевна. – Жить надо. И беречь себя. У тебя дети. Для них и жить.
– Нет.
– Ты для них теперь и мать и отец. Все вместе.
– Да. И раньше.
– А теперь подавно.
– А все-таки – как же?
– Что именно, Павел?
– Устраивать все. Раз уж так. Провожать. Документы там. Все такое. Машина.
– Не знаю. Завтра утром во двор придешь. К тому зеленому домику. Все расскажут. И сделают. Это – другое. Это – само собой. Ты за детьми смотри. В обиду их не давай.
– Да, спасибо. – И Пашка вышел.
Спустился по лестнице. Побрел двором. По сторонам не смотрел. Только под ноги.
Вышел в Песочный переулок. Долго брел, а куда и зачем – сам не знает, и ни разу вроде не покурил, то ли забыл, то ли папирос не было, и уже сгустились сумерки, темнота повисла, в переулке, и над баней, и дальше по всей Парковой фонари зажглись, а Пашка все брел куда-то, а потом вдруг поднял голову и увидел, что стоит перед своим домом. И когда увидел он свое крыльцо, понял вдруг – не будет больше радости, пустая, голая жизнь… Это все. Осталось доживать, сколько отпущено.
Тишина стояла в доме. И плыли сумерки. Забившись в угол, всхлипывала Надя. К ней жалась Марина. Она испуганно взглянула на отца. Ничего не понимает.
На подоконнике сидел Серега. Он не плакал. Знает – нельзя. Или мало что понимает.
Пашка рухнул в кресло. Тяжесть в горле не давала раздышаться. Но плакать нельзя. Это – дети. Он для них все. Никого больше. Крепость. Каменная стена. И она не должна шататься.
Не сдерживаясь, громко заголосила Надя.
– Ну! – грозно сказал Пашка.
Надя осеклась. Боролась с судорожными всхлипываниями.
– Павел, как же это? – выдохнула она.
– Так. Ничего не поделаешь. Ты не плачь, пожалуйста. Не плачь. Дети.
И осекся. И, чтобы не заголосить самому, сжал виски ладонями и старался раздавить голову, а когда руки отпустил, в горле вдруг смягчилось, и понятно вдруг стало, что не придет сюда больше Аня, и не встретит Пашку у порога, и не проведет ладонью по затылку, и Пашка качал головой, чтобы не вылить слезы, а они и не лились, только сухость в глазах и только горло дерет.
Вдруг поднял голову. Выпрямился. Нужно зажечь свет.
– Значит, так, – сказал строго. – Завтра пойдем в больницу. Ты, Надя, поедешь в Пяльцы. Там есть люди. Они все сделают. Возьмешь машину, все привезешь, Серега утром сходит к Николашке. Пусть сразу идет сюда. Поможет. Понятно?
Надя и Серега кивнули.
Пашка внимательно посмотрел на Надю.
– Поможешь, если что, – сказал он. – Первое время. Потом сами поднимемся.
– Да, – согласно кивнула Надя. – Помогу, Павел.
– И нормально тогда. Вырастут. И людьми. Точно так. И ты не сомневайся.
Под звездами августа
Стоял август сорок пятого года, и солдат Василий Лукин возвращался с войны в родные края.
Война отняла у Лукина молодость, многих друзей, мать и старшего брата, отбила душу и печенки, взамен же дала специальность связиста. Он устроился на телеграфе в областном городе и сейчас ехал на неделю в родную деревню Глухово, чтоб повидать немолодого уже отца, которого не видел ровно четыре года.
Лукин стоял на верхней палубе, накинув на плечи шинель и поставив у ног мешок «сидор» и гармонику в обшарпанном футляре.
В тишине слышен был лишь чакающий звук колеса парохода. От воды отрывался слабый, чуткий пар. Вдали влажно синел лес. Медленно уплывали песчаные берега. У самого берега стояла лодка, и в ней четыре мальчика рыбачили – двое в белых рубашках и двое в красных. Те, что были в красных рубашках, одновременно повернулись к пароходу и помахали свободными от удочек руками. Лукин помахал им в ответ. Сон и легкий пар окутали все вокруг.
Река сделала крутой поворот, и, когда стала видна пристань Кужи, Лукин взял в руки мешок и гармонику.
И вот он, солдат, после многих лет отсутствия вступивший на знакомую тропу: в шагу широк, тело его легко, солдат сух, но не худ, а вернее сказать, жилист и вынослив во всякой работе; лицо загорелое, и загар скрывает, но не вовсе, множественные веснушки; нос невелик, да к тому же чуток вздернут, пилоточка сбита к левому уху, и видны светлые волосы, что называется рассыпчатые, так что ты их как ни пристраивай, они все равно разлетятся от первого ветерка, и потому всего удобнее убирать их со лба просто пятерней; глаза у солдата в молодости были, может даже, и голубыми, но от солнца и вида многих потерь выцвели, и теперь они цвета осеннего нетеплого неба – то ли голубые, то ли заваленные серыми преддождевыми облаками.
В Куже стояло два дома – большой под красной, крышей и поменьше.
Лукин взбежал на пригорок, вымыл в траве мыски сапог и пошел к дому поменьше.
В зале ожидания стояли две пустые скамейки, окошечко с надписью «Касса» было заколочено, и Василий Лукин постучал в дверь.
За столом сидел пожилой мужчина в очках – одну дужку заменял шнурок – и в английском френче, возраст которого определить было невозможно. По френчу и очкам на шнурке Лукин и узнал мужчину.
– Здравствуйте, дядя Петя.
Тот настороженно посмотрел на Лукина, для верности большим и указательным пальцами придержал стекло, к которому крепился шнурок, но узнать не сумел. Дядя Петя никогда не брился, лицо его казалось бабьим.
– Я сын Павла Лукина.
– Федор, что ли? – настороженно спросил дядя Петя.
– Нет, полег Федор.
– То-то и удивился, – облегченно сказал дядя Петя. – Так ты Вася, выходит.
– Ну да.
– Так здорово же, Васенька. – И он проворно встал из-за стола и обнял Лукина.
Потянул за руку, заспешил к выходу, приговаривая:
– А не признал сразу вот. Но и ты пойми и не сердись: война вот что выделывает с вашим братом, ушел мальчишечкой, а сейчас нате вам – мужчина в гордом соку. Да рубец над бровью.
И закричал с крыльца:
– Мотя! А Мотя!
На крик из соседнего дома вышла тучная босая женщина в красном сарафане.
– Слышь, Мотя, это Павла Лукина сынок. Да ну, друг из Глухова, я тебе говорил. Так ты и подумай, что к чему.
– Так ведь баня с утра топлена.
– И это дело. – И, махнув рукой, дядя Петя отпустил женщину к ее делам.
– Да ты же Мотю не знаешь, – объяснил он присутствие в доме незнакомой женщины. – Мария Антоновна, вечная ей память и земля пухом, перед войной, как ты знаешь, слегла и вскоре отправилась искать лучшей доли. Володьку, навроде тебя, в сорок первом припекли под знамена боевые. Анюта, дочка, замуж за проезжего солдата вышла и утекла. Вот ты посчитай, Вася, и это простенько – один остался, как этот вот палец. А тут одна женщина, вот хоть бы Мотя, пример приведем, держит путь в Уселье. Там у нее сестра живет. Но где Уселье, ты это знаешь, там и веселье. Она ждала попутку день и другой, да так вот третий год и ожидает. Но это уж с печатью и подписью, как то и положено. Да она негрозная, и сам увидишь.
– А что – плохо с машинами? Я, по правде говоря, засиживаться не собираюсь. Мне бы за три-четыре дня обернуться.
– Что ты, Вася, какие машины! И звук их я позабыл. Если только кого на телеге подвезут, так обратно прихватят счастливчика. Но полагаться приходится более всего на ноги прыткие.
– Так ведь шестьдесят до Глухова.
– Что и доказывалось неоднократно. А потому часок дела не решит. И ты вот от баньки не отказывайся, Мотя для меня топила, как сегодня как раз именно суббота, а потом выкушаешь, что Мотя подкинет.
– Про глуховских слышно ли что-нибудь? Я вот полгода писем не получал. Может, и писали мне, да на месте сидеть не приходилось.
– Сейчас ведь, Вася, добрые вести доходят редко, а вот худого я ничего не слышал. Вот теперь и первая добрая весть – всем говорить стану, что Вася Лукин вернулся с победой и целехонек.
И вот когда Лукин обдал раскаленные камни и пар пронял его и пропитал каждую клетку тела, и Лукин, обессиленный, спустился на скамейку, вот только тогда понял он до основания, что война, пожалуй, действительно кончилась. Нет, что говорить, это и прежде было известно, что кончилась, и когда полночи палили из автоматов под Братиславой, и потом три месяца, когда можно было ходить прямо, не опасаясь обстрелов. Но не распрямлялась в душе пружина, чтоб вот так окончательно понять: все! конец этой каше! Вот так, всякой клеточкой осознал Лукин впервые – все, не лежать ему в окопе, не тянуть ему провод по глубокому снегу, да быстрее же, быстрее, дух отлетает, селезенка екает, как у загнанной лошади, не будет встреч на время, а разлук навсегда.
Ах ты, мать честная, да на что ж это лучшие годы ушли, да куда же это в годы такие нестарые душа подевалась, где бы теперь найти ее, чем бы это дело такое поправить.
Одевшись, Лукин постоял на берегу. Потом подошел к дикой яблоньке и, прислонясь к ней спиной, неторопливо закурил.
Река тиха и неподвижна, и смотри ты, как высока и густа у ног трава, и каким ровным зеленым строем проступает противоположный берег, и как близка к осеннему увяданию зелень деревьев и трав.
Медленным движением Лукин убрал волосы со лба, чтоб они не мешали ему видеть этот солнечный мир.
Все было сейчас внове для него: и жаркое августовское солнце, и густая трава, и неподвижная синева воды, и дымка противоположного берега, но главное – он сам, неторопливый, ничем не озабоченный. И понимал Лукин, что вот прямо сейчас начинается новая его жизнь и есть некоторая возможность, по началу судя, что будет она удивительной и, может статься, даже и счастливой. А та жизнь, прежняя, останется за поворотом этой вот текучей зыбкой минуты, она, конечно, не исчезнет, нет, она засядет в рубцах, в памяти, в мозжечках, чтоб иной раз засвербить и выявить вполне удивительность текущей новой жизни.
На лице Лукина застыла улыбка, он даже глаза прикрыл, чтоб окружающий мир не мешал ему плыть в этой надежде на дальнейшую счастливую жизнь, – но только может ли быть надежда длиннее одной самокрутки, нет, не станет она длиться долго, вспыхнет она, посияет перед глазами время краткое и – порх! – дальше посквозила, оставив по себе, правду сказать, память утешительную.
Когда Лукин открыл глаза, увидел он перед собой, метрах в пяти, незнакомую девушку, и девушка эта улыбалась.
Роста она была небольшого, но чувствовалась в ней уверенная сила, тело ее, что называется, было ловко скроено и прочно сбито, крепкие ноги, по всему судя, привыкли по земле ходить уверенно. Широкоскулое ее лицо загорело, но даже сквозь загар проступал румянец на щеках.
Каштановые волосы, надо лбом разделенные пробором, были скрыты красной косынкой. В руках девушка держала небольшой узелок.
Они молча разглядывали друг друга. Девушка с трудом сдерживала смех. Как бы давая получше рассмотреть себя, она сняла с головы косынку и повязала ее на шею.
– Вы всегда спите стоя?
– Нет, только после бани.
– Тогда понятно, почему вы размечтались. Вам снилось, что вы продолжаете париться. – Она засмеялась, прикрыв рот концом косынки.
– Нет, мне снилось, что после бани я стою на берегу и вижу, скажем так, волшебницу.
– И какая она – добрая или злая?
– Так подойди ко мне, я сразу вспомню и скажу.
Девушка подошла к нему и смело посмотрела в глаза. Лукин чуть наклонился к ней, и ух ты, какие красивые у нее глаза, светло-карие, с белками такими голубыми, какие бывают только у малых детей.
– Посмотрели? – насмешливо спросила она.
– Посмотрел, но до конца не разобрал.
– Ничего, может, еще и разберете.
– Откуда же ты идешь, можно ли поинтересоваться?
Девушка большим пальцем показала за спину – издалека.
– А куда путь держишь?
Она указательным пальцем проткнула пространство перед собой – далеко вперед идет.
– Так хоть как звать тебя?
– Катя. А вас-то как звать?
– Васей я получился когда-то. А теперь вот выгляжу Василием Павловичем. Это уж кому как проще.
Наступило молчание, но оно не мешало, напротив того, звало посмотреть по сторонам.
И то: небо синее и глубокое, солнце поднялось высоко, и сияла золотая корона, чуть шелестели листья яблоньки.
Лукин, чтоб не расплескать в себе уверенность в будущей жизни, неспешно обернулся: перед крыльцом дома росли цветы – ярко-красные георгины, огненный Золотой шар. На крыльце в белой нательной рубашке стоял дядя Петя, и он с улыбкой смотрел на молодежь. Все в окружающем воздухе было так неподвижно и устойчиво, что Лукин чувствовал себя хозяином текущей и будущей жизни.
Шевелиться Василию Лукину не хотелось, но он преодолел томительную лень и, не отводя глаз от Кати, потянулся к ветке над головой, рука вслепую искала яблочка покрупнее, наконец нашла и отделила яблочко от ветки, большой палец обнаружил листок, и Лукин, чуть поведя пальцем, вывихнул листок из суставчика, и он, кружась, коснулся земли. Яблоко еще хранило на себе пыльцу тумана.
Все не отводя глаз, Лукин протянул Кате яблоко, она выдержала взгляд, шагнула к нему, протянула руку, и руки их встретились.
Она надкусила яблоко.
– Когда вы дарите яблоко, то прежде пробуйте сами.
– А по мне, так все яблочки райские. Хоть самый последний дичок.
– Так вот и кушайте его сами. Я же подожду чего-либо повкуснее.
И вдруг Катя улыбнулась, и улыбка эта бабочкой запорхала, к Лукину, и тогда он выставил руку вперед, и бабочка опустилась ему на ладонь.
И какая же это была бабочка – да махаон, прямо скажем, – с бархатистыми малиновыми крыльями, с золотой каймой и круглыми синими глазками на крыльях. Усики бабочки трепетали, крылья чуть вздрагивали, и Лукин подбросил ее к небу, и она полетела за дальние леса.
Дело уже близилось к полдню, солнце выплыло на положенное место, ярче загорелась красная крыша дома, вспыхнули кровью, близкой к спелости, гроздья рябины, золотая корона дрожала в тугом пламени.
Лукин сорвал пожелтевший лопух и склонился над ним: было то время жары, когда цветы, листья, травы защищаются от полуденного зноя клейкой прозрачной влагой. Была влага и на лопухе. В капле дрожала тонкая, едва заметная паутина.
– А что это интересен вам лопух?
– Да вот все время смотреть на тебя прямо-таки опасно, так и глаза можно сжечь. Приходится отвлекаться на какую-либо малость. И ты дай мне руку.
– Это еще зачем?
– А чтоб поближе подошла.
Она сделала к нему два шага и протянула руку. Ладонь ее была мягкой и теплой, Лукин осторожно гладил подушечки ее пальцев.
– Рука, я вижу, белая у тебя да нежная, не знает, поди, черной работы.
– Да, почти не знает.
– И что ж у тебя за работа?
Василий Лукин потянул ее к себе, но Катя отняла руку.
– Уж больно вы шустрый, как я погляжу.
– Так и времени мало, ты вот это прикинь себе. Час не ровен – сейчас светит солнце, река блестит, а завтра, кто же это ведает, выйдет ли еще день ясный.
– Пора бы вам уже без спешки жить. Успела наслушаться я речей вроде ваших, что война-война, а жизнь одна. Три года в госпитале как-никак.
– Так ты сестричка? – отчего-то обрадовался Василий Лукин.
– То и оно, – подтвердила Катя.
– И все-таки спешить приходится, сестричка.
– Так счастливого вам пути.
– Знакомитесь, молодежь? – услышал Лукин голос дяди Пети. Лукин и не заметил, как он подошел к ним.
– Знакомимся.
– А девочка вторые сутки изводится, попутки какой-нибудь ожидая. Ну, а ты как решил, Вася?
– Да на своих двоих, дядя Петя. А ты-то, Катя, ловка ли ходить?
– Да вроде не разучилась.
– И куда тебе?
– В Столбики ей, – ответил дядя Петя. – Мать у нее там.
– Столбики – это пятьдесят пять, я думаю?
– И никак не менее. Вам вместе до Уткова, это, выходит, тридцать, а там разойдетесь в разные стороны. Ты возьми ее с собой, Вася.
– Да возьму, пожалуй. Веселее топать вдвоем.
– Ну и договорились. А теперь и перекусите на дорожку, что Мотя подкинет.
Тетя Мотя поставила на стол сковороду с картошкой и золотистой жареной рыбой.
– Давно, поди, не едал, солдат, домашнего харча, – сказал дядя Петя, подбородком поведя на сковороду. – Чего-чего, а картошки с рыбой у нас хватает. Что и спасает. И лес под боком.
Потом Лукин и Катя поблагодарили дядю Петю за прием и собрались в путь дальний. Лукин забросил мешок за одно плечо, гармонику за другое и спустился было с крыльца, но подумал вдруг, что нужно дяде Пете и тете Моте за прием такой слово какое-либо доброе обозначить.
– А дайте, я что-нибудь эдакое изображу вам на гармонике своей. На дорожку, как водится.
Он открыл футляр, достал гармонику, ласково погладил кнопки – вот это и есть подруга верная и даже спасительница в тяжелые годы – и, бегло бросив пальцы, спросил:
– А что бы такое послушать вы хотели?
– Так ведь это, Вася, от того зависит, что умеешь ты, – заметил дядя Петя.
– А я, по правде сказать, все умею. Это если для точности. Такой это инструмент ловкий.
– Ну так дай душе веселье. Или вот что лучше – вальс сыграй какой-нибудь.
– Можно и вальс. – Лукин заиграл «Дунайские волны».
Уж сколько раз наблюдал он картину эту: малознакомые люди, добродушно улыбаясь, ждут, что вот сейчас белобрысый этот гармонист начнет мехи рвать злобно, мелодию же можно будет разобрать лишь при догадке большой. Да и то, братец, спасибо тебе, что хоть какие звуки извлекаешь ты из ящика этого, пойми, что любой звук на гармонике лучше беззвучия и тишины многолетней. И вот на тебе, услышат, как ловко поведет он мелодию, да как гладко и плавно, и ведь душу вкладывает, и уже удивление сквозное на лицах, уже и восхищение даже – ну и парень, да кто ж это подумать мог, ничего-то в нем приметного не имеется, – а видел, друзья, я Дунай голубой, занесен был туда я солдатской судьбой, ах да что там, ведь не разогнался еще Василий Лукин, позабыла на время короткое о потерях его душа, послушать бы вам игру, когда душа эта встрепенется в голосистой печали, когда память заполыхает ярким пламенем.
– Вот так, дядя Петя и тетя Мотя, спасибо вам за прием и баньку и попутчицу Катю, которая, надеюсь, не даст в пути затеряться.
Они пошли по пыльной дороге, с пригорка помахали дому, что дал им приют, и пошли дальше среди жаркой необозримой зелени.
А уже нетерпение какое-то беспокоило душу Лукина, неделю не играл на этом вот инструменте, дорога все дальняя была, да люди попадались незнакомые и суетливые, а неделя разлуки с музыкой – дело невиданное, таких прогонов времени не случалось еще, с Лукиным за всю войну.
Четыре года. Да, как раз четыре года, в августе сорок первого и познакомился Лукин с этой гармоникой.
Ветром, метлой военной повымело к тому времени молодых мужчин. И как только часы отстучали Василию Лукину восемнадцать, позвала и его труба под знамена боевые.
Провожали не так уж шумно и протяжно, как первых из призыва, притомились все в безостановочных проводах, слезы не успевали скопиться, брага не поспевала окрепнуть.
Уже без музыки маршевой, только под слезы материнские.
Матушка, да не убивайтесь вы, что же со мной может случиться, из везучих я, не тронет меня пуля, даже и не оцарапает, так и вы поберегите себя, не сохните по сыновьям преждевременно.
А что, ведь, пожалуй, и все, кто отправлялся в путь тот дальний, уверены были, что они-то сверстаны только из везения и счастья, пуля облетит грудь стороной, да и кто же это осмеливался хоть тайком, хоть ночью бессонной подумать – ох, а ведь я-то полягу, как пить дать полягу.
Здесь, в областном центре, спешно пропустили их через призывную комиссию, и здесь же формировался эшелон. Ждали, когда к нужному времени накопится нужное для отправки эшелона количество людей.
Лукину повезло, он ждал только день, иные же ждали и трое, и пятеро суток.
В вокзале, в садике перед вокзалом на лавках, мешках и чемоданах сидели, спали люди, ожидавшие отправки на фронт.
Площадь перед вокзалом занята была телегами, все время слышались торопливые окрики, ржанье лошадей, дальние посвисты паровозов.
Лукину некуда было приткнуться, он бродил по садику в поисках свободного места, но все было занято, и люди, не связанные еще братством боя, не чувствующие пока близости пролитой крови, не разрешали Лукину присоседиться.
Небо заволокло тучами, собирался накрапывать дождь. Лукин мыкался в поисках места под какой-либо телегой.
Но места не находил.
Под одной старик пил водку с отбывающим сыном, и Лукин не осмелился мешать последним напутствиям, под другой муж прощался с женой и, повернув к Лукину натужное лицо, коротко попросил: «Пошел, парень!», под третьей спала целая семья – муж, жена, двое детей, и уж он думал, что во всю ночь никуда он не прибьется, как из-под телеги его окликнули:
– Что ищешь, парень?
– Места спокойного.
– Дело напрасное, парень.
– Так хоть укрыться от дождя. – И Лукин указал лицом на небо, где торопливо собирался дождь.
– Это другое дело. Тогда иди сюда.
Лукин забрался под телегу. Там уже лежали двое – пожилой, лет сорока, окликавший его человек, и пятнадцатилетний сын этого человека.
– Сена подстели. А под голову мешок положи. Только постой, я уберу ящичек вот этот.
– А что это в ящике?
– Так ведь гармоника.
– А разве на веселье едем?
– А хоть на веселье, хоть на печаль. Гармоника нигде не подкачает.
Вот тогда, четыре года назад, и увидел впервые Лукин эту гармонику, тогда и познакохмился с Андреем Павловичем Бойковым, верным своим другом.
А утром, когда начали гаснуть луна и молочные звезды, подали эшелон и объявили первое построение. И когда оркестр заиграл марш, дали команду на последнее прощание, и вот тогда, слыша надрывные вопли жен и детей, покуда не вдов и не сирот, видя исхлестанные близкой разлукой лица и последние перед разрывом судорожные поцелуи, Лукин впервые подумал, что ведь, пожалуй, кто-либо из стоящих перед вагоном и не придет домой, это была внезапно кольнувшая холодом сердце догадка.
И когда эшелон тронулся, Лукин вздохнул облегченно, разлука рвет любое сердце, даже и самое молодое, и ну их, печали преждевременные, и что загадывать наперед дела такие.
А в вагоне люди уж знакомились друг с другом, чтоб смягчить горькую разлуку, влагу по стаканам разливали, Лукин сел на нижние нары и увидел, что сидит он подле той гармоники, что лежала у его головы под телегой, и потянулся к ней, – а не тянись, оставь в покое, может, это судьбы твоей перст голый, может, ты лишний труд задашь своей душе и сердцу, – но потянулся, раскрыл футляр и взял гармонику в руки.
Тут и хозяин гармоники подошел, Андрей Павлович Бойков.
Лукин спросил глазами, может, он зря взял чужую вещицу, и тогда просит извинить его великодушно.
– Ничего, ничего, Вася, играй, если играть умеешь.
– Так ведь не умею.
– А держишь вроде правильно.
– Ну, возился несколько раз.
– А какая гармоника была?
– Не знаю. В наших-то местах. «Черепашка», должно быть.
– Ну, этот инструмент посложнее. А ты подвинься. Давай попробуем. – Андрей Павлович набрал «Во саду ли, в огороде». – Повтори.
Дело было нехитрое, и, хоть держал такую гармонику Лукин впервые, он сразу повторил.
– Хорошо. А ну на вот это. – И Андрей Павлович набрал начало «Полянки».
Лукин сразу повторил.
– Да ты, я погляжу, молодец, Вася. Да в тебе, должно быть, есть что-нибудь. Слух, что ли. А может, и поболее того. А ну вовсе посложнее. – И Андрей Павлович набрал незнакомую песенку, но и ее Лукин сразу повторил.
– Вася, а ведь ты будешь играть хорошо, вот мое слово. Если время у нас будет, я подучу тебя.
– Это бы хорошо. Да только вам-то интерес какой?
– Так я же учитель, Вася. Вот мне и интересно.
– И чему же вы такому учите?
– А всему. У нас школа начальная, так я учу и грамоте, и счету, и музыке, выходит.
– Ты бы сыграл что-нибудь, отец, – попросил Андрея Павловича кто-то, – может, хватит пристреливаться.
– Это можно, – сразу согласился Андрей Павлович. – А что бы такое сыграть?
– А хоть бы «Катюшу».
Андрей Павлович заиграл, и Лукин ахнул – ну что это за звук у гармоники, да он такого никогда и не слышал, и сразу, безоглядно влюбился в инструмент этот, знал, если ему повезет и он подольше побудет с Андреем Павловичем, обязательно выучится играть, ну хоть плохонько, хоть только для себя одного, чтоб только было чем утешиться на случай одиночества.
И Андрей Павлович, видя такое рвение Лукина, терпеливо объяснял, как лучше играть на гармонике, тем более что это помогало ему коротать неблизкий путь и отвлекало от тоски по семье.
– Ты мягче, Вася, ты не рви, не форсируй. Ты меня переплюнешь скорехонько, в том и сомнений быть не может, но только ты помягче. Вот представь ты себе ясно, как клавиша эта соединяется с клапаном, ты нажмешь клавишу, клапан поднимется, и откроется отверстие в маленькую камеру это городушка, – и ты себе ее представь, а также сообрази, что струя воздуха будет колебать нужный язычок. Вот тут-то, Вася, и случится чудо – появится чистый звук. Тот именно, который тебе нужен. В этом вся хитрость – чтоб появился именно тот звук, который нужен. И когда все звуки, которые ты хочешь получить, выйдут чистыми и не будет ни одной оплошности, ты будешь играть всех лучше на свете на этой вот гармонике. Лучше чем я, это бесспорно. А я играю сносно. Но лучше я играть уже не буду. С тобой же – ничего пока неизвестно. А кто знает – может, из тебя выйдет что-нибудь особенное, чего я представить не могу. Но для того, Вася, ты должен понимать, каково этому язычку трепетать от неверной струи воздуха.
А ведь повезло: Лукин больше не расставался с Андреем Павловичем, и он учился играть в школе, где два месяца из них готовили связистов, и за это время, хоть поверить в это трудно, Лукин учеником быть перестал, что признавал и Андрей Павлович, он играл всюду и при первой возможности – в казарме, в землянке, в блиндаже. Он играл не потому, что его просили – это само собой, его просили всегда, и вскоре он стал своего рода знаменитостью, про взвод связи так и говорили: «Это там, где парень лихо на гармошке играет», – но главным образом играл потому, что так уж душа его была расположена к игре.
То есть он играл бы беспрерывно, и это была бы жизнь замечательная, лучше и представить себе невозможно, но приходилось отрываться на еду и сон, наряды и караул, не говоря о том уже, что ему велели сюда идти не для игры на гармонике, а чтоб обеспечивать связью штаб, дивизии.
Дело какое: месяца, что ли, через два Лукин мог наиграть любую мелодию, если хоть раз слышал ее. И наиграть сразу, без предварительной натаски и прогонки.
А через полгода почувствовал Лукин, что душа его полностью слита с гармоникой и все, что чувствует Лукин, играет и гармоника.
Спору нет, Андрея Павловича тоже солдаты любили, но больше просили поиграть, когда хотели попеть, для сопровождения, что ли. А вот когда играл Лукин, то люди не пели, потому что им больше хотелось послушать его, чем самих себя.
И когда Андрей Павлович говорил, что у его ученика есть большие способности к игре, то Лукин твердо знал, что это правда.
Потому что у каждого человека какие-нибудь способности быть должны, вот только нужно точно, словно бы в десятку, попасть в них. Вот до войны Лукин плотничал, но никто не говорил, плотник и плотник, ничем других не лучше. Так и на войне, во взводе связи, – солдат и солдат, связист и связист, что надо, все сделает, спору нет, на таких война и держалась, но ведь какие связисты были у них во взводе, Лукин им в подметки не годился, и это ясно, что у них способности к этому делу были. А у Лукина – нет.
Музыка же – это совсем другое дело.
Потому что музыка понимание давала: что есть какое-то назначение и у него, у Лукина. Не на эти, разумеется, кровопролитные годы, тут все понятно – труба позвала, земля защиты требует, ветер войны произвел великие смещения судеб, – но есть назначение у Лукина на всю жизнь собственную. Тут в нем было понимание, что так, как сыграет Лукин, ни один другой человек на этой гармонике не сыграет.
Потому-то и жило в нем убеждение, что ежели что-нибудь понимает его голова либо чувствует душа, то это понимание он всегда сумеет объяснить людям, которые слушают его.
Лукин и Катя шли и шли по пыльной дороге, шли неторопливо, потому что путь предстоял неблизкий, несколько раз отдыхали, а когда жара начала спадать, перекусили в молодом березняке.
Лукин узнал, что Катя уехала от матери за год до войны. Жила у тетки – это другой город и область неблизкая, и вот за пять лет впервые идет домой – отпусков по военному времени не давали, и это понятно каждому. Три последних года она служила в большом госпитале для тяжелораненых, и Лукин понял, что и Катя хлебнула военного лиха.
– Ну ничего, теперь и отдохнуть можно, – сказал Лукин. – Заслужили, верно ведь?
– Верно.
Вдали синела полоса низкорослого леса, и Лукин знал, что у леса, за спуском, лежит Утково.
Солнце садилось, оно то пряталось в легких облаках, пропитывая их малиновым светом, словно бы кровь пропитывает бинты, то сияло над лугом.
Утково лежало под горой. Прежде оно казалось больше, а сейчас его можно было увидеть в один охват глаза, и оно умещалось на ладони.
Все было тихо. Солнце скользило по верхушкам тополей и осин.





![Книга Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] автора Семён Шуртаков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-povesti-243627.jpg)


