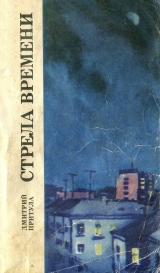
Текст книги "Стрела времени (Повесть и рассказы)"
Автор книги: Дмитрий Притула
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
Сквозь сон Николай Филиппович слышал суету в комнате сына, тихие разговоры. Он проснулся. Проснулась и Людмила Михайловна.
– Что? Уже? – испуганно спросила она у Сергея.
В руках у Светы была заранее приготовленная сумка. – Я сейчас.
– Мы сами, – сказал Сергей. – Тебе надо спать.
Людмила Михайловна, поняв, что будет мешать сыну, покорно кивнула.
– Машину надо вызвать.
– Нет, Света не хочет. Дойдем, это близко.
– Ну, удачи! – Людмила Михайловна хотела перекрестить Свету, но, боясь фальши, отвела руку.
Николай Филиппович знал, что не заснет, пока не вернется сын, и, чтоб не томиться напрасно, пошел на кухню и, плотно закрыв дверь, закурил.
За окном все было тихо, полная луна светила ярко, тени от деревьев и фонарей были темно-синие, неверные, как в изломе. Дома казались зыбкими и скошенными. Проехала милицейская патрульная машина с вращающимся синим огнем.
Николаю Филипповичу было сейчас тревожно, так же тревожно, как двадцать восемь лет назад, когда появлялся Сережа. Все его сейчас тревожило: и вылизанный, белый с желтыми подпалинами диск луны, и неверный голубоватый лунный свет – он лился не ровно, но как бы толчками, и в такт этим толчкам билось сердце Николая Филипповича; его тревожили скользкие тротуары, которые посыплют солью – если посыплют – только утром; его тревожила тишина города, особенно явственная, когда человек напряжен, когда вздрагиваешь от дальнего неразличимого крика – то ль птица стонет, то ль человек на помощь кличет, то ль машина сигнал подает; его беспокоил повсеместный сон и равнодушие к его, Николая Филипповича, тревогам, но более всего тревожило внушенное Сергеем распространенное среди медиков поверье, что вот у них, у медиков, болезни, роды, операции протекают не так, как у прочих, внекастовых людей, но надрывней, с вывертами, осложнениями.
К нему вышла Людмила Михайловна.
– Ложись, – сказала она. – Мне будет спокойнее.
– Я все-таки посижу.
– Как знаешь.
Сергей пришел через полчаса. Он словно знал, что отец ждет его на кухне.
– Ну что? – спросил Николай Филиппович.
– Оставил.
– И что?
– Как что? Рано ведь еще.
– Ну да, – засмеялся Николай Филиппович. – Заскок у меня. Совсем все забыл. Постарайся заснуть.
– Конечно. Завтра тяжелый день. Плановые операции. И Света. Хоть бы несколько часов поспать.
Тогда лег и Николай Филиппович. Он сумел заснуть, но вскоре его разбудил длинный звонок. Боясь, что повторный звонок переполошит весь дом, Николай Филиппович вскочил с кровати и бросился отпирать дверь.
В дверях стоял шофер «скорой помощи».
– За Сергеем Николаевичем, – виновато сказал он.
– А кто дежурит?
– Козлова.
Николай Филиппович был хорошо осведомлен в делах сына. За семейным столом Сергея заставляли подробно отчитываться за прошедший день, и делал он это охотно и весело. Козлову, знал Николай Филиппович, Сергей считал хорошим хирургом, но ей не повезло, было несколько послеоперационных нагноений кряду, а городок маленький – пошло! Козлова не хирург, а коновал, больные стали ее бояться, и тогда пришлось Козлову из отделения перевести в поликлинику. От всего этого она потеряла уверенность в себе и на все неотложные дела вызывает Сергея. Сергей мог бы и не ставить Козлову на дежурства, но он боится, что тогда она вовсе деквалифицируется, а хирург она хороший. Да и дежурить некому – и так приходится пареньку прихватывать восемь – десять дежурств в месяц.
Николай Филиппович тряс сына за плечо, но тот не просыпался.
– Сережа, за тобой! Ну что делать, сын?
– Не пойду. Я не могу. Я хочу спать. Так и скажи. Человек имеет право на сон в своей постели. Так и скажи. Взяли моду дергать среди ночи. Эта кровать – моя крепость. Так и скажи.
Но уже сел.
– Постой, папа, я сам выйду. Может, со Светой что. – И он побрел к двери, как на заклание.
Они даже не поздоровались с шофером – тот понимающе развел руками: ему велено, он и приехал, а так-то не стал бы мешать человеческому сну, и Сергей согласно кивнул – сейчас…
Сергей так потерянно брел в свою комнату, что Николая Филипповича переполнила жалость к сыну – все люди как люди, тебя же гонят на мороз, не спрашивая согласия, ведь хоть бы раз спросили: а здоровы ли вы, Сергей Николаевич, согласны ли вы ехать с уничтоженной недосыпом волей на дело вовсе не приятное? Да почему ж Лидия Васильевна Козлова не смеет взять на себя ответственность и перекладывает ее на плечи Сергея да почему же Сережа, когда дежурит, никого не дергает, не прячется за чужие спины? Эти ночные выезды – самое тяжелое в работе сына. Конечно, это положено – выезжать, за это даже деньги платят, но деньги такие незвонкие за прерванный сон, как и за всю эту маету, что и говорить не о чем, а ведь завтра никто Сергея не спросит, а спали ли вы сегодня, никто не спросит: ни начальство, ни подчиненные, а больным так и вовсе это безразлично.
Думайте, прежде чем посылать детей на дело какое-либо горячее. Им платят повсеместным «Здрасьте, Сергей Николаевич», заискивающей просьбой: «Только вы уж сами меня прооперируйте», но они-то платят единственной жизнью – дорогая цена – жалейте детей. Особенно сыновей – они хрупче в этой жизни.
– Мне бы сейчас сон досмотреть. Что угодно отдам за сон в тепле.
Однако руки привычно застегивали пуговицы пальто, надевали на ноги сапоги, тянулись к шапке.
Это и есть судьба провинциального хирурга. Ведь если Сергея не позовут, когда он нужен, утром он устроит разгон, потому что его и положено беспокоить. Потому что судьбу можно клясть, лишь когда она навязана извне. Когда ж ты был волен в ее выборе, клясть можно только время, в котором много несовершенств, только людей, которые не заботятся о тебе, хотя это их прямая обязанность.
– Вот Козлова кличет тебя, неужели не может самостоятельно распорядиться чужой жизнью? – пожалел сына Николай Филиппович.
– Да оттого и кличет, папа, что примеряет чужую жизнь, а не сапоги типа «казачок». Все в порядке, папа, – сын даже улыбнулся. – До утра, если повезет. А нет – так до вечера.
– Удачи!
Машина увезла Сергея. Рассвет начинался, серый, мышиный рассвет.
В десять утра Николая Филипповича вызвал Константинов. Лицо Константинова было усталым.
– Тяжело? – осведомился Николай Филиппович.
– Да нет. Я был в форме. Не в этом дело. А только до четырех часов не мог уснуть.
– Надо ведь – и я всю ночь не спал.
– Представь – я думал о тебе. Не о тебе, конечно, а о твоей машине.
– Виноград? Виброплуг?
– Хуже. О морковоуборочном комбайне.
– Ой! – застонал Николай Филиппович. – Не говорите мне о нем. Цыганский романс, прошлый век. Прошу тебя, Константинов, я мирный конструктор, не дергай ты меня.
– А я не спал из-за того, что чувствовал себя вдребезги проигравшим. То ли от малого роста, то ли просто характер такой, но я не люблю проигрывать. А тут – восемь лет. Я уже успокоился, но вдруг этой ночью вылезло.
– А я не могу об этом слушать. Я не хочу, чтоб снова обострилась язва. Да, вот именно, здоровье мне дороже. Не могу, поверь.
– С другой-то стороны, и псом побитым тоже неловко себя чувствовать.
– А я не могу драться с бюрократами. Я тихий провинциальный человек.
– Оставь ты это. Надоело.
– Так чего же ты от меня хочешь, государственный человек?
– Все начать снова.
– Я от прежнего-то искательства сон потерял. Не могу больше.
– Ну вот скажи, что ты мнешься? Ведь это я свою башку подставляю, – и Константинов постучал по лбу костяшками пальцев, – а он мнется. Я, что ли, машину придумывал? Ты ведь. Так где твое честолюбие?
– Нет его, выходит.
– А я не верю. Людей без честолюбия нет.
– Так чего ты все-таки от меня хочешь?
– Надо снова составить бумаги, подготовить документы и отправить все наверх.
– Через голову центрального бюро?
– Да.
– Тебе шею намылят.
– Да не бойся ты за меня. Ничего не будет. Ну вот чего ты боишься? Ну вот чего?
– Я боюсь новых надежд, Константинов, – признался Николай Филиппович, – сейчас их у меня нет, и мне без них спокойно. Это пустые надежды, я уверен.
– А кто знает, может, и получится.
– Да ты и сам не веришь.
– Это неважно. А только я не могу сидеть, подняв руки кверху, – спекся, готов, проиграл.
– Хорошо. Только прошу – у меня в доме суета пойдет, месяц-два ничего ведь не решают. Когда я буду готов начать сначала, я сам тебе скажу. А ты меня не дергай, договорились?
– Договорились.
Одного упоминания о моркови было достаточно, чтобы лишить Николая Филипповича душевного равновесия и повергнуть его в уныние.
Все началось лет десять назад. Кто-то принес на работу большую фотографию из журнала «Америка», и все, охая, шалея от восторга, рассматривали морковоуборочный агрегат. Фотография, и правда, была хорошая, агрегат большой, и статья поясняла, как именно убирают морковь в Америке: рабочие вытаскивают морковь из земли, отрывают ботву, бросают морковь на конвейер, тот посылает ее в очистительное устройство, где морковь моют, и тут же сортировщики пакуют морковь в полиэтиленовые мешки и в картонную тару, все! – товар везут в магазины и рестораны. Все? Да, восторг был полный.
Николай Филиппович занимался в то время виброплугами, цикорием, свеклой, а вот морковью не занимался, может, потому и поддался общему восторгу, а не поленился (даже лупу из стола достал) и посчитал, сколько людей обслуживает агрегат. И насчитал он человек шестьдесят, и никак не меньше. То есть они, как мошки, облепили машину.
Николай Филиппович засомневался: как же так – в век техники и все такое, а вон сколько народу налетело на одну машину. Так ведь она берет рядков двадцать. А хоть бы и сколько, а все равно народу многовато. Ну, ему кто-то и бросил: а вы займитесь морковью, может, поменьше людей работать станет. При этом был и Константинов. «Хорошо, но мне нужно ознакомиться с овощем, с какого боку к нему подползать». – «Так возьми себе месяц, но сообрази, с какого бока подходить надо. Это только для знакомства, а там будет видно, может, какое предложение поступит».
Сказано – сделано. Прежде всего попросил Николай Филиппович представить ему справку о моркови. Такую справку ему представили, и он прямо ошалел, до чего загадочным этот плод оказался: несмотря на малые площади возделывания – сто тысяч гектаров по стране – на него идет до полутора процентов всех затрат на растениеводство. Казалось бы, тебя не щекочут, не покалывают – так не высовывайся. Собственно, Николай Филиппович никогда и не высовывался, полагая собственное спокойствие дороже служебного беспокойства. Но ведь молод сравнительно был – десять лет отсквозило с той поры, да и загадочность этого овоща, этого корнеплода по имени морковь лишала его покоя. Какие затраты ни поедает корнеплод, а все не отказаться от него – ценность экая в нем, людям он необходим, само собой, но даже животные, если их баловать кормовой морковью, растут куда быстрее.
Не нужно было даже на поля выезжать, чтоб убедиться – книги не врут, на уборке моркови применяется только грубый ручной труд. Нет, конечно, свеклоподъемник чуть подкапывает грядки, чтоб легче было морковку вытаскивать, но уж дальнейшее дело – только ручное. Само вытаскивание, на спецязыке «теребление», обрезание и обламывание ботвы и очистка от земли, и сортировка, и погрузка – дело только ручное. Да если учесть, что при подкапывании урожай теряется никак не меньше чем на пятую часть, да если учесть, что на уборке трудятся городские рабочие, которых всю жизнь натаскивали на более хитрые дела, чем теребление моркови, да тем самым труд удорожается еще раза в три, и никак не менее, то понятно становилось, что руководителям сельского хозяйства есть над чем задуматься.
Утешало лишь одно: морковоуборочной машины нет нигде в мире. Повсеместно применяется только ручной труд. Вот это и изумило Николая Филипповича: космос обживается (оставался год до обещанной высадки на Луну), а человек не может вот здесь, на Земле, постараться, чтоб такой же другой человек не студил руки в грязной, остывающей осенней земле.
Собственно, и американская эта машина – чисто заокеанские штучки: красиво, внушительно, но труд тоже ручной. Ее и засняли для того только, чтоб показать: вот мы за считанные минуты доставляем овощи с поля к потребителю. Ну, понятно, те парни не любят сорить деньгами – выходит, даже такая громоздкая, прямо скажем, неумная машина все равно им выгодна. Они просто поймали морковь на том, что за день созревания она увеличивает урожайность до двух центнеров с гектара, так что в самые последние дни перед заморозками запустили свои машины – и это им выгодно.
Боже мой, даже начальные подсчеты кружили голову, то был редкий случай, когда морковный сок хмелил, это же бешеные деньги дарил Николай Филиппович стране, сотни миллионов рублей, сотни тысяч освобожденных от тяжелого труда людей – вот что могло случиться, если б получилась морковоуборочная машина.
Нет, Николай Филиппович не был честолюбцем, его не заедала гордыня, однако и возможность стать первым в мире человеком, который придумает такую вот машину, тоже подогревала.
Его не останавливало то, что десятки КБ такие машины делали, и люди работали над этими машинами толковые, и несколько десятилетий во всех странах каждый год вывозят на поля новые образцы, но ни одна еще машина не оправдала надежд.
Но главное: Николай Филиппович предчувствовал, что дело у него может получиться, и этому предчувствию он доверял. Он знал, что его ожидает несколько лет напряженного, но веселого труда, и труда, возможно, небезрезультатного. Николай Филиппович так себя настраивал, что несколько лет погруженности в размышления – это тоже дело важное. Собственно, человек и пришел на белый свет, чтоб немного поразмышлять: тот размышляет, где добыть пропитание, тот – любят его или нет, а Николай Филиппович – как бы это так придумать режущий аппарат – мотор, рабочий орган, сердце машины, – чтоб он ровнехонько срезал ботву, не вырывая ее и не повреждая головку моркови.
Да, а именно из-за этого устройства и прогорали все машины, это стало ясно через три месяца после начала работ: удастся сделать толковый режущий аппарат – рабочий орган, – все остальное как-нибудь отладится.
Полгода уже группа работала над этим аппаратом, Константинову удалось добиться, чтоб группа только этим и занималась. Как он написал в оправдательном документе, «тема начата в инициативном порядке», – и все только и говорили что о моркови, кончились командировки, кончились просьбы об отгулах. Все просчитывали возможности: то давайте сделаем в виде ножниц, то так, то эдак – ничего не получалось, но уныния не было – Николай Филиппович всем передавал свои веселые надежды. Несколько дней он не ходил на работу, бродил по парку, читал детективы или спал, ночью же спать ему не хотелось, он лежал на кровати и смотрел в потолок – рядом спала Людмила Михайловна, и, чтоб не разбудить ее, Николай Филиппович лежал на спине неподвижно, руки заведя под голову, он смотрел, как по потолку скользят тени, слышал раннюю пробудившуюся жизнь городка, чувствовал себя беспредельно счастливым, юным и улыбался безоглядно. Засыпал он под утро.
Так продолжалось с неделю. Однажды он заснул с ясным сознанием, что вот сегодня с ним случится долгожданное чудо и он все поймет. Заснул под утро, спал всего полчаса, но проснулся как бы от толчка изнутри, словно командный голос был «Подъем!», и он вскочил стремительно, чем вызвал, разумеется, недовольство Людмилы Михайловны. На кухне он встал у распахнутой фортки и закурил. Приближалась весна, и воздух был влажен, тягуч и томил ожиданием удачи.
Николай Филиппович знал, что дело, собственно говоря, слажено, он ясно видел аппарат, знал главный, не известный еще никому принцип его работы, он видел его как бы уже в действии, и аппарат этот был прекрасен, потому что совершенен.
Спать Николай Филиппович больше не ложился, он сидел у окна и с нетерпением ждал начала рабочего дня, он даже не стал завтракать, потому что был сыт и полон сбывшимся счастьем.
Николай Филиппович пришел в свою рабочую комнату, когда все были на местах, неторопливо снял пальто, встал посредине комнаты, чтоб его все видели, и торжественно сказал:
– Ребята, это будет шнековый режущий аппарат, – для непонимающего человека то была голая техническая фраза, для Николая же Филипповича – формула его счастья, и он принялся растолковывать детали этого счастья, и все покинули свои места, сели на столы, а Николай Филиппович все ходил и ходил перед ними и объяснял. Защитный инстинкт от тягомотины повседневных ничтожных заданий выработал в них технический цинизм, но они были прежде всего инженеры и сознавали, что сейчас происходит чудо, что если все получится, то это не просто новинка техники, но это именно революция в сельхозмашинах, а возможно, и в технике. Он был сейчас для них пророк, потому что никто из них никогда не видел, как рождаются идеи такого порядка, да и нет сомнения, что и не увидят, вот это они понимали, а Николай Филиппович все больше и больше воодушевлялся, потому что все сейчас были с ним заодно, и не было ни одного возражения, – незабвенные времена, невозвратные времена.
А потом Константинов послал Николая Филипповича в Москву – американцы на выставку сельхозтехники привезли морковоуборочную машину. Она еще обкатывается и не запущена в производство.
Николай Филиппович раздал группе задания и покатил в столицу. Он был самоуверен, знал, что заграничная машина будет несовершенной – в ней, конечно же, старое, избитое сердце. Потому что новое только придумал, еще даже не сконструировал он сам.
Он не ошибся. То была машина «Скотт-Уршал», заурядная машина. Она могла брать только один ряд, сердце ее – рабочий орган – было придумано в тридцатых годах, а машину соорудили в конце шестидесятых. Из-за громоздкости главного аппарата машина никогда не будет брать больше одного ряда, и, следовательно, не приживется надолго. Машина же, которую соорудит группа Николая Филипповича, сможет брать любое количество рядов – три, шесть, девять, потому что решен главный принцип резания – она будет делать все, как тот старый комбайн, но только без прикрепленных к нему шестидесяти человек и много быстрее.
Николай Филиппович беседовал с директором крупного концерна, и оба они понимали, что машина провинциальна, проблем не решает, но это лучшая на сегодняшний день машина в мире. Концерн рассчитывает на продажу лицензий.
Ехал домой Николай Филиппович радостный – теперь все решается временем, упорством и терпением. Жить ему было необыкновенно интересно.
Группа рассчитала аппарат за четыре месяца. И еще два месяца доводила его в опытном цеху. Ожидания подтвердились – то был надежный и умный аппарат.
А потом пришла пора срывать аплодисменты. Николай Филиппович не ленился тщательно оформлять документы, несколько недель он только тем и был занят.
Успех был оглушительный: Николай Филиппович стал чувствовать себя человеком, который приносит своему бюро славу.
В самом деле, по стране десятки, если не сотни подобных бюро – и при Министерстве сельского хозяйства, и при Министерстве сельхозмашиностроения, и при других ведомствах, а тут на тебе. Можно было бы усмехнуться высокомерно – дескать, ребята нашутили деревянный велосипед. Но рабочий орган от насмешек надежно был защищен четырьмя авторскими свидетельствами и пятью патентами. Одно перечисление стран, где получены патенты, доставляло Николаю Филипповичу удовольствие – Англия, США, Франция, ФРГ, Бельгия – страны, где техника довольно-таки развита.
Тогда Николай Филиппович обнаружил, что и он тщеславен: приятно все-таки держать в руках эти листки, где розовая или голубая ленточка сдавлена восковой печатью, или читать написанные на чужих языках бумаги, где под орлами и щитами написано, что ни у кого нет права пользоваться устройством без разрешения Николая Филипповича Нечаева, инженера из Фонарева.
То были сладчайшие месяцы – время серьезных побед и главных надежд. Причем все делали сами – помощи сверху так и не дождались. Центральное отраслевое бюро снисходительно ждало результатов, полагая, что от всего этого шума с рабочим органом останется только пшик – машину, уверены были, парни не построят.
А они построили. За четыре года построили. Если б на них работало все бюро, управились бы и за два. Но никто не помогал, потому что никто не снимал с бюро плановых заданий. А четыре года – лучшие годы в жизни Николая Филипповича, потому что после них – обрыв, суета, горечь души.
Уж как наскребли денег на опытный экземпляр, это известно лишь Константинову, уж как старались ребята с опытного участка, этого никогда не забыть, Николай Филиппович так верил в будущее машины и в дальнейшую работу над ней, что дал машине имя «Бумалуч» – будет машина лучше, следовало понимать.
А когда машину вывезли на опытные участки, то показалось, что надежды сбываются. Да еще как: с одного ряда за минуту собирали полтонны годной для продажи моркови. Это с одного ряда, а рассчитана машина на много рядов. Более того, дело расширялось – машина брала любые корнеплоды – и столовые, и кормовые, и технические. Да если только цикорий собирать, и то она уже окупалась, цикорий – это же на экспорт, это ж валюта, получается.
Две осени вывозили машину на поля, и результаты оправдали все надежды Николая Филипповича. Было подсчитано, что если эту машину пустить по всей стране, то государство выиграет десятки миллионов рублей в год. Разумеется, подсчет вел не только Николай Филиппович, но и те организации, которые должны вести такой подсчет.
Николай Филиппович составил справку, в которой сообщил все соображения, приложил расчеты, чертежи, да и отправил все в вышестоящие инстанции, уверенный, что дело сделано и его совесть спокойна.
Вот тут и начинается горечь души, тут и начинается крушение надежд. Прошел год, а центральное бюро ни гугу. Тогда в столицу поехал Константинов.
Вернулся он со смущенной душой – за год никто не проверил расчеты и, по его мнению, не досмотрел чертежи до конца. В центральном бюро не любят, когда тема делается в инициативном порядке, к таким работам относятся как к любительству, на которое-то и внимания обращать не следует. Словно бы там все – звезды Большого театра, а группа Нечаева – квартет Фонаревского дома культуры. А ведь Константинов мало что и требовал: денег подбросить фонаревскому бюро, чтоб создать опытные машины и провести развернутые госиспытания.
Константинов с такой медлительностью мириться не хотел. Он уговаривал Николая Филипповича перепрыгнуть центральное бюро и написать в Министерство сельского хозяйства.
– Нет, пиши сам, – сказал Николай Филиппович.
– А ты почему устраняешься?
– Это все кляузами пахнет. И я вспомнил историю с великим футболистом ди Стефано. Того тренер упрекнул, что он ленится выполнять черновую работу, так ди Стефано ответил: «Вы хотите, чтоб я носил рояль. Может, достаточно, что я на нем играю?».
– Как знаешь. Что же – будем ждать.
А это все, заметить надо, – время и время, оно себе идет и идет. Послали бумаги в ВАСХНИЛ, и в ВАСХНИЛе как раз быстро машину поддержали. Вот они, выписки, в папках лежат, а папки в том шкафу, много накопилось этих папок, слишком даже много. Вот из ВАСХНИЛа написали: «Нужно организовать специальную лабораторию для завершения работ… придать плановый характер со стабильным финансированием».
Но советы советами, а только выполнять их не очень-то спешили; да, скоро решим и свяжемся; ну, люди связываются и связываются, а времечко летит да летит, да все дерганье и дерганье, писание и хождение по инстанциям; уже что-то вроде решили да забыли решение вниз спустить, или же бумагу составили так, что решение и выполнять необязательно.
Однажды Константинов поехал в очередной раз в центральное бюро и вернулся в отчаянии – он узнал, что какая-то группа в бюро занимается морковью, и, выходит, им нет резона поддерживать фонаревцев.
– Быть того не может, – сказал Николай Филиппович.
– Именно может. Хоть бы машина у них стоящая. Хоть бы нас к этому делу притянули, так нет же, все время вспоминал о рубашке, которая к телу ближе. Нас они не будут поддерживать, пока собственные парни не придумают что-нибудь внятное. Ты не поверишь – они занимаются усовершенствованием старой американской однорядки. Так что пока мы с тобой берем тайм-аут.
То были мучительные годы. Ведь когда Николай Филиппович задумывал дело, то считал, что если с этим делом он справится, то, выходит, и победитель, и на коне, а дальше пусть люди должностные берут машину и скорехонько выводят ее на поля – время-то летит, и в данном случае без пользы; он, Николай Филиппович, с делом своим справился, так можно и пыль с ладошек стряхнуть.
А как пошла эта суета, так будто бы Николая Филипповича подменили – стал раздражительным, обидчивым, случались у него и ночи бессонные, когда казалось ему, что все вокруг только и озабочены тем, как ему навредить и затормозить дело, перед всякой поездкой он не спал по нескольку ночей, на совещаниях взвинчивался, и, конечно же, это делу не помогало, так что несколько раз Константинов ездил без Николая Филипповича.
Словом, характер его портился неудержимо, стал бы Николай Филиппович склочником, потерпевшим поражение самоучкой, да вдруг начал прибаливать. Уж и от неврастении его лечили – бромом да электричеством помогали снять душевные обиды, а потом боли в желудке пошли, так что Николая Филипповича с подозрением на язву желудка упекли в больницу.
И вот в больнице – случай редчайший – человек полностью выздоровел. Как раз месяца хватило на то соображение, что вот как же это получается, что он из-за машины, существа то есть железного, должен гробить собственное здоровье – вещь довольно-таки хрупкую и невозвратную.
В самом деле – если б он изобрел вечный двигатель, так нет же, в казенном и должностном месте дело сделано, подтверждено родными и зарубежными документами, ну и толкайте новорожденного в жизнь те, кому это положено. Почему Николай Филиппович должен укорачивать жизнь из-за того, что кто-то не хочет брать на себя лишние тяготы или считает ведомственные претензии и честь мундира всего главнее. «Не хотите, – сказал тогда себе Николай Филиппович, – не надо». То, что он хотел себе доказать, он доказал. Он не настолько честолюбив, чтоб думать о всеобщем признании. Да и что это такое – признание всеобщее для изобретателя морковоуборочной машины? Николаю Филипповичу было довольно и признания своих сотрудников.
Конечно, он лишался денег, возможно и немалых денег, но уж и не таких бешеных, чтоб наживать из-за них язву. Да и вообще нет на свете таких денег, чтоб из-за них здоровье гробить.
Словом, он вышел из больницы здоровым человеком, спокойным, рассудительным – таким, каким был прежде, какой он есть и сейчас.
Время от времени Константинов сигнализировал в центральное бюро о том, что дело так и не сдвинулось, время от времени ездил в бюро и Николай Филиппович, но уже был он хладнокровен в разговорах, рассудочен, иногда даже благодушен. Знал твердо, что дело проиграно. Его о чем-то спрашивали – он коротко давал справку, сердился иногда, что его оторвали от иных дел, хоть бы и семейных; не жалел, что когда-то ввязался в это дело, нет, он был счастлив, когда искал машину, он мог гордиться собой – решил сложные технические задачи, и он собой гордился; годы суеты постарался поскорее забыть, лишь усмехался иногда – молод был, горяч и глуп. Когда его упрекали в безразличии к результатам своей работы, лишь головой покачивал – должен понимать человек, что не желает Николай Филиппович драться за дело, которое очевидно как дело выигрышное, он кое-что уже предложил, с него довольно.
Все-таки успокоился, отошел, не по его вине не сложилось главное, возможно, дело его жизни. Однако при упоминании о моркови Николай Филиппович против воли морщился, словно упоминали не морковь, а уксус. И когда Николай Филиппович попадал в опытный цех и видел, как на асфальте, под открытым небом, стоит его некогда желанная машина, среди прочих сельхозмашин, ничем из них не выделенная, – он все-таки страдал, как страдают, видя сироту-бедолажку, не в силах ей помочь. А ведь красива машина и диво как умна, под осенним небом рождена, от ненастья теперь и страдает – всякая капля дождя, всякая снежинка добавляет ржавчины, рассеивает юные надежды Николая Филипповича, напоминает о бренности, краткости всякой твари, о суете и тлене.
Однако разговор с Константиновым испортил настроение – да и у кого это улучшается настроение от упоминания об упущенных возможностях! Конечно, и вся жизнь – неиспользованные возможности, а только сознавать это всегда горько. Николай Филиппович даже и сердился на Константинова – мог бы перенести разговор на другой день, нечего было сегодня затевать счет пропущенным ударам.
Весь день Николаю Филипповичу было тревожно за Свету, несколько раз он ходил к Людмиле Михайловне, она звонила Сергею, но никаких новостей не было.
Они уже пришли домой, а Сергея все не было. Чтоб отвлечься, Николай Филиппович листал в кресле свежие газеты, Людмила Михайловна беспокойно ходила по комнате.
– Я чувствую, там что-то случилось. Иначе почему он не идет? Ты как хочешь, Николай, а я пойду туда. Или к Сергею. Не могу сидеть и ждать.
– А какая от тебя польза? Только будешь всех взвинчивать.
– Я всегда завидую этой твоей рациональности. Можно вмешиваться, если будет польза? А я не могу сидеть и ждать. Да, не могу.
– Во-первых, ты не сидишь, а ходишь по квартире, а во-вторых – отвлекись чем-нибудь. Телевизор включи. Успокойся! Сейчас Сережа придет.
И точно – около семи часов пришел Сергей. Они бросились в прихожую.
– Ну? – нетерпеливо спросила Людмила Михайловна.
Однако Сергей ничего не ответил, он был поглощен разглядыванием своего сапога.
– А сапоги между тем штука замечательная. – Сергей старался придать лицу серьезность, но глаза его смеялись.
– И он еще над мамашей издевается. – И Людмила Михайловна дала сыну легкий подзатыльник – Ну? – снова тревожно спросила она.
– А вы не понукайте меня. Тут человек в новом качестве, он, можно сказать, отец, а его, видишь ты, понукают.
– Ах ты, юный папаша, – обняла его Людмила Михайловна и всхлипнула. – Он еще издевается над старенькой матерью.
– Храним достоинство: как-никак, а паренек, а три семьсот, а пятьдесят четыре сантиметра.
Они обнимали сына и друг друга, и то была настоящая радость, да и Света молодчина, держалась хорошо, так давайте-ка, ребятки, к столу приблизимся и поклюем, что осталось от дня вчерашнего, чтоб день нынешний не был последним радостным днем.
– А Света как? – спросила Людмила Михайловна.
– Все в порядке.
– Теперь начнется суета с именем. Только вы попросту, без вывертов.







