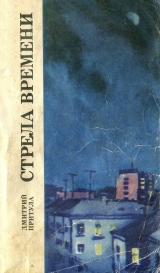
Текст книги "Стрела времени (Повесть и рассказы)"
Автор книги: Дмитрий Притула
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Праздник
Костя Евсеев уже пятнадцать лет чинит в лаборатории аппараты, и ему отладить любой аппарат что стакан семечек сощелкать.
В лаборатории-то Костя совместитель, а постоянно работает на заводе – тоже с аппаратурой дело имеет, и это очень удобно – запчасть прихватить с завода может, ну раз для пользы дела.
Ну, когда нужно, ему звонят из лаборатории. Если срочно, Костя идет после работы в тот же день, а не срочно – так на следующий день. И денежку – пятьдесят пять любезных – ему отваливают недаром – вечерок-другой в неделю поколупаться приходится.
Костя приходит в четыре и возится часов до восьми. Да, а лучшего мастера для этих аппаратов в Фонареве нет. Костя и сам в этом уверен, и сумел такую уверенность внушить Алексею Григорьевичу – заведующему лабораторией. Он всегда при Костиной работе присутствует, ну принять работу, кабинеты закрыть, прочее.
Да, Алексей Григорьевич – хороший мужчина, незловредный такой мужчина, не кобенится, мол, я кандидат каких-либо наук, а ты, мол, темноватая кость, так делай побыстрее и испаряйся порезвее. Этого нет.
Ну вот, Алексей Григорьевич уважает Костю, а Костя, в свою очередь, уважает Алексея Григорьевича. Да разве же Костя один? Вроде и представительным человеком Алексея Григорьевича не назовешь – и росточком мал, и тощ, как подросток, и голова голая с седеньким венчиком на затылке, а его уважают, потому что считается он человеком безотказным. И, мол, в своем деле знает ну прямо все. Вот такое общее мнение имеется об Алексее Григорьевиче.
Ну вот. День был как день. Косте сказали, что нужно сделать – ну лентопротяжку заедает, ну чернилка брызгает, девочки упорхнули домой, и Костя остался с Алексеем Григорьевичем.
Ага. А был зимний вечер, за окном покручивала метель, что-то отдаленно посвистывало, в кабинете же было тепло, и всяк занимался своим делом: Костя колупался в аппарате, Алексей Григорьевич смотрел ленты, он держал ленту в правой руке, пристально всматривался в нее, затем тянул левой рукой и снова всматривался и записывал результаты этих всматриваний на бумаге.
Работали они, как всегда, молча, и лишь иногда Костя прерывал молчание.
– Лентопротяжку заедало, – говорил он.
Алексей Григорьевич, не отрываясь от лент, кивал.
– Я все исправил. Теперь гладко, – говорил Костя.
Алексей Григорьевич поднимал голову, некоторое время смотрел на Костю, словно не сразу узнавая его, затем говорил торопливо:
– Вот и хорошо. И спасибо вам, Костя, – а в голосе и верно благодарность, ну ведь помогли человеку, выручили, можно сказать.
И снова молчание.
А через некоторое время Костя снова включается:
– Чернилка брызгала. Так я перо сменил. Новенькое с работы принес.
– Вот и хорошо. И спасибо, Костя. А то девочки совсем замучались.
Да, день был хоть и обычный, но не совсем. Малость особенный день, и Костя чуток нервничал. Сегодня праздник – 23 февраля. В стареньком портфеле покоилась бутылочка – ее подарили на халтуре неделю назад. Красивая бутылочка такая. Из нее клюнули малость с хозяином, но тот оказался непьющим, а Косте принимать влагу одному – да никогда. А пробочка завинчивается. Красиво, и не прольется.
Это ладно. Не такой уж Костя питок, если разобраться, чтоб из-за близкой влаги нервничать. Ну с получки, ну с аванса, а чтоб здоровье надрывать просто так – да почти никогда.
А нервничал Костя оттого как раз, что хотел употребить эту бутылочку вместе с Алексеем Григорьевичем. А это была бы штука – никогда прежде не употребляли совместно. А давно хотелось, и не потому, что потребить, а потому что с Алексеем Григорьевичем. Как только эта бутылочка появилась, так Костя и начал думать, как бы ее верно использовать. А тут и удача подкатила – праздник, так что есть из чего мостик соорудить к Алексею Григорьевичу.
Да, поговорить очень хотелось. И не о разных там аппаратах, а вообще. Ну о жизни. Пятнадцать лет знаешь человека как лицо значительное, представляешь, какая у него семья, ну пацан и пацанка, и какое жилье, ну нормальное жилье, но это все так, внешние точечки, контур туманный, а так-то что человек думает, ну про погоду эту, или праздник нынешний, или же вообще, так это туманное в жизни, что и словами не обозначить, но лишь вздохами да намеками.
Послушать бы, как человек рассуждает, а рассуждать не захочет, пусть послушает, как ты рассуждаешь. Не о лентопротяжках или заземлениях, но о жизни. Да-а! Вообще о жизни. Может, он, Алексей Григорьевич, особенное о жизни понимает, что Косте и в голову не приходило. Или же понимает не особенно и много – такое тоже случается. Не больше Кости понимает, может.
Потому что когда долгими часами возишься с аппаратурой, то кое-какие соображения приходят в голову довольно охотно, и жизнь свою собираешь воедино как бы из осколочков, и всякий раз, как в детской игрушке, картинка никогда не повторяется.
А поговорить как раз и не с кем. С друзьями – но это же больше работу ругаешь, да заработки, да жену, что деньги пускает в распыл не так, как пустил бы их ты. С женой – но уж все говорено. Да заведи Костя что-нибудь такое с туманцем, издалека, с верхом, не-е, скажет, Костик, не мылься – не поброишься, не будет тебе на маленькую. Вот Алексей Григорьевич, пожалуй, другое дело. Так Костя и хотел: вот я вас послушаю, а вы меня, да и поймем друг друга, так ведь? Есть ли что интересней и важнее дела такого? А то каждый в скорлупке своей живет и никого к себе не пускает. Дело ли это? Нет, не дело.
– Алексей Григорьевич, вот случись война, кем бы вы были? – спросил Костя для завязки разговора.
– Что вы спросили, Костя? – оторвался от лент Алексей Григорьевич и даже глаза сдавил, чтоб скорее прояснить зрение.
– Ну кем бы вы, например, были, случись война?
– А не знаю, – улыбнулся Алексей Григорьевич. – В артиллерии, поди. Учили когда-то. А вы это к чему, Костя?
Вот это подставка: не нужно потягивать да накручивать – все готово.
– Так ведь праздник сегодня. День Советской Армии, – радостно сказал Костя.
– Ах, ну да. – И Алексей Григорьевич оглядел комнату, так обозначая, какой же это праздник, если мы с вами здесь кукуем в восемь часов.
– А у меня все готово. Все работает. Девочкам скажите, чтоб ленту не тянули. И так пойдет.
– Вот и хорошо. Спасибо вам, Костя, – сказал Алексей Григорьевич и поднялся – день закончен.
– У меня просьба к вам, – собрался с духом Костя. – Никогда ведь прежде. А хотелось. Вот и праздник вроде. За окном вон метет. Так давайте, это самое, чтоб войны не было, то-се, малость-малость, так, по-бодрому, и не задержу.
– Так что случилось?
– Бутылочка у меня, и если по чуть-чуть, – переполненный волнением сказал Костя.
– Ну что же, давайте. Раз метель. И праздник. Оно и хорошо.
Понял, понял волнение человека.
– Только у меня рюмок нет. Чашки есть.
– Да разница-то какая! – взмолился Костя.
Алексей Григорьевич ушел в закуток, что был устроен на манер кухни, и оттуда доносился его голос:
– Только печенье и конфеты. Еды нет.
– Так у меня бутерброды, – крикнул Костя, доставая из портфеля бутылку и сверток с едой. – Готовился ведь.
И когда чашки стояли на столе, взяв бутылку так, чтоб видно не было, что она не полная, плеснул влагу.
– Ну, чтоб небо над головой было мирным, – сказал Костя и показал Алексею Григорьевичу – начинайте первым.
– Это да, без войны бы, – сказал Алексей Григорьевич и, обозначив страдание на лице, жахнул влагу.
Да без запинки, да, опыт у человека имеется. Тем лучше – разговор будет вольнее.
Алексей Григорьевич, отчего-то посмотрев на Костю удивленно, поставил чашку.
А Костя опрокинул жидкость в рот и подавился и закашлялся.
А потому что в бутылке была чистейшая вода. Ну из-под крана.
И Костя медленно опустился на стул и потерянно смотрел на бутылку – поднять глаз не смел.
Нет, насмехаться человек не будет, это понятно, но ведь как стыдно. И уже не поговорить – вот беда главнейшая.
– Ну, Надька, ну, зараза, – сдавленно, чуть не плача, сказал он. – Подменила. Когда завтрак складывала. И все. Все, – потерянно повторял Костя, ясно понимая, что дальнейшая его жизнь никакого смысла не имеет. – Нет, жить я с ней не стану. И что дети! А я? Разве можно так?
– Да что вы. Костя. Это ведь шутка.
– Нет, это не шутка. Так и хотела. Знала все. Говорил ей. Так и хотела. И получилось.
– Ну, не огорчайтесь. Время-то терпит – за винцом еще не поздно сходить.
– Да разве же в этом дело? – уже огорчаясь, что Алексей Григорьевич не понимает его, горестно выдохнул Костя. – Дело-то не в этом. Нет, не в этом.
Он оделся и потерянно побрел домой.
Мало дали
У Сережи Воробьева был праздник – жена его Римма вернулась из дома отдыха.
Ну, не праздник, а скорее затяжные посиделки. Вот, мол, все наконец дома, и это славненько. Это скорее для Веры Алексеевны, матери Сережи.
Две недели назад Римме на фабрике предложили бесплатную горящую путевку. И это ничего, что октябрь и дожди льют, а все ж бесплатно, а все ж за последние шесть лет от дома ни на шаг не отрывалась. Вот и оторвись. Да как же ты с Лесей управишься, ну пять лет, это ж рано в садик отведи, да вовремя забери, да покорми, да постирай на нее. А сумеешь ли? Это вряд ли.
И тут помочь вызвалась матушка. Да поживу покуда с сыном и внучкой, а ты, Риммочка, отдохни от них. И так вроде охотно предложила, что и отказаться-то было нельзя. Так-то Римма со свекровью не ладят. Но зато всегда подмога – ну в кино сходить, прочие милости, – приходится смиряться. А делить им так-то нечего – живут раздельно.
Да, а Сережа прожил эти две недели как раз хорошо. Так-то при Римме не очень разгонишься. А тут он и к друзьям раза три сгонял, и придержался у них малость. Но без глупостей, понятно.
Да, а тяжело было как раз матушке, ну она же на два дома жила, получается. В своей квартире порядок держи (ну где Сережа и вырос), думай о Зое, младшей дочери (ей восемнадцать, в техникуме учится), и дом сына веди. Да и про работу помни (хотя это только в субботу и воскресенье – она за аттракционы отвечает – пенсионный приработок).
Значит, прожили они с матушкой хорошо. Как в прежние времена, до Риммы.
Ну а вчера Римма вернулась. Ну радуется, ох, как соскучилась, ребята, и спасибо вам, Вера Алексеевна, выручили так выручили, да я никуда там и не ходила, дожди ведь, спала по двенадцать часов – на пять лет вперед. Завтра просим вас в гости, посидим маленько, я кое-что раздобыла.
– А чего ты? – спросил Сережа, когда матушка ушла.
– Ну надо же внимание дать. Выручила ведь. Так-то ведь не особенно в гости зовем.
– Это ты хорошо придумала – праздник устроить.
И устроили. Так-то обычно ужинают на кухне, ну и матушка с ними, когда в гости приходит – хотя в последнее время все реже и реже, не особенно и зовут, – а зачем в доме две хозяйки.
А тут развернули стол в большой комнате, перед телевизором. Ну жареная кура была, и колбасу полукопченую Римма в отпуске раздобыла, и винца бутылочка, и для Леси пепси-кола.
Вместе телик посмотрели, картину хорошую показывали, как инспектор рыбнадзора засадил директора большого комбината за то, что тот рыбку потравил.
А Римма время от времени похваливала Веру Алексеевну, ну выручила и порадовала. Видно, Римма хорошо отдохнула. А Леся на бабке так и виснет – привыкла же – ни тебе шлепков, ни окрика.
Хорошо посидели, законно.
А матушка довольная, – рада, принимают в семье старшего сына как родную. Ублажили. Дали полное внимание. То есть вечер в ее честь. Чего прежде никогда не было. И будет ли еще когда – кто ведает.
Оценили-то, да покуда не совсем.
Главное-то ждало ее впереди.
Вчера Сережа с Риммой малость заспорили. Нужно, конечно, матушку отблагодарить, а только как это сделать?
– Ну, коробка конфет у меня есть, – сказала Римма. – И денег надо дать.
– А удобно ли? – засомневался Сережа.
– Неудобно не дать. А дать как раз удобно. Предложить, во всяком случае, следует. Старалась же. Вот сколько дать?
– Ну, десятку уж всяко.
– Конечно, пятерку и давать-то неудобно. Пятерка – не деньги. Не возьмет. Значит, десятку.
– Только ты уж сама.
– Само собой.
Ну вот, посидели. И пришло время прощаться. Как раз перед программой «Время». Ну, матушке спать пораньше ложиться. Она надевала пальто, а Римма ей помогала. Помогала и скорехонько так приговаривала, мол, выручили, Вера Алексеевна, и не знаю, как благодарить, где же ваш шарфик, да вот он, воротник-то поднимите, дождь идет.
А Сережа, уже одетый, ушел на кухню, ну вроде неловко же.
– Да вот конфеты хорошие достала. Красивая вроде коробка, – сказала Римма.
– Спасибо, – сказала матушка. Довольная будто.
– И вот еще возьмите. Только не обижайтесь. От сердца.
– А вот это не надо, – строго сказала матушка.
– Да от сердца же.
– Это не надо, – отрезала матушка и торопливо вышла.
Сережа бросился за ней.
– Провожу, – сказал он.
– Дождь. Промокнешь.
Но пошли вместе.
Дождь лил холодный, хлесткий.
Они шли и молчали. И чувствовал Сережа, что матушка обижена. Потому и молчит.
– Хорошо посидели, – сказал он для поддержки разговора.
Но мать молчала.
Они поднялись в гору. Предстояло пересечь грязный пустырь, и Сережа прошел вперед, чтоб выбирать и указывать матери тропинку во тьме.
– Вот сюда, мама. – И на безлюдном пустыре это выходило излишне громко.
Когда вышли на Партизанскую, матушка остановилась посреди лужи и вымыла резиновые сапоги.
– Ну и погода, – сказала она. – И что с нами происходит, не пойму. Куда все подевалось?
До ее дома они дошли молча. Так и не проходила, чувствовал Сережа, обида матери. Но знал он также, что матушка отходчивая. Куда денется без него и внучки? Заскучает и придет. А они с Риммой будут ей очень рады, постараются угодить, и обида пройдет. Так уж бывало. Стареет матушка, слишком обидчивой становится, это возраст – шестьдесят два.
– Ну чего ты, мама? – спросил Сережа.
– Да вот не пойму, что с нами происходит. Не так все стало.
– Все так, мама, все так. В субботу к нам приходи.
– В кино, что ли, собрались?
– Нет. Просто посидим.
– Спасибо.
И они расстались.
– Довел? – спросила Римма, когда Сережа вернулся домой.
– Довел. Обиделась она что-то.
– Да. И денег не взяла. Мало дали. Конечно, две недели вертелась. Сейчас няня пятьдесят рублей стоит. А тут с уборкой и готовкой. Двадцатку надо было дать. Не обеднели бы. Я же бесплатно ездила.
– Да, – согласился Сережа. – Мало дали.
Когда мы были молодые
За мясом стоять было некогда, и Валя купила в гастрономе пельменей, масла, рису и сахара, потом забежала в ясли за Алешкой. Она тянула его, но он не хотел идти домой, вырывался, прятался от нее за каждое дерево, показывал на проезжающие машины, смеялся повозке и медлительной тяжелой лошади, и тогда Валя взяла его на руки.
Уже совсем потемнело. Крупными мокрыми хлопьями шел снег, он мешался с дождем, тускло, маслено блестели голые деревья, фары машин разрывали пелену из снега и дождя, под ногами хлюпало, вода заползала за шиворот, в спину дул ветер, и Валя ссутулилась, чтобы ослабить тяжесть Алешки и уменьшить свое тело для дождя и сырости, и так понимала все время, что не для худых людей эта поздняя осень, не для худых, а для крепких и хорошо одетых людей. Она не завидовала таким людям, чтобы не заплакать, а думала, что вот же какой неудачный был день, вот же как подпортила дело Таисия Андреевна, старшая сестра поликлиники. Она пожаловалась на Валю Виктору Васильевичу, главному врачу, и Виктор Васильевич вызвал ее к себе. Он стоял у окна и смотрел, как падает снег.
– Таисия Андреевна жалуется на тебя, она недовольна тобой, Степанова, – сказал он, и Валя вздрогнула: она не может привыкнуть, что у такого крупного человека пронзительный, тонкий голос.
– Это несправедливо, – сказала Валя, – я хорошо работаю. Кого угодно спросите. За три года нет ни одной жалобы. Весь процедурный кабинет на мне. Это несправедливо.
– Она тоже говорит, что с работой ты справляешься. Только вот все время торопишься.
– Я кому-нибудь укол не сделала, да? Я кого-нибудь обидела, да? А что тороплюсь, так и все торопятся – мне надо сына из яслей забирать…
В горле стоял ком, и она все не могла его сглотнуть.
– Я просила Таисию Андреевну дать мне еще полставки, а у нее нет, она и рассердилась.
– В том-то и дело, – согласился главный врач. – Ладно, ты иди, и не торопись, пожалуйста. Что-нибудь придумаем.
Ком в горле не проходил до конца работы. Вале очень хотелось плакать, но для этого нужна была свободная минута, чтобы пожалеть себя, свободной же минуты не было.
Так некстати повредила ей Таисия Андреевна. Валя и сама собиралась зайти к главному врачу – он обещал ей комнату, – а теперь не так-то и скоро можно будет зайти к нему и напомнить про обещание. А так что же получается – за комнату, что они снимают, отдай, за ясли отдай, да вычеты, а они еще молодые, когда же жить-то они будут?
И ей вдруг так стало жалко себя, что, коротко оглянувшись и увидев, что поблизости никого нет, она прислонилась спиной к деревянному забору у нового дома и громко всхлипнула.
Она бы и заплакала, но увидела испуганное лицо Алешки, постаралась улыбнуться ему и заспешила домой.
Комнату они могли бы и не снимать, могли бы жить у родителей Андрея. Но родители к ней оказались людьми недобрыми. Они были против женитьбы сына. И это понятно – молод еще, только из армии пришел, учиться ему надо, а не детей нянчить. А уж если и жениться, то их сын может и получше жену найти. Потому что Валю никак не назовешь красивой – она худа и даже чуть сутула, и старше Андрея на четыре года. Он мог найти жену покрасивее и помоложе. И Валя была согласна с ними. Но она знала также, что Андрей любит ее, и уверена была, что не будет ему без нее счастья и что без нее он даже пропадет. Она и объяснить не могла, откуда в ней эта уверенность, но так всегда было, а сейчас и подавно. Она могла бы терпеть придирки и поучения его родителей, – ради Андрея она все согласна терпеть, – но Андрей не дал ее в обиду, и они ушли в чужую комнату.
Вдруг Валя почувствовала, как по шее, а потом ниже, между лопатками, ползет холодная струйка. Валя вздрогнула, телу стало колко, она повела плечами, чтобы платьем вытереть струйку, но это не удалось, тогда она распрямила спину, чтобы струйка сползла ниже, и телу стало так сиротливо и неуютно, что она снова всхлипнула. Но уже, заботясь о сыне, старалась, чтобы всхлип этот был похож на глубокий вздох.
Хлопья снега совсем пропали, шел холодный косой дождь, Валя свернула в свой двор.
Спотыкаясь, шла она по неровным булыжникам. Свет во дворе еще не зажигали, и, когда она остановилась и поддала правой рукой, чтобы удобнее посадить сына, почувствовала, что стоит в луже.
Да что же это такое, уже с отчаяньем подумала она, да это же никогда дожди не кончатся, Алешка простудится, и она тоже простудится и заболеет…
Все последние годы она никогда не думала о себе, но сейчас было так неуютно, что она подумала о себе и удивилась – да она ли это идет сырым темным двором, руки ноют от тяжести, ногам сыро, вдоль позвоночника ползет холодная струйка, – да она ли это. Она, она. Не все же быть дождю, скорее хотя бы и снег пошел, мороз ударил, у нее еще хорошее зимнее пальто, да и сапоги еще хоть куда.
Наконец они пришли домой. В кухне было пусто – хозяйка уехала на месяц к сыну в Калугу. Алешка не хотел раздеваться и долго возился в коридоре.
– Да разденешься ты наконец? – крикнула Валя.
Она редко кричит на сына, и от неожиданности тот широко раскрыл глаза, потом захлопал ресницами, губы его надулись от обиды, и он зашмыгал носом.
– Ну, будет, будет, – примирительно сказала Валя.
Ей стало жалко сына, хотелось приласкать его, и она поняла, что это все – она дома, и все обиды нужно позабыть, потому что в семье, кроме как на нее, не на кого больше рассчитывать.
Она знала, что Андрей приедет десятичасовой электричкой – у него два часа занятий в техникуме.
Ровно в десять часов электричка засвистела, шумно сбила ход, и слышно было, как она трется о платформу. Валя встала у окна на кухне…
Видны были длинные сараи и двухэтажный деревянный дом – между ними и должны пройти люди, спешащие с электрички.
Снова вялыми крупными хлопьями падал снег. Земля была уже бела. Дул ветер, качался скворечник на длинном шесте у сарая.
Как всегда, люди появились неожиданно. Шли они гуськом, как-то боком, забрав шею в плечи, продавливая черные мокрые следы.
Андрей заглянул в кухонное окно и, убедившись, что Валя ждет его, помахал ей рукой и вошел в дом.
Стряхнул воду с кепки, снял пальто и только тогда обнял Валю.
– Устал? – спросила она.
– Не в этом дело, – ответил он.
Губы его слегка дрожали, и видно было, что Андрей чем-то расстроен.
Когда он потер руки в ожидании ужина, Валя подумала, что он еще совсем мальчик. Только двадцать три года. Черты лица еще мягкие, плавные, еще не затвердели, как у взрослого человека.
– Баллон сменил? – спросила она.
– Сменил, – ответил Андрей, и по лицу его проскользнула дрожащая улыбка, чуть раскосые глаза его были печальны. – Еду, ты понимаешь, с этим баллоном, в электричку еле сел. В тамбуре битком народу, все после работы, злые друг на друга, голодные, толкаются. Я тоже голодный, спать хочу… – Снова губы его задрожали, и видно было, что Андрей переполняется жалостью к себе. А Валя забеспокоилась, не натворил ли чего ее Андрей.
Жалость к себе захлестнула его окончательно, и он говорил торопливо, глотая слова:
– Да что же это, думаю, за жизнь такая. И злость во мне на всех. Вот сейчас, думаю, возьму и взорву газовым баллоном, и все тут. – И он, видя испуг Вали, улыбнулся жалкой, усталой улыбкой.
– Ничего, ничего, – приговаривала Валя, и, как всегда, она ясно почувствовала, что для Андрея или же для Алешки она не только руку там или ногу отдаст, но легко и просто жизнь отдаст, и успокоилась – пока есть в ней такая уверенность, все будет в порядке.
– Ты голодный, ты сейчас поужинаешь, я сварила пельмени, а потом обжарила их в масле, да сейчас вот сметаной полью, и уксус у нас крепкий, и вот как вкусно будет, – говорила она тихо, не торопясь, но, однако, и не останавливаясь, таким образом убаюкивая Андрея, обволакивая его своим спокойствием.
А после ужина Андрей сел на кровать против кровати Алешки и, глядя поверх его головы на пожелтевшие обои, говорил, чуть покачивая головой:
– Я все решил. Хватит. Уже выучился. Брошу техникум. Рядом с моей работой есть воинская часть. Там монтер нужен по совместительству. Посменно. Времени хватит. Будем жить нормально. Комнату получше снимем. Будем жить, как все. Нормально. Пока очередь не подойдет. А может, тебе дадут и раньше.
– Нет. Нет, – перебила его Валя. – Ты так не сделаешь. Ты обязательно кончишь техникум. Мы так решили, ты выучишься и будешь хорошим строителем. Не захочешь в институте учиться – твое дело, а техникум ты кончишь.
– Да это же не один день, не месяц, это же еще два года.
– И что? Да, много. Но я придумаю что-нибудь. Полставки мне дадут. Возьму воскресные дежурства в процедурном кабинете. Это все временно. Мы со всем справимся.
– А жить-то когда же, Валюта? – вдруг не выдержал Андрей, охваченный отчаянием.
– А мы что – не живем? – удивилась Валя. – Да это и есть жизнь, – торопливо, боясь, что он перебьет ее, заговорила она. – Только это и есть жизнь. У меня есть ты и Алешка, и мне больше ничего не надо. Я счастлива. Все же остальное приходит и уходит. Я вот так. Думала, и ты так. Эх ты! – горько сказала она.
– И я так, я тоже так, – сказал он порывом, отчаянно, и ткнулся в ее плечо. Она погладила его шею, и он повалился боком и лицом ткнулся в ее колени… Она гладила его шею, жесткие волосы, сердце ее толкнулось в груди, начало расти, расплываться до горла и до живота, заливая все тело горячим, расплавленным теплом, оглушая, кружа голову, и сейчас снова знала Валя, что не только легко, но даже и радостно расстанется она со своей жизнью, чтобы только они, Андрей и Алешка, были счастливы.
Она знала, что говорить ничего не нужно, сейчас все понятно без слов, но счастье и даже восторг так захлестнули ее, что она не могла сдерживать себя.
– Да у нас, может, никогда и не будет времени счастливее. А если все пройдет? У тебя или же у меня. Не пройдет, конечно, жить я тогда не буду, но бывает же у людей. Повзрослеем. Сам еще будешь говорить, что вот когда мы были молодые, хорошо нам все-таки было. Так что еще? Это и есть жизнь. Несогласен разве?
Снова вдали за домами просвистела электричка, метался фонарь за окном, постанывали стекла от порывов ветра, она гладила его, убаюкивала, наклоняясь целовала и, сглатывая слезы, понять не могла, его эти слезы или же ее, они были едины и солены, эти слезы, и время летело, как в темную ночь летит пустая электричка, только глаза закрыл – и не разберешь, мгновенье ли прошло, час, день, и знала, что не было в ее жизни минуты счастливее вот этой минуты, вспыхивало что-то в голове на мгновение – яркий свет, молния – и, качнувшись, как фонарь от ветра, гасло, чтобы отдохнуть человеку от счастья, и снова вспыхивало, и снова гасло, темнота и в ней молния, и пожар, и снова темнота, и полный покой, и знала, что у Андрея такое же, что и у нее, мгновенное, жаркое, горящее счастье, и здесь она не могла ошибиться.
– Мальчик мой, мальчик мой, – говорила она, – так хорошо сейчас, так вот всегда и будет, и ничего-то нам не страшно.
– Да, да, – радостно, восторженно соглашался он. – Так всегда. Конечно. Да. Да.





![Книга Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] автора Семён Шуртаков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-povesti-243627.jpg)


