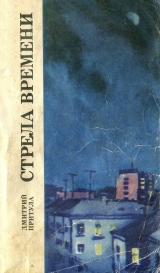
Текст книги "Стрела времени (Повесть и рассказы)"
Автор книги: Дмитрий Притула
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
Они прожили вместе почти тридцать лет, вырастили детей, сейчас оставить ее – значит предать. Предателем Николай Филиппович стать не мог. Это значит расстаться с сыном и внуком, потому что сын предательства не простит, это значит отречься от всей прошлой жизни, от привычных людей, быта. Невозможно.
Сейчас, когда им скоро по пятьдесят, снести такой разрыв Людмила Михайловна сумеет едва ли. Да еще при ее гордыне. Нет, это невозможно. Это уже крест до дней последних. Такие тугие времена они вынесли совместно, сквозь какой быт продирались, ведь тогда, когда она была молода, он предан был ей безгранично.
И потом, поменяйся они местами, случись роман не с ним, а с ней, да никогда бы Людмила Михайловна не оставила бы семью, потому что для нее жизнь именно вот в этой семье. Здесь нет сомнений.
И, следовательно, играть нужно по одним правилам.
Но как же невыносима осень, когда тусклый фонарь за окном лишь вырывает из тьмы сероватый, просеянный мелким дождем клок, как тягуче, резиново шелестит время, когда кажется, что вечер никогда не кончится, и коротать его у светящегося ящика, у блеклой книги, нетерпеливо ждать утра, потому что утро – это работа, потому что удастся увидеть Тоню и всякий раз с горечью удивиться – а ведь как счастлив был в прошедшей своей жизни, сейчас же счастлив лишь короткие мгновения, когда видится с Тоней.
Но в том и дело, что нынешнее счастье было хоть и коротко, но так слепяще, что он не согласился бы променять его на все долгое прежнее благоденствие. И до следующего мига короткого нынешнего счастья согласен был коротать свою раздвоенность, и осеннюю тоску, и бессмысленность платы за непредательство.
И чувствовал, что домашние понимают, что папаша не тот, не прежний, он явно не в порядке, веселость его сменилась дурашливостью, бодрость – суетливостью, и в этой суетливости случаются провалы – он иногда теряет контроль, и тогда тело его как бы раскисает в кресле, это воля к игре покидает его, он теряет контроль над собой, сознание его меркнет к окружающему быту и блуждает где-то вдали, юг ли вспоминает: вот они идут в гору, да, всего чаще – именно идут в гору, взглядов перехлест, короткое, отлетевшее счастье, – и Николай Филиппович, чувствуя на себе удивленный взгляд жены или сына – видно, улыбка блаженного воспоминания скользит по его лицу, – сразу подбирается и посылает зрителям просительную улыбку: вот вздремнул, сон видел странный – ну, ему прощение и отпущено, да, видно, папаша неудержимо стареет.
Глава 4
Зима
Так он жил. За два дня они с Константиновым составили нужное письмо, приложили результаты испытаний морковоуборочного комбайна «Бумалуч», а также копию заключения ВАСХНИЛ (рекомендуем запустить машину в серийное производство), и теперь оставалось ждать реакции на это письмо.
В октябре Сережа переехал в новую двухкомнатную квартиру. Переезд был прост: два чемодана вещей, диван-кровать, коляска, какие-то ящики и книги, все остальное – молодая надежда на дальнейшее благополучие. И когда Николай Филиппович оставил Сережу, Свету и Николашу в их новом жилище и бродил по своей опустевшей квартире, то его не покидало предчувствие: а ведь не к добру этот переезд, пусто в квартире, всюду разор, сиротство. И это новая трудность – то хоть мог отключаться, разговаривая с сыном и невесткой, возясь с внуком, теперь же остался один, и как же это доиграть роль достойно.
Покатилась жизнь. Душа Николая Филипповича разрывалась между домом и работой. Дома – заботливый муж и отец, так душу настраивал, идя с работы домой, что вот еще этот вечер следует выдержать, обозначив радость и благодушие, он полностью доволен окружающим. А утром нетерпеливо стремился на работу – он увидит Тоню, ей уже отдельный стол выделили – Витя Кифаренко на два месяца уехал в командировку, – да и нельзя же бесконечно сидеть за одним столом, испытывая терпение сослуживцев.
А на смену осени ранняя зима пришла, ударили морозы, встречаться в парке стало невозможно, а другого пространства – замкнутого, разумеется, – не было. Так и виделись – бегло, несколькими фразами обменивались на ходу, а помнишь, помню, конечно, как забыть возможно, месяц, даже полтора месяца разлуки выдержал Николай Филиппович, но дольше выдержать не смог – непременно должен ее видеть. И тогда Николай Филиппович сообразил, что хоть иногда, хоть раз в неделю, можно встречаться и на работе.
И это просто: работа начинается в половине девятого, а впускать рвущихся к работе людей начинают в семь, так если приходить за час до работы, да если не вместе, а порознь, с десятиминутным разрывом, так ведь за час можно поговорить и обняться бегло. Эрзац-свидания, конечно, но что поделаешь, если двум людям негде приткнуться в осенне-зимнее время, он мог бы комнату снять, но даже если б комнаты сдавались, сделать этого нельзя, потому что Людмиле Михайловне в тот же вечер стало бы известно, где муж проводит время, – это ж провинция, малая точечка.
Раз или два в неделю они встречались в помещении группы Николая Филипповича. Боже мой, на какие только унижения не идет человек, чтоб судьбу обмануть, чтоб только привычное течение жизни не нарушить, чтоб не стать в глазах другого человека предателем.
Разумеется, дело невиданное, чтоб кто-то так рвался на работу и приходил за полчаса до ее начала, а все ж какое это унижение, какой суетливый одышечный страх. И отказаться от встреч Николай Филиппович не мог – пусть так, пусть в страхе и суете, а все же она рядом сидит и вот ее глаза, губы, плечи, а Тоня соглашалась встречаться потому, понимал Николай Филиппович, что хоть и боится и трепещет от страха, но ведь если он настаивает на этих встречах, значит, они необходимы ему, и она согласна была терпеть страх, чтоб только Николаю Филипповичу было лучше.
Они все время были в предчувствии, что вот-вот что-то должно произойти, чему они помешать не в силах, снова Николай Филиппович чувствовал себя зависшим над пропастью, и катастрофа может стрястись со дня на день, и он не в силах предотвратить ее.
Однажды они сидели на диване, Николай Филиппович гладил Тоню по голове, утешал: ну, ты потерпи, девочка, это не может продолжаться бесконечно, глядишь, кто-нибудь из друзей уедет в командировку и попросит приглядеть за его квартирой, может, что другое подвернется, нет, это никакое не унижение, что мы здесь, разве ж можно унизить людей, если они любят друг друга; а до работы оставалось минут сорок; да, я согласен и так, только бы с тобой рядом: они сидели обнявшись, вовсе позабыв о близкой катастрофе.
И вдруг в комнате вспыхнул свет. Он был тем неожиданнее, что в коридоре не было слышно шагов, следовательно, человек к этой комнате подкрадывался.
Николай Филиппович защитил ладонью глаза от света, а когда ладонь отвел, то увидел в центре комнаты Людмилу Михайловну. Потерянно смотрела она на них. Тоня отстранилась от Николая Филипповича.
– Так! – выдохнула Людмила Михайловна. Она хоть ожидала увидеть чужое свидание, однако не могла очнуться от потрясения.
– Тоня, ты сейчас иди домой и сегодня на работу не выходи, – спокойно сказал Николай Филиппович. – Я тебя прошу. Ты в этой сцене не повинна. Сиди весь день дома. Завтра скажешь Константинову, что на весь день ездила на станцию в Губино. Он поверит. Потому что Людмила Михайловна не станет выносить сор из избы. Этого ей не позволит ее гордость.
– Я не могу вас оставить.
– Нет, вы-то как раз можете нас оставить, – сказала Людмила Михайловна. – Вам не следует присутствовать при семейной сцене.
Тоня в дверях испуганно посмотрела на Николая Филипповича, он кивнул ей – ничего, девочка, иди домой.
– Так! – сказала Людмила Михайловна. – Что все это значит?
– Ты что – слепая? Это значит – свидание. Это значит – не надо выслеживать мужа. Это унизительно. Я от тебя не ожидал.
– Ты прости меня. Я и сама не ожидала. Какое-то помрачение у меня. Но ведь и стыд какой. И какой же ты негодяй, Нечаев.
– Только, пожалуйста, без сцен. Зачем же терять голову в совершенно ясной ситуации.
Вот этот твердый тон больше всего и поразил Людмилу Михайловну. Но не лепетать же Николаю Филипповичу слова оправдания, дескать, седина в висок, бес в ребро, и ничего серьезного, так, шалости стареющего мужчины, а только лепет мог спасти семенную жизнь, однако унизиться Николай Филиппович не мог – в нем была сейчас та ясность, какая бывает у человека, которому совершенно нечего терять.
– Ты посмотри на себя – ворот рубашки расстегнут, галстук сбился. Стыд какой. – Вот до нее стало доходить понимание случившегося. – Да это же низость: она ровесница нашего Сережи. Ты селадон.
– Прекрати, Люда. Не унижайся.
Он подошел к ней, чтоб как-то успокоить, но она в беспамятстве уже оттого, что муж, ее собственность, ее вечный обоз, так обманул ее, что уже не собственность и не обоз и, следовательно, всю жизнь она обманывалась на его счет, звонко ударила Николая Филипповича по щеке. Он отшатнулся. Затем с силой сжал ее руки и сказал:
– Все! Это все!
И Людмила Михайловна сразу обессилела, ноги ее начали подкашиваться, и она упала бы на пол, но Николай Филиппович успел подставить стул. Людмила Михайловна рукой держалась за сердце и тяжело дышала.
– Что с тобой, Люда? – испугался он.
– Сердце. С утра болит. А сейчас как ножом ударило.
– Сейчас, я сейчас, – засуетился Николай Филиппович. – Выпей воды. Я вызову «скорую помощь». Ложись на диван, легче будет.
Он вызвал «скорую помощь», все беспокоился возле жены, бросился к проходной встречать врача – и встретил, быстро прикатили; врач осмотрел Людмилу Михайловну, сделал обезболивающий укол, сходил за носилками, и они с Николаем Филипповичем отнесли Людмилу Михайловну к машине.
– Надо инфаркт исключить, – сказал врач. – На то похоже.
Когда они вталкивали носилки в машину, Людмила Михайловна поманила пальцем Николая Филипповича. Он склонился над ней, и она сказала тихо:
– Только не вздумай приходить в больницу. Ненавижу!
Потерянно бродил Николай Филиппович по бюро – никого еще не было. Все кончено. Он ждал постороннего вмешательства в свою судьбу, у него не хватило отваги судьбой распорядиться самостоятельно, и вот расплата – приход ожидаемой беды и катастрофы. Только бы у Людмилы Михайловны не инфаркт. Оправдания нет, прощения нет, ах, не в оправдании, не в прощении дело, не о себе сейчас тревога, о Людмиле Михайловне – ведь ближайший, драгоценнейший человек. И все из-за него.
Появились первые сослуживцы. Они, пришедшие чуть раньше времени, шли вальяжно, распахнув пальто, в руках держа шапки, за ними деловито шли люди, пришедшие вовремя, вот они разделись, сели за столы, и сразу взрыв звонка, а вот и те, кого звонок застал в коридоре, они летят по-заячьи, глаза суетятся по сторонам – нет ли поблизости начальства.
Николая Филипповича раздражала всякая мелочь – да что ж это за суета из-за пятиминутного опоздания, когда в это время решается жизнь Людмилы Михайловны.
В девять часов он позвонил в приемный покой больницы и узнал, что Людмила Михайловна находится на лечении в терапевтическом отделении больницы и что у нее подозревают инфаркт миокарда.
Тогда Николай Филиппович оделся и вышел на улицу. Стоял густой неподвижный туман. Двухэтажное здание напротив казалось разорванным в клочья. Чуть начинало светать. Это декабрь – самое темное время. Морозило. Николай Филиппович, чуть выставив левое плечо, продирался сквозь липкий туман.
Он вошел в ординаторскую терапевтического отделения, поздоровался с заведующей Лидией Васильевной. Она много лет знает Нечаевых, Николай Филиппович лечился у нее. Ей пятьдесят лет, Лидии Васильевне, у нее годовалый внук, но глаза ее светло-голубые, не замутненные печалью, как у юной девушки.
– Ну что? – спросил Николай Филиппович.
– Да вы успокойтесь.
– Так, а что?
– Да я затрудняюсь сказать. Боли снимал дежурный врач, он подозревает инфаркт. Будем исключать.
– Но она здоровый человек.
– Ах, Николай Филиппович, все мы здоровы до поры до времени.
– Это я понимаю. Так я пойду к ней?
– Нет, посидите пока вот здесь. У Людмилы Михайловны доктор снимает электрокардиограмму, а Сережа ей помогает.
Николай Филиппович сел на диван и погрузился в терпеливое ожидание. За окном уже рассвело. Зябкий неясный свет заливал двор, разбавлял туман холодным синеватым молоком.
В ординаторскую вошли Сергей и молодая женщина с лентами кардиограммы в руке. Николай Филиппович встал, сделал к Сергею шаг, затем остановился, все не отводя от сына взгляда.
Молодая женщина разложила на столе ленты.
– Инфаркта нет, Сергей Николаевич. Давайте посмотрим вместе. Вот и вот. Я все распишу подробно.
– А это? – спросил Сергей.
– Ну, это нарушение трофики. Скорее физиология – дань возрасту. Нет, хорошее сердце, – сказала молодая женщина.
– Ну, вот и хорошо, – сказала Лидия Васильевна, – я слушала ее, по-моему, тоже инфаркта нет. Какое-то у нее потрясение. Не хочет говорить, только плачет. Значит, это не инфаркт, а функциональные дела.
– Вот и хорошо, – обрадовался Сергей.
Николай Филиппович был так измучен оцепенением ожидания, что на проявление радости сил не осталось.
– Она полежит у нас несколько дней, – сказала Лидия Васильевна, – дадим ей успокаивающих средств, укрепим маленько да и отпустим.
– Спасибо вам, Лидия Васильевна, и вам, доктор. Я не ходил покуда к Людмиле Михайловне, не хотел вам мешать, а теперь посижу у нее.
– Погоди, папа, – сказал Сергей. – Мама заснула. Пускай спит. – Он надел шапку, накинул на плечи пальто.
Вышли в закуток перед ординаторской.
– Пройдемся по двору, – предложил Сергей.
– Да, только ты надень пальто как следует. Простудишься. Ну, как мама?
– Да ты же все слышал. Плакала все время навзрыд. Вот теперь успокоилась.
Туман рассеивался. Солнце висело низко, – светило смутно, то был расплавленный дынеобразный слиток. От смутного его света снег был сер и тускл. Он скрипел под ногами. Сергей запахнул пальто и поднял воротник.
Они шли по двору вокруг хирургического отделения. Как же томился Николай Филиппович, что ему сейчас предстоит рассказать сыну о причине ссоры. Он знал, что Сергей чувствует это его томление.
– Да, мама нас очень напугала, – сказал Сергей. – Представь себе, я потрясен даже не самой болезнью, а именно сознанием, что мама так же слаба и беззащитна, как прочие люди. Когда я увидел, что в ней нет привычной уверенности и властности, я потерял голову. Все люди слабы и имеют право заболеть – и я, и ты, и все, – но только не мама.
– Пойми меня, сын, – начал Николай Филиппович, – и не осуждай сразу. Ты взрослый человек.
Николай Филиппович ждал, что Сергей поможет ему наводящими вопросами, но тот терпеливо ждал.
– Я, представь себе, полюбил другую женщину. – Все, слово сказано, мосты сожжены, в шутку обратить дело невозможно. – Ну вот, а мама об этом узнала. И сегодня убедилась в этом. Она тебе не рассказывала, как убедилась?
– Нет.
– Тогда и я не скажу. Захочет, сама расскажет. Да это и неважно. Не сегодня, так завтра убедилась бы.
– Отчего же? Многие люди долгие годы ведут двойную жизнь, и все у них получается ладно.
– Ты это серьезно?
– Конечно, серьезно. А ты, что же, – маме взял да во всем и признался?
– Нет, я не признавался. Я лгал.
– Ну, а многим людям ложь сходит десятки лет.
– Я бы так не смог. Я, видно, другой человек. Я бы долгую двойную жизнь не выдержал.
– Я знаю немало умных людей, которые неплохо чувствуют себя в таком положении.
– Ты меня удивляешь, Сережа.
– Чем же? Сухостью? Рассудочностью?
– Да, вот именно рассудочностью. Ты меня не понимаешь.
– Почему же я тебя не понимаю? Я понимаю. Тоня, без всякого сомнения, человек замечательный. Я и сам был в нее влюблен в девятом классе, тайно, правда, и она об этом не знала. И дело не в ней, а в тебе. Я ведь в августе тебя предупреждал.
– Я хорошо помню.
– Тогда это были слухи, но на всякий случай я высказал свое отношение. И я не вижу, почему должен его менять. Прости, что я говорю сухо.
– Ничего, я помаленьку привыкаю.
– Я понимаю, тебе сейчас тяжело, ты, я думаю, хотел бы, чтоб все развивалось естественным образом, плавно, и уж, во всяком случае, без вмешательства посторонних сил в виде семьи, случая, быта. Ты, я думаю, хотел бы полагаться только на время. Так ведь?
– Так.
– Но на время, выходит, полагаться нельзя. Мама безостановочно плачет и говорит, что не видит смысла жить дальше. Она так считает: вот мы с Олей уже взрослые и в ней особенно-то не нуждаемся, она свой долг исполнила, вот думала, что нужна тебе, но теперь она не защита, а помеха, и потому ты ее предал – это ее слова. Так что пойми и ты меня, у тебя есть надежды на будущее, раз ты решил поговорить со мной, а у мамы таких надежд нет. Ее защищать могу только я.
– Я рассчитывал не на жалость, а на понимание.
– Я и стараюсь понять тебя. Зная маму, ее самолюбие, ты ведь все заранее взвешивал. И для тебя так вопрос и стоял: или Тоня, или семья. А семья – это мама, Оля, я и мой сын.
– Но ведь бывают случаи, когда человеку не до расчетов.
– Я понимаю, это красиво звучит. Однако для тебя вопрос все-таки стоял – или роман, или семья. Мама несчастна, и я приму ее сторону. Ты рассчитываешь на высшее понимание, на всепонимание, но оно невозможно, поскольку речь идет не о людях вообще, но конкретно о моей матери. И я всегда буду на ее стороне, потому что больше ей рассчитывать не на кого. Если ей будет плохо всегда, значит, я никогда не буду способен на всепонимание и всепрощение.
– Ты ничего не понял, Сережа. Мне очень тяжело, сын, – не сдержал жалобы Николай Филиппович. – Если б я не дорожил вашим мнением, дело не дошло бы до скандала. У меня не хватило сил на разрыв. Ты даже не можешь представить, как тяжело мне было от раздвоенности. Я не мог поговорить с вами, потому что боялся. Хотя и полагал, что вправе распоряжаться собственной жизнью. Мне сейчас очень трудно, сын.
– Конечно, еще бы. Тебе еще предстоит что-то решать, а за маму уже все решено. Тебе тяжело от предстоящих решений, а ей тяжело, что ничего не нужно решать. Вы просто разные люди. И потом я не верю, что есть такая любовь, ради которой можно оставить детей и жену. Я уверен, что взрослый человек, и во всяком случае человек цивилизованный, обязан уметь себя сдерживать. Но вообще-то я действительно считаю любовь к детям несколькими порядками выше любви к женщине. Как, к слову говоря, и долг. Если человек не расстался с женой, когда она была молода, то оставить ее, когда она немолода, он не имеет права. А если он оставит новую любовь, чтоб не предавать жену, то это мы назовем справедливостью.
– Но что делать человеку, если он действительно любит, да так, что ты даже и представить не можешь?
– Я уже отвечал на этот вопрос: терпеть. Только терпеть.
– А, все то же, – огорчился Николай Филиппович. – Старыми песнями про долготерпение никого убаюкать нельзя.
– Но в таком случае человек должен быть готов расплачиваться за свою страсть. Вот сейчас, например, мама просит, чтоб ты в больницу не приходил. И я вынужден защищать ее. Если тебе нужно что-то узнать, то приходи ко мне в хирургию. Я боюсь повторения болей. Так что ты нас пойми, папа.
– Да, конечно, понимаю.
– Я надеюсь, что все будет в порядке, и я смогу забрать маму домой.
– Тогда до вечера?
– До вечера.
– Не осуждай меня, пожалуйста, – снова попросил Николай Филиппович.
– Да я и не осуждаю тебя. Но и ты не сердись – всепонимание во мне сейчас невозможно, оно аморально. Пойми. И не обижайся.
– Я не обижаюсь.
– Но все так неожиданно. Болезнь. Крах привычного.
– Да. Конечно.
И они расстались. Николай Филиппович побрел на работу.
Какой же это невероятный день, как медленно и нервно он тянулся. Николай Филиппович всем своим видом обозначал, что занимается делом, но душа его томилась – что ее ждет еще? Все вроде бы ясно, тайн больше нет, но, однако, все в тумане, и какие еще предстоят разговоры. Более всего Николай Филиппович изводился от неизвестности – ну, что еще его ждет в ближайшее время. И от тревоги за Тоню, ей-то сейчас каково. Он относился к ней – в своей жалости – как к ребенку, у него скручивалось так: вот ссорятся взрослые, а расплачиваются дети. Он, Николай Филиппович, все, пожалуй, вытерпит, постарается не унизиться, то есть достойно все стерпеть, но Тоне он ничем не мог сейчас помочь.
Наконец рабочий день дотянулся до звонка, но звонок Николай Филиппович встретил не с ожидаемым облегчением, но с тревогой – опять ожидание, неясность. И, конечно же, чувство вины. Тем более что тебе не дадут оправдаться.
А какой же морозно-слякотный вечер стоял. Продыху не было, и липкий мороз схлестывал дыхание. Там, над головой, небо было темно и чисто, уже начали раскаляться звезды, над парком повис серп луны, но здесь, на земле, вольному передвижению человека мешали липкий туман и мороз, и это было несправедливо – еще бы немного, и земля бы очистилась от тумана и слякоти, и тогда, возможно, тревога отпустила бы душу.
Николай Филиппович зашел в приемный покой узнать о состоянии жены – в терапию, помнил он, вход ему закрыт.
За столом сидела молоденькая медсестра. Голова ее была покрыта цветной косынкой, под косынкой угадывались бигуди.
Николай Филиппович назвал фамилию жены.
– Нету! – сухо отрезала медсестра.
– Как это нету? – заволновался он.
– Нету, и все! Увезли.
– Кто увез? Куда увез? – Он не мог справиться с испугом – ей стало хуже, и ее увезли в большую клинику.
– Сергей Николаевич и увез. Выздоровела. Домой увез. – Она разговаривала вздорно, скандально, значит, он того заслуживает. Раз не знает, где жена и что с ней, выходит, сам и виноват в ее болезни и потому внимания не заслуживает.
Николай Филиппович кивнул сестре и вышел из приемного покоя. Спиной прислонился к покрытой влажной изморосью стене – так замер, лицо обратив к небу. Ждал, пока вытечет из него страх, пережитый несколькими мгновениями раньше. Случись с Людмилой Михайловной что-либо серьезное, ему житья тоже не будет. То был странный страх и не менее странное облегчение: обрадовался Николай Филиппович не так тому, что с его женой ничего страшного не случилось, как тому, что вот ничего страшного не случилось, и, следовательно, он ничему не виновник, то есть не душегуб. Понимание, что такое соображение – недостойное, и опечалило, и успокоило Николая Филипповича.
Втайне он надеялся, хоть и не осмеливался признаться в этой надежде, что Людмила Михайловна пробудет в больнице несколько дней, там успокоится, гордость ее притихнет, а он за это время соберется с мыслями, поговорит с дочерью и с Сережей, не то чтоб ему оправдываться нужно, нет, но дайте человеку объясниться, не прощения он просит, не сочувствия, но хоть снисходительного внимания. Он ведь был терпелив к вашим неловкостям, неумению, слабостям не год и не два, но несколько десятилетий, так уделите ему хоть полчаса.
И вот домой идти следовало прямо сейчас. Никогда прежде не шел он домой с такой тревогой, неохотой, да что с неохотой, он сейчас шел домой, как на заклание.
Раздирал плечом слоистый туман, да туман этот был не сплошной, а клочкастый, шел тугими озерцами. По-прежнему раздражало Николая Филипповича то, что вот здесь, на земле, мразь липкая, а на небе ярко палилась белая луна, звезды льют свет ровно, там хоть и холодно, но чисто.
Дошел все-таки до дома, не стал даже у подъезда передых устраивать, чтоб сил набраться, а так, побрел к своей двери, с вялой волей и согласием на худшее.
А дальше – туман, бред, невозможность.
Когда он открыл дверь, то слышал поначалу голоса – Людмила Михайловна на кухне разговаривала с Сережей, – и сразу голоса смолкли. Николай Филиппович обреченно понял, что против него имеется сговор.
Он неторопливо снимал пальто, вот повернулся к вешалке, вот сразу попал петелькой пальто на штырь, вот, чувствуя за спиной присутствие Людмилы Михайловны, взгляд ее тяжелый, медленно поворачивается на этот взгляд.
Да, в дверях кухни стоит Людмила Михайловна, смотрит не то чтобы ненавидяще, конечно, есть и ненависть, но именно презрительно, даже тяжело-презрительно, так что надежд на примирение, а тем более прощение быть не может. Она стоит величественная, уверенная в своей правоте. Глаза сухи и горячи. На ней черная кофта, плечи и шея покрыты тонкой белой шалью. И разглядел Николай Филиппович – блестит пот над верхней губой – нервничает, однако, Людмила Михайловна.
Николай Филиппович ожидал встретить надрыв, истерику, взорванный быт, потоки слез и проклятий, но здесь – холодное презрение, и уже примирение невозможно.
Они молча смотрели друг на друга. Людмила Михайловна даже голову вскинула надменно – и с этим ничтожеством она жила без малого тридцать лет! – и руки замкнула на груди.
Сейчас какие-либо разговоры были невозможны, и Николай Филиппович, чтоб прервать уничтожающее его рассматривание, хотел пройти в маленькую комнату и запереться там до позднего вечера. Надеялся, что Людмила Михаиловна не в силах будет носить маску холодного презрения и ближе к ночи все кончится потоком слез, даже рыданий, и тогда возможен хоть какой-то разговор.
Он пошел было по коридору, но проход загородила Людмила Михайловна. Она все не желала снизойти до разговора с ним и, оборотив лицо в глубину кухни, сказала:
– Сережа, помоги мне, пожалуйста.
Сережа вышел в коридор. На отца он не смотрел, только на мать.
– Сережа, объясни, пожалуйста, твоему отцу, что под одной крышей мы жить не сможем.
Это было нелепо и потому неожиданно, Николай Филиппович удивленно смотрел на жену и сына, Людмила Михайловна выдержала его взгляд, тем давая понять, что решение ее твердо. Сергей же по-прежнему избегал отцовского взгляда.
– Да вы что, – сказал Николай Филиппович, он ожидал скандала, истерики, презрения, чего угодно, но не фарса. – Это ведь и мое жилье тоже.
– Согласна, – сказала Людмила Михайловна. – Сережа, подай мне, пожалуйста, пальто. Мы уходим.
И тогда Сережа сказал:
– Может, уйдет кто-нибудь другой?
– Да вы что – рехнулись? – не сдержался Николай Филиппович. – Да как же так? За что же это? И гоните? За что все-таки? За то, что один человек полюбил другого человека? То есть не за преступление наказываете, а за любовь. Почему? Опомнитесь! – бормотал Николай Филиппович, но Людмила Михайловна перебила его:
– Сережа, этот человек не расслышал, что ты сказал. Повтори, пожалуйста.
И тогда Сережа, надо ведь, повторил:
– Я говорю – может, уйдет кто-нибудь другой?
Николай Филиппович вздрогнул, даже отступил на несколько шагов и взглянул на сына – Сергей в этот раз выдержал взгляд отца, и Николай Филиппович был потрясен – какие жесткие и неуступчивые глаза были у сына. Таких глаз у Сережи прежде никогда не было.
– То есть вы хотите сказать, что мне прямо сейчас следует взять да и уйти? – растерялся Николай Филиппович.
Ответом было молчание – да, ему прямо сейчас следует уйти.
– Сережа, помоги, пожалуйста, отцу собраться, – сказала Людмила Михайловна.
Сергей вспыхнул, конечно, эта сцена для него унизительна, и если б он сейчас сказал, да что же мы делаем, так нельзя, это же твой муж, а мой отец, то Николай Филиппович простил бы сына. Даже и обнял и пожалел бы – доброта к одному человеку не должна оборачиваться жестокостью к другому.
Впрочем, Николай Филиппович еще надеялся, что это только демонстрация, его, конечно, унижают, но не может унижение быть беспредельным, человек – не пес шелудивый, нельзя его выбрасывать за порог.
Он неторопливо достал из кладовки большую сумку, бросил в нее смену белья, белую рубашку, свитер – это только затем, чтоб заполнить сумку, а также дать жене и сыну время одуматься.
Прошел в ванную, взял электробритву, зубную щетку, защелкнул сумку, вышел в коридор и, надевая пальто, все ждал, сын сейчас скажет: «Фарс затянулся, достаточно, мама».
Но сын молчал, и Николаю Филипповичу ничего не оставалось, как выйти вон. Он хотел громко хлопнуть дверью, но передумал и тихо закрыл дверь.
Медленно спускался по лестнице – у сына есть возможность догнать его. Затем стоял у подъезда – нельзя отнимать у сына возможность исправить несправедливость, но не дождался и пошел по темному двору.
Ему видна была освещенная автобусная остановка – в круг света вдруг вышла Оленька. Николай Филиппович был уверен, что дочь не даст ему уйти, но ведь каким жалким будет выглядеть он в глазах жены и сына, подумают, что он ждал возвращения дочери. И тогда Николай Филиппович пошел в тьму двора, к детской площадке, и Оленька не заметила его.
Он не знал, куда ему идти. Потому что никому не был нужен. Можно пойти к Константиновым, они дадут ночлег, но так он подведет Машу – она подруга Людмилы Михайловны. Да и не такие уж они друзья с Константиновым, выходит, если Николаю Филипповичу стыдно признаться, что его выгнали из дому.
Нельзя даже представить, что он пойдет к Тоне – дома ее родители, и он, пожилой мужчина, заявляется, поскольку изгнан из родной семьи, – невозможно. Были сослуживцы, они дадут приют, но он ни с кем не дружен настолько, чтоб пойти в минуту трудную. Ах ты, мучительно вспомнил, а Тоне сейчас каково, он-то, пожалуй, все выдержит, но ей-то каково, он согласен был выносить тяготы не только свои, но и ее тоже, но как можно ее тяготы, ее беду переложить на себя?
И он сидел на скамейке в темном дворе и не знал, что ему делать. Это невозможное положение – человеку, у которого семья и собственная квартира, который считал, что окружен если не друзьями, то надежными приятелями, вдруг становится ясно, что никому-то он не нужен и крова у него сегодня не будет.
Николай Филиппович вспомнил только что пережитую сцену и застонал. Это ж дичь какая-то. И какое точно рассчитанное издевательство. Ставка ведь была для них беспроигрышная – мягкость Николая Филипповича: знали, что он сразу уйдет. А если б он был потверже, то и затевать игру не стали бы. Ну, на Людмилу Михайловну что ж обижаться – это у нее такая истерическая реакция на потрясение, хотя могла бы и в благородство поиграть: не можешь с негодяем находиться под одной крышей, так уйди на время к сыну, дай негодяю либо объясниться, либо подыскать временное жилье. Хорошо, вы считаете, что в дальнейшем Николай Филиппович не станет оттяпывать клок законной жилплощади, но очухаться-то ему надо. Он же покуда не пес шелудивый.
Ну ладно, Людмила Михайловна, положим, в затмении, но Сергей, Сережа! Уж у него-то затмения не было – гладкие, рассудительные слова говорил. Можно только так себе представить, что Людмила Михайловна взяла с него слово, что он во всем ее будет защищать, говорила, поди, что снова начнутся боли в сердце, если увидит этого человека, и конечно же, они уверены, что папаша приползет, побитый, и будет канючить, чтоб его простили.





![Книга Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] автора Семён Шуртаков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-povesti-243627.jpg)


