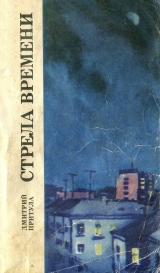
Текст книги "Стрела времени (Повесть и рассказы)"
Автор книги: Дмитрий Притула
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
– Да какие могут быть выверты – в честь дедки и назовем Николашей.
– Ну это уж лишнее, – растрогался Николай Филиппович. – Не много ли Николаев на одну семью?
– Нет, не много – в самый раз.
Они пили вино, ели картошку с мясом и вчерашний салат.
– Ах ты, мальчуган, – потрепала сына по затылку Людмила Михайловна, – нелегко тебе дался сегодняшний день. Представляю, что ты пережил.
– Да, ночью-то вызывали по делу? – вспомнил Николай Филиппович. Он очень любил рассказы Сергея о хирургических делах, Людмила Михайловна тоже любит, и Сережа, находя благодарную аудиторию, никогда от рассказов не уклоняется.
– По делу, папа. Даже по прямому моему делу. Черепно-мозговая травма. И пришлось оперировать. А это должен делать только я.
– Нет, это формальная отговорка. А нам спешить некуда. Ты давай подробности.
– Ну что – мальчик Коля катался с горки на лыжах.
– Так ведь тает все – весна.
– А Коля в лесу катался. Он упал, слегка ударился головой, сознания не терял, сломал лыжу. Шел домой и плакал, что сломал лыжу. Часов в семь лег спать. Немного рановато, но ведь устал. В первом часу ночи его мать пришла с работы и увидела, что сын тяжело дышит. А отец мальчика в этой же комнате выпивал с другом и на сына не обращал внимания. Этакие посиделки с корешком. О жизни говорили. Мать пыталась разбудить сына, но не смогла. Словом, мальчуган в полвторого поступил к Козловой, и она заподозрила внутричерепную гематому. Вы теперь грамотные после моих рассказов.
– Да уж.
– Словом, обязательно нужно трепанировать череп и удалять кровяные сгустки. Иначе учительница придет на урок, спросит, где мальчик Коля, а Коли нигде нет более. Словом, мы загрузились на четыре часа. Ну, пока готовили, да пока после операции суетились да записывали, к девяти как раз и уложились.
– И жив мальчик?
– Пока жив. Ему должно повезти. Хотя нужен специальный уход, а у нас какой же уход? Но повезти должно.
– Бедный мальчик. – Это уже Людмила Михайловна сына жалела. – Как же ты разрывался – и за Свету душа болит, и за больного.
– А я не разрывался. Я, когда вплыл под лампу над операционным столом, про Свету позабыл. Потом даже удивлялся, как это я начисто забыл. Только вы уж ей не говорите. Вспомнил, когда удалил кровь и мозг запульсировал. Я попросил нашего невропатолога Галину Анатольевну сходить в ординаторскую и позвонить, как там наши дела. Как же они все на меня уставились, когда узнали, что Света в родильном отделении. Теперь пойдут байки о хирурге со стальными нервами. А это не нервы, а просто слабая память. Мне-то ведь следовало на день устраниться от дел, но мальчик не виноват, что, кроме меня, никто в районе не обучен обращению с битыми черепами. Как говорится, череп – не тарелка. Ну, я и отключился. Уже помылся, чувствую – готов, подобран, даже умен, честное слово. И вот я, значит, перехожу из предоперационной к столу и чувствую несколько мгновений, что ничего нет важнее на свете моих пальцев. Я сказал Коле: «Терпи, мальчуган», – словно он мог меня слышать. Я думаю, все хирурги – немного пижоны. И я отключился. И забыл про Свету.
– Да уж мы ей об этом не скажем, – сказала Людмила Михайловна. – И верно, Нечаев, поколение наших детей – поколение профессионалов. Холоднее голова, горячее сердце, а? Умелые руки, а? Всегда чуть-чуть себе на уме, а?
– Тогда я расскажу, что сделал, когда узнал, что стал отцом. Ну, что, по-твоему, папа?
– Прыгал? Плясал? Выпил?
– Нет, я пошел к главному врачу просить жилье.
– Не может быть! – сказала Людмила Михайловна.
– Правда, мама.
– А я не верю.
– Точно говорю. Ну, полчаса я посидел на улице, привыкая к новому состоянию. Хотя лгу – нового состояния я не чувствую и сейчас. Просто я был рад, что для Светы все позади. Весь день мне ее было очень жалко. И я боялся за нее, а не за младенца. Я был совершенно пуст, когда сидел у забора во дворе больницы. Ну, а когда эта, что ли, обморочная пустота прошла, я встал и пошел к главному врачу.
– А до завтрашнего дня подождать нельзя было? – спросил Николай Филиппович.
– Когда я провожал Свету, она взяла с меня слово, что как только появится младенец, я позабочусь о жилье. Ведь она права, мама, – ты устанешь от внука. А устраниться от забот не захочешь.
– Ты глупый, Сережа. Я и не хочу устраняться. Это ж мой внук. Неужели ты сомневаешься в моей будущей любви к нему?
– Я не сомневаюсь. А только тебя следует хоть немного щадить. Словом, я обещал Свете и пошел.
– И выжал?
– Выжал. Когда я устраивался на работу, он обещал мне жилье, вот я и попросил выполнить обещанное. Я даже не просил, а требовал.
– Ну уж – требовал, – сказала Людмила Михайловна.
– Правда – требовал. А он привык, что я прошу. И удивился. И через несколько месяцев жилье даст. Надо будет к Астапову, мэру города, сходить. Вы, говорит, как-то уж ловко удалили аппендикс его жене, он, говорит, хорошо к вам относится.
– Да ты, Сережа, деловым человеком становишься. Гляди, Нечаев, у сына зубы начали появляться.
– А это – сознание нового положения, – сказал Сережа. – Давайте по рюмке за внука вашего, да за его дедку и бабку. Сегодня меня не тронут – так сговорились.
– Да, за внука и за его мамашу, ну и за бабку с дедкой, – подхватил Николай Филиппович.
Глава 2
Лето
В начале августа Антонина Андреевна заболела, и Николай Филиппович, зайдя в отдел кадров, узнал ее адрес – следует кому-нибудь из группы навестить заболевшую сотрудницу.
Он очень нервничал, Николай Филиппович, идя по Пионерской улице, знал, что ему ходить не следует, нужно было послать кого-нибудь из подчиненных, однако ему очень хотелось увидеть Антонину Андреевну, он скучал по ней те пять дней, что она болела. Так и говорил себе – ходить ни в коем случае не следует, но оправдывался – только на минуту забежит и узнает, не нужна ли какая помощь.
Да, Антонина Андреевна работает уже четыре месяца. Первые две недели Николай Филиппович как бы не замечал ее. Они сидели за одним столом, однако общих служебных дел у них не было. Антонина Андреевна часто ездила в Губино на машинную станцию, иногда к ней приходили люди из других отделов, чтоб дать задание, и тогда они выходили в коридор либо в другое помещение.
Иногда она отпрашивалась уйти пораньше, и Николай Филиппович, как и всем сотрудникам, разрешал уйти.
Он только спрашивал:
– Что-нибудь случилось? – В вопросе всегда заключался тот смысл, что если случилась неприятность, то он, Николай Филиппович, готов помочь, если сможет.
– Родительское собрание.
– А какой класс?
– Первый.
– Сын?
– Да, сын.
Но однажды что-то повернулось в душе Николая Филипповича, вернее, он считал, что повернулось не в нем, а в природе, солнце ли начало припекать и в помещении становилось душновато, – словом, однажды, как и всегда, Николай Филиппович и Антонина Андреевна сидели друг против друга. Она обрабатывала перфокарты, он составлял какой-то документик, не то чтобы важный документик, но, как всякий документик, требующий внимания, а вот как раз сосредоточиться-то Николай Филиппович и не мог. Он пытался понять, что ж это его отвлекает от дела, и понять не мог, хотел собрать ускользающую волю к работе, и не сумел, он читал бумаги, но все слова и цифры проскальзывали мимо, ничем не заинтересовав Николая Филипповича. И тут он почувствовал легкий запах – осень ли ранняя такой запах дает, цветы ли неизвестные, – легкий, едва доносимый ветерком запах; тут он все понял и сказал:
– Какие у вас сегодня духи замечательные, Антонина Андреевна. Тонкие, должен сказать, духи.
Она подняла глаза от перфокарт и удивленно взглянула на него.
– У вас сегодня свидание? – И даже краской пошел от бездарности вопроса.
– Нет, еду после работы в театр.
– А что будете смотреть? – Это уж так, чтоб скрыть смущение. Ему было все равно, куда она едет.
– «История лошади».
Да, он впервые посмотрел внимательно на Антонину Андреевну и обнаружил, что она хороша, она даже красива – что-то трепещущее, незастоявшееся было в ее лице. Ах нет, не в том дело, вдруг осознал Николай Филиппович, – он еще в день первого ее прихода заметил, что новая сотрудница мила, но старался всячески не обращать на нее внимания – в самом деле, что ему до ее красоты и молодости, просто сослуживцы сидят за одним столом, друг другу не мешают, вот и хорошо.
И потом – какая-то горечь постоянно была в лице Антонины Андреевны; да и как иначе, если человек недавно развелся, она же, поди, болезнь души пережила, вполне ощутила быт переломленный, так что и сейчас не до конца переболела. Оттого-то и горечь, оттого-то и есть в Антонине Андреевне нечто, мешающее постороннему человеку подступать к ней с привычными разговорами о погоде, кино, телепередачах.
А тут они посмотрели друг другу в глаза внимательно. Видно, что-то происходило с лицом Николая Филипповича, смягчилось ли оно, стало, может, жалким.
Взаимный этот взгляд длился несколько секунд, но Николай Филиппович понял: все! Антонина Андреевна для него не просто сотрудница, каких много, но сотрудница, может быть, единственная, потому что ей нужны, возможно, его участие и помощь. То, что она мила или там красива, большого значения не имело – ее красота по-прежнему никак не относилась к Николаю Филипповичу.
Он сделал усилие и погасил взгляд, тогда погасила взгляд и она.
Нескольких секунд было достаточно, чтоб оба поняли – они имеют право разговаривать не только о делах, но и о вещах посторонних.
Остаток дня Николая Филипповича не покидало веселое воодушевление – ему, выходит, интересно жить на свете, он не вполне стар, если может в ком-нибудь принимать участие, если духи, скажем, «Нарцисс» может отличить от «Тройного» одеколона и даже от «Шипра»; он и вечером был весел, словно бы что-то должно было с ним произойти, некие радостные события – сына ли похвалят в местной газете, внук ли особенно ясно улыбнется деду, выделив его из прочих родственников, пробьется ли морковоуборочная машина – было ожидание только радостное. А оно подвести не может.
Весело шел он на работу и следующим утром, все в природе было свежо, бодро, умыто, и сам себе Николай Филиппович казался человеком еще молодым, почти юным, кого не покидает веселье и надежда на радостные перемены.
Он пришел на работу чуть раньше положенного времени – обычно себе этого баловства не позволяет и приходит точно по звонку, – он сел за стол и вдруг понял, что нетерпеливо ожидает Антонину Андреевну.
И вот звонок, и вот она, Антонина Андреевна, и общее «здравствуйте», и улыбнулась ему – как же она молода, открыта, эта улыбка.
А он оглядел всю группу – вот все на месте, и, когда взгляд скользил от дальнего угла к бумагам на столе, выхватил из общей утренней суеты Антонину Андреевну и чуть остановился на ней, затем легкая улыбка: «Я ждал вас, здравствуйте», – и улыбка, легкая же, в ответ: «Я знала, здравствуйте».
И тогда Николай Филиппович тихо спросил:
– Ну, как вы съездили, Антонина Андреевна? Весело ли вам было? – Он-то хотел, чтоб голос его был спокойным, отечески, сказать, заботливым, но не сумел скрыть волнения – каким-то встревоженным, даже чуть надсадным был его голос.
– Хорошо съездила. Было весело, – ответила она и снова улыбнулась. То вновь была мимолетная, легкокрылая улыбка, но Николай Филиппович многое успел в ней прочесть: она, Антонина Андреевна, рада, что он помнит о сотруднице, что сидит с ним за одним столом, и ей его внимание приятно – спасибо.
А у него-то от этой улыбки сердце как-то гулко ударило и затем сладковато заныло, как бывает в предчувствии вернейшей беды, и уж казалось Николаю Филипповичу, что вот так же заныло сердце, когда он впервые увидел Антонину Андреевну – а не было этого, взглядом посторонним скользнул по ней тогда – да ладно, вот тогда не было, а сейчас есть, и это ростки беды будущей, но ведь как же одинока она, Антонина Андреевна, как не защищена, если даже малое внимание ей дорого – крепко, видать, судьба ее ударила.
Когда же на следующий день место Антонины Андреевны оказалось пустым – ее срочно вызвали на станцию в Губино, – то Николай Филиппович ясно понял, что дело его плохо, и ему мучительно было признаваться, что он, похоже, того, как бы сказать, отчасти и влюблен в новую сотрудницу.
И какая же была маета в душе его – вот, выходит, существование его в этот день на работе как бы и смысла не имеет, нужно было сосредоточиться, но сосредоточиться он не мог, так как мешало раздражение – не могли, видишь ли, вчера сказать, что Антонины Андреевны не будет, он с утра бы как-то приготовился, а то майся тут в раздражении, он даже негодовал на тех сотрудников, кто загрузил Антонину Андреевну срочной работой – тоже дудари нашлись, без ЭВМ голова уже не варит, так вот вам – не сварганили ничего значительного до ЭВМ, не сварганите и с машиной – вот вам слово вконец рассерженного человека.
И уже день докатывался до конца в изнеможении, в своем ничтожестве, так бы и доскрипел до конца, как вдруг под самый уже занавес в комнату вошла Антонина Андреевна – она забежала оставить в столе тетрадку с результатами, – и то был подарок бездарно прожитого дня, и улыбка радости и торжества взорвалась на лице Николая Филипповича – ага! ждал и дождался! Он старался погасить улыбку, но не сумел, вовсе ошалев от радости.
И знал, что Антонина Андреевна догадалась, что он томился без нее; и в глазах его успела понять упрек – что ж это она его не предупредила, – и сказала в свое оправдание:
– Вот срочно вызвали.
– Да, да, конечно. Но пришли. И хорошо, – растерянно забормотал Николай Филиппович.
И кровь прилила к лицу – это уже от стыда, да что же это он, словно провинциальный повеса, словно яблоко-перестарок, трепещет и волнение не в силах скрыть.
И тогда Николай Филиппович сел на стул и ладонями подпер щеки, обозначив, что отключился для работы, а шелестела в ушах кровь, а сладковато ныло сердце, и безнадежно было сознавать непоправимость поворотов судьбы.
Потянулись мучительные для Николая Филипповича дни. Да, ему было мучительно и стыдно. Еще бы: пожилой человек, примерный семьянин, и вот на закате лет влюбился в молодую сотрудницу – какое унизительное положение. И ничего не мог поделать с собой, и утешал себя, что это не влюбленность вовсе, а просто нежность, так что стоило ему взглянуть на Антонину Андреевну либо вспомнить о ней – и томительная нежность заливала его сердце.
Да, она молода и красива, а что он-то в ее глазах? Да хоть бы и ничто – пожилой, даже стареющий конструктор, звезд с неба не хватавший, средней внешности и среднего же ума.
У него и так надежд не было, а ведь еще понимать следует, что Антонина Андреевна, после недавнего распада семьи в смуте находится, в болезни.
И потому все силы следовало употребить на то, чтоб Антонина Андреевна не заметила его влюбленности. Потому что иначе беда, кто он тогда – селадон, пожилой волокита с двусмысленными намеками, тьфу ты, даже представить себе невозможно, что она узнает про его влюбленность.
И вместе с тем каждый день следовало ходить на работу и, как известно, сидеть с Антониной Андреевной за одним столом – невозможное испытание.
Одно спасало: Николай Филиппович, как ему казалось, нашел верный тон в разговоре с Антониной Андреевной – это был, что ли, отечески-покровительственный тон, Николаю Филипповичу удавалось прятать свое отношение к Антонине Андреевне и вместе с тем был выход для его нежности.
Он видел, что ей горько живется, что она не защищена, и он постоянно жалел ее.
– Вы поработайте там до обеда и уже не приходите сюда, – говорил он мягко, стараясь, чтоб в голосе его не было напряженности. – Вот мой вам совет: погуляйте по губинскому парку, он ведь очень красив. Свежий воздух всем полезен. Вы, я надеюсь, не исключение.
И когда Антонина Андреевна, улыбнувшись, кивала головой, он понимал, что ей приятен этот отеческий тон, что она слаба и ей нравится, что пожилой начальник ненавязчиво опекает ее, да и потом он, надеяться следует, деликатен. Конечно, она замечала, что с ней он говорит мягче, чем с прочими подчиненными, конечно, замечала она, входя утром в комнату и здороваясь с Николаем Филипповичем, что он излишне рад ее приходу, что в лице его, в глазах главным образом, есть некое выражение, лишнее для просто начальника.
Но да ведь это же не вязкость, не двусмысленность, а это просто нежность, а она никого не может задеть, напротив того, она в силах отогреть любое сердце.
Однажды Антонина Андреевна спросила:
– Хирург Нечаев ваш родственник или однофамилец?
– Сын.
– Он оперировал мою мать.
– А вы его самого знаете?
– Восемь лет учились в соседних классах. Что у него нового?
– А сын у него. Мой внук, то есть. В мою честь и назван. – И Николай Филиппович принялся рассказывать про внука – и как он весело смеется во сне, и как любит хватать деда за нос, но это ему не всегда удается – нос у деда картошечкой, что и говорить, – и какие у внука нежнейшие прозрачные мозоли на губах.
Николай Филиппович ничего смешного не рассказывал, так, в своей обычной манере подтрунивал над собой, и неожиданно услышал смех Антонины Андреевны, то был нежнейший смех, легкий в беззаботности смех – а прежде она никогда не смеялась, и Николай Филиппович, счастливый оттого, что сумел развеселить Антонину Андреевну, потерял контроль над собой и посмотрел на Антонину Андреевну так, словно не было никого вокруг, словно и не нужно скрывать влюбленность, и вдруг она увидела его глаза – как он любовался ею, какая же нежность была в нем; да, она все поняла, и осекся смех, и неловкое молчание возникло, и уж до конца дня они друг с другом не разговаривали. Но напряженность была: он понимал, что Антонина Андреевна наверняка знает его тайну, она же понимала, что не может скрыть, что обожглась о его взгляд.
И весь вечер нервничал Николай Филиппович, что ждет его завтра, тайны ведь больше не существует, и как ему, да и ей, держаться дальше.
А утром нетерпеливое ожидание ее прихода, и вот стремительно идет она от двери к столу, и вот улыбка, направленная ко всем, для него же улыбка отдельная – рада вас видеть, рада, что ничего не изменилось.
И тогда он написал на листе бумаги. «Сегодня у рынка продавали хорошие цветы. Хотел купить и не осмелился», – и подал ей лист.
А сам замер – вот как она поступит?
Антонина Андреевна ответила на бумаге: «Будем считать, что вы их подарили». Николай Филиппович облегченно вздохнул.
Началось время обмена записками – введенная Николаем Филипповичем игра: разговаривать шепотом было неловко; говорить же громко, как прочие сослуживцы, не хотелось – между ними существовала некая тайна, и допускать к ней посторонних людей никак нельзя.
Он брал лист, склонялся над ним, как бы задумывался, постороннему оку могло показаться, что человек выводит сложную формулу, задачу жизни решает, а Николай Филиппович писал в это время: «Мне очень нравится ваша кофточка» или «Я иду в столовую пораньше. Занять на вас место?» – и осторожно подвигал бумагу Антонине Андреевне, та тоже задумывалась, со стороны могло показаться, что человек решает новую программу, – и лишь потом отвечала.
Эта игра им нравилась. Хотя как сказать – игра, для нее, возможно, игра, для Николая Филипповича – хоть малый шанс удержать ее внимание.
«Вы мне сегодня снились».
«Я писала ответ на вашу записку?»
«Представьте себе – да. И я проснулся счастливым».
Так и текла их жизнь, доверенная запискам.
Вот она говорит, что на полдня уезжает в Губино. Он рисует плачущего человечка и подает ей его.
– А завтра я с утра на месте.
И он подает ей человечка, который счастливо улыбается. А в углу листа светит солнце.
Николай Филиппович был так увлечен Антониной Андреевной, что она казалась ему наверняка красивой. Словно душа Антонины Андреевны постоянно зыбится, трепещет, и потому лицо ее всякое мгновение меняется, И следующее мгновение никак не повторяет прошедшее, и смена настроений неуловима. Постоянно меняются и ее глаза – они-то и придают лицу загадочность – то зеленоватые, то светло-карие; и странно они как-то посажены – они слегка раскосы, но эта раскосость неуловима – то, видно, обычный астигматизм, а настораживает, в печаль погружает, в тревогу.
Иногда Николай Филиппович задумывался, а что ж это дальше будет, во что перейти может записочная эта игра, но от соображений по дальнейшему течению отмахивался, потому что какое еще дальнейшее может быть, какое такое может существовать будущее, когда и настоящее весело и загадочно.
Николай Филиппович теперь носил только светлые рубашки – белые и голубые, отказавшись от темных и клетчатых; светлые рубашки, принято считать, молодят человека; каждый день он был тщательно выбрит: бреется Николай Филиппович английскими и польскими лезвиями, которые уж как-то добывает Людмила Михайловна, и он старается растянуть пользование одним лезвием на семь и десять раз, а тут расщедрился, стал пользоваться одним лезвием только три раза, душа плачет, зато гладок каждое утро, словно младенец. Да, он был бодр, молод, юн – так юн, каким не был даже в молодости.
Людмила Михайловна однажды заметила, что Николай Филиппович стал с вниманием относиться к своей одежде – эту рубашку он не наденет, она темна, эти брюки можно надеть, только отпарив их, – и она сказала:
– Что-то ты, Нечаев, начал по утрам перышки чистить.
– А как иначе, – сказал он. – Молодая женщина сидит со мной за одним столом. Неловко же – я ведь не вполне старик.
– Не вполне. Ты еще вовсю гусар. – И Людмила Михайловна засмеялась. Ей нравилось, что ради молодой сотрудницы муж старается казаться моложе, подобраннее – слабость вполне простительная для семейного мужчины его возраста. Да и повеселел он заметно. Да и на работу ходит охотно, без привычных стонов и отговорок.
Действительно, работа – радость, труд – удовольствие. Идет на работу и знает, что сейчас Антонина Андреевна придет и он напишет ей что-нибудь смешное или похвалит ее.
Так месяц и протек в записках, а хоть бы и вся жизнь протекла, да и то сказать – не слишком ли всерьез мы ее берем, не слишком ли круто себя заворачиваем в нее. А ну как повеселее смотреть да не видеть себя при ней слишком уж подробно, ты же бродяжка подвернувшийся; может, задержишься здесь на миг лишний, а может, и нет. Да веселье при этом не утрать, да и смотри на себя постоянно как на существо не протяжное, но случайное, да и глядишь – во многие колдобины не завалишься, излишних слез не прольешь. Не в знании, нет, но в излишней серьезности к себе и струению окружающему печаль великая – вот это да, вот это, пожалуй, действительно верно. Так месяц протек, а в прошлую как раз пятницу неловкость некая вышла, забвение окружающего, затмение зрения: сидел Николай Филиппович за столом, делом каким-то занимался, вялым делом вяло занимался, и духота уж донимала, а он, чтоб сосредоточиться, откинулся на спинку стула, чуть протянув ноги под столом, и вдруг колено его встретило преграду какую-то, то есть встретило эту преграду если и не помимо желания – желание такое, возможно, и было, – а вот воли к его осуществлению не было вовсе, и Николай Филиппович, осознав, что эта преграда – колено Антонины Андреевны, замер, окаменел даже: отдернуть колено неловко, так держать тоже неловко, и он, все же обозначив задержкой, что касание это не случайное, но намеренное, стал ждать, как поступит Антонина Андреевна, но она тоже была в растерянности и сидела неподвижно. Тогда Николай Филиппович, неожиданной отвагой полон, еще чуть отклонился на спинку стула и сжал эту преграду своими коленями, ожидая решения Антонины Андреевны, но она снова не шелохнулась, однако Николай Филиппович почувствовал, что тело ее напряглось.
Смотреть друг другу в глаза они не отваживались, смотрели перед собой – он в лист бумаги, она в открытую тетрадку; уж как-то протекала жизнь вокруг – никто, к счастью, не входил в комнату, больше всего боялись взглянуть друг на друга – тогда все! Фарс, интрижка, а так – тайна взаимного касания, сидели, окаменев, и уж размылось окружающее, лишь звон в голове, лишь истома в сердце, забыли, где они и что они, а ведь сотрудники могут заметить это касание, да и человек, бегущий по коридору из курительной комнаты, может увидеть сквозь стеклянную дверь, как колени Николая Филипповича сжимают колено сотрудницы.
Сколько продолжалось это плавание во взаимном касании, сказать трудно, час, поди, никак не меньше. Их спас звонок.
Николай Филиппович выдержал паузу, когда раздался звонок, и через некоторое время встал из-за стола – дню конец, с установленным порядком не поспоришь. Так они пережили окаменение – окаменение взаимное, и тут у Николая Филипповича сомнений не было. Это было в прошлую пятницу. А в понедельник Антонина Андреевна не вышла на работу.
Был шестой час, жара не спадала, асфальт под ногами плавился, воздух был отравлен дымом, выбрасываемым фабрикой «Восход», мимо фабрики и прошел Николай Филиппович, за низким забором виден был фабричный двор – транспортеры, автомобили, мотки проволоки. Фабричный двор кончился, потянулся пустырь, а за ним стоял деревянный двухэтажный дом, здесь вот, по номеру судя, и жила Антонина Андреевна.
Как же нервничал Николай Филиппович, как же сердце его надрывно колотилось. Прежде чем войти в дом, он напился у колонки. Напрасно отправился он разыскивать свою сотрудницу, хотя ведь это вполне ловко – он заботливый начальник, не стал передоверять дело представителям местного комитета, это он как бы оправдывался перед Антониной Андреевной и ее родителями, но перед собой-то ему было неловко. Однако ж преодолел страх и вошел в подъезд.
А поднимаясь по лестнице, все удивлялся – вот дом довольно длинный, а подъезд всего один, как же это люди устроились с размещением квартир.
Он нажал кнопку звонка, вышла пожилая женщина в драном халате, и когда Николай Филиппович назвал Антонину Андреевну, женщина удивилась, а уж глазам открылся длинный, как раз в полдома, коридор и бесчисленные двери. А, так вам, значит, Тоню, соображала женщина и все вопросительно смотрела на Николая Филипповича – зачем Тоня понадобилась незнакомому мужчине.
– С работы, – объяснил Николай Филиппович.
– До конца! – бросила женщина и пронзила пальцем уже отравленный приготовлением ужина воздух коридора.
Николай Филиппович пошел по коридору, но он не мог знать, налево ему идти или направо, и постучал в дверь направо.
Услышав разрешение, отворил дверь – молодая женщина кормила грудью младенца. Женщину не смутил приход незнакомого мужчины, она не стала спрашивать, что ему угодно, не стала и отворачиваться либо прикрываться кофточкой, нет, свободной рукой она показала на дверь напротив.
Туда Николай Филиппович и вошел.
На старом диване, сложив руки на коленях, сидела Антонина Андреевна. Она удивленно смотрела на Николая Филипповича.
– Здравствуйте, – сказал он.
Она встала с дивана, он подошел к ней и взял в руки ее пальцы – они были прохладны и сухи. Молча смотрел он в ее лицо – она утомлена болезнью, лицо бледно, под глазами легкие синячки, видны мелкие морщинки на лбу, она неприбрана – застиранный желтый халатик, волосы непричесаны, но сейчас особенно заныло сердце Николая Филипповича, сейчас, ослабленная болезнью, побледневшая, с болячкой над верхней губой, она казалась ему еще прекраснее. Сейчас в слабости, в сиротской этой комнате она была ему понятней и, следовательно, ближе.
– Скучал, – объяснил он свой приход.
– Я догадывалась, что вы придете. Даже была уверена. Но вот – неприбрана.
– А это вам цветы и яблоки. А родители ваши где?
– Мама на кухне, она, верно, вас и впустила, а отец дежурит.
Он знал, что ее отец – машинист на железной дороге.
– А сын из пионерлагеря не вернулся?
– Нет, через два дня вернется.
– Да, что с вами? – спохватился Николай Филиппович.
– Ангина.
– А я думал, только у детей бывает. А вы как ребенок.
– Мне нельзя есть мороженое, а я в субботу поела. И все – ангина. Но сегодня последний день. В понедельник на работу.
Он привык видеть ее в туфлях на высоком каблуке, сейчас же в шлепанцах она казалась маленькой; да, у нее ангина, и Николаю Филипповичу вовсе стало жалко Антонину Андреевну, ему хотелось утешить ее, что ли, по голове погладить.
– На улице жарко?
– Жарко.
– Не согласитесь ли вывести меня в парк?
– Конечно. А можно ли вам?
– Парк вот он – через дорогу.
– Да, конечно, – обрадовался Николай Филиппович.
– Тогда вы подождите меня на крыльце. Или лучше подождите меня у лестницы дворца. Там сосна повалена.
Николай Филиппович смотрел вдаль, на залив – день еще был сказочно длинен, и солнце сияло почти над головой, залив слепил глаза, парк был безлюден.
Нетерпеливо ждал, когда в парк войдет Антонина Андреевна. И когда она появилась, то снова заныло сердце Николая Филипповича. Однако как быстро женщины умеют меняться: легкое голубое платье, белые туфли, легкий порывистый шаг – это та Антонина Андреевна, которую он привык видеть ежедневно, и он бросился ей навстречу, да, несколько минут – и перемена, и не было у Николая Филипповича жалости к ней, а только восхищение – ведь как же она красива.
Нетерпеливо он сжал ее ладонь – ждал, скучал пять дней – и потянул ее руки книзу, так что их плечи касались.
Они пошли по аллее, шли торопливо, он не выпускал ее руку, она и не убирала ее.
Он шел, неестественно выпрямив спину.
– Залив, – сказал он.
Она кивнула.
Парк был отделен от шоссе старинной решеткой, за решеткой между парком и шоссе росли старые деревья.
Они вышли за калитку и стали над шоссе.
Он повернулся к Антонине Андреевне, чуть склонясь, чтоб глаза были вровень с ее глазами.
– Скучал.
– Да.
Всего больше он хотел сейчас поцеловать ее – было оглушение, забвение окружающего, однако переступить установленный барьер не было отваги. А была боязнь неловкости, даже стыда – ах, не по возрасту игру он затевает. Но ведь как скучал, как надрывно колотилось сердце, когда шел к ней. Но нет, нельзя распускаться, как потом сидеть за одним столом, в глаза смотреть друг другу – невозможно.
И снова вышли в парк и побрели по аллее вовсе отдельно друг от друга. Шли молча. Николай Филиппович брел, словно оглушенный, – нет, нельзя, потеряют они что-то, совсем утратят, он не может так рисковать – совсем потерять ее из-за того, что не в силах погасить свои желания – нет, это невозможно.
А уже пошли по тропинке между старыми дубами, Николай Филиппович даже ни разу не оглянулся – да поспевает ли Антонина Андреевна за ним, чувствовал, поспевает; она, конечно, прочла его желание и не покинет покуда, иначе выйдет неловкость непоправимая.
И вдруг словно сильный толчок был изнутри – он внезапно остановился и повернулся стремительно.
– Но ведь так скучал, и сердце рвалось, не мог дождаться, пока вы придете. Словно оглушение у меня, бред, что ли. Голова как налитая. Чужой огромный шар на плечах. Гулкий, должен сказать, шар. Как в бреду.







