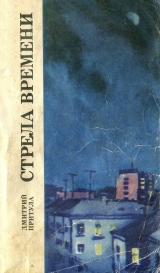
Текст книги "Стрела времени (Повесть и рассказы)"
Автор книги: Дмитрий Притула
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Люба привычно села на мотоцикл, поправила свою беличью шапку, обняла мичмана за шею, а он поднял очки на лоб и повернул голову к Любе, чтоб заглянуть в ее глаза.
А она-то, видимо, этого и ждала – лицо ее сияло восторгом. Сомневаться не приходилось – случись что-либо с этим мотоциклистом, и Люба тоже жить не станет, потому что он один такой вот мотоциклист, а прежняя жизнь невозможна более, Люба теперь пробудилась и иначе жить не станет. Она покрепче обняла своего мичмана за шею, прижалась щекой к шершавой шинели.
А Павлуша стоял у щита трансагентства и потерянно смотрел, как проплыл мимо мотоцикл и проплыло счастливое лицо Любы. Мотоцикл свернул влево, и для Павлуши все было кончено.
Сомнений не оставалось – мотоциклист приедет за Любой раз и другой и увезет ее куда-либо далеко от родительского дома.
Да и точно – когда через месяц Павлуша зашел в лавку, там работала другая девушка. И когда Павлуша осмелился спросить, где Люба, девушка ответила, что Люба вышла замуж и уехала куда-то под Калининград с надеждами на дальнейшее счастье.
Очень уж ждал Павлуша прихода настоящей весны, когда можно будет спрятаться в лодке, подсластить горечь удачной работой, и она пришла, настоящая весна, распорола теплым ножом морозный воздух, в несколько дней сошел снег, с тротуаров и мостовых начал подниматься голубоватый пар, набухли и приготовились взорваться почки, по дворам сгребали в кучи накопившийся за год мусор, и тягучий дым костров обволакивал город, скашивая души к печалям, а глаза к слезам.
После праздничного подъема, демонстраций и фейерверка Павлуша засел в лодке, чтобы не отрываться от дела, пока за месяц-другой не добьет его.
Так-то говоря, смысла в его работе не было. Брался он за дело ради Любы, теперь же, когда не осталось надежд когда-либо увидеть ее, можно было и не стараться, потому что как ни сделай лодку, все сойдет, но Павлуша постоянно помнил, что работает человек не для себя, а для другого человека, и тому человеку безразлично, грустно тебе или весело, болен ты или здоров, – ему нужна хорошая вещь, ты ее обещал – и делай.
Так утешал себя Павлуша.
Но самое главное – работал он не так даже для будущего хозяина лодки, как для себя самого – больше всего он боялся сейчас остаться без дела, то есть быть предоставленным самому себе.
Павлуша не обижался на Любу – что ж обижаться, если она полюбила другого человека.
И подошли протяжные майские вечера, когда уже не надо жечь лампу. И с радостью Павлуша видел, что дело продвигается хорошо. Он постарался прошлой осенью, прихватил время почти до первого снега, зато теперь осталась только внутренняя отделка – размещение коек, столиков, ящиков в каюте – работа немалая, но привычная.
В конце мая он уже поставил койки и мастерил столик между ними. Тут Павлуша убедился, что ему придется маленько посоображать, потому что место нужно экономить. И столик должен быть таким, чтоб на нем можно было развернуть большую карту, а также использовать его как добавочное спальное место, ну а тумба может одновременно служить и посудным шкафом.
Потом он сооружал столик с углублениями для газовой плитки, а под плиткой устроил кухонный шкаф.
Сделал Павлуша шкафчики и ящички для инструментов и запасных частей. Можно было бы поставить один шкаф – и работы меньше, да и при Павлушиных руках он неплохо бы смотрелся, но Павлуша подумал так, что из одного шкафа хозяева скорехонько сделают свалку, где ничего не найдешь, – работы было больше, зато ящики удобно разместились.
Боже мой, субботнее летнее утро, время томительное, блаженное, все спят, видят сны последние. Солнце только встало, залило дома ярко-розовым светом, тишина повсеместная, лишь птицы оживились в садике. Дали необъятные, солнце и рассвет размыли пространства, постепенно прогревается зябкое утро, вот уже и жара к горлу подплывает, вот и пиджачок рабочий можно снять, а вот и оживление двора началось: побежали за продуктами нетерпеливые хозяйки, сгущается тепло, вот уже можно и рубашку снять. Белое блаженное время. Всяк ищет своих удовольствий – кому лес, кому залив, а Павлуше на весь день лодка отпущена, и это выходит, главное для него удовольствие.
На душе несуетливо, и мысли протекают в такт движению рук. Павлуше не было скучно с самим собой, потому что приходилось все время что-либо прикидывать, он даже и вслух рассуждал – я его так, а он эдак, а тогда если я его так, то уж он точно вот эдак, – и относилось это, скажем, к размещению шкафчиков над койками – разве не интересная загадка? И вот когда шкафчики разместились удобно, не занимая лишнего места, но и не давая пустот – разве это не радость, разве не удовольствие? Боже мой, да если что-нибудь эдакое прикинул, а получилось лучше, чем ожидал, так ли много радостей, больших, чем эта вот радость?
Павлуша с сожалением понимал, что работа подходит к концу. Так уж все скрутилось за последний год, что работа в лодке была главным – и единственным – удовольствием. И прерывать это удовольствие ему никак не хотелось. Но ведь все на свете имеет конец – от маеты сердечной до жизни человеческой включительно.
И однажды Павлуша понял, что катер готов к спуску, что получился он удачным. Как катер поведет себя на воде, можно было только догадываться, что он красив и удобен для плавания – в этом, сомнений у Павлуши не было.
Конечно, делал он эту лодку из-за отца, чтоб его выручить, – все так. Но кроме того, начало пробуждаться в нем и достоинство мастера: вот вы, кап-два Мамзин с недоверием, с небрежением даже посмотрели на меня, когда я в дело ввязывался, а теперь – что же – любопытно будет посмотреть на выражение вашего лица, когда катер готов, когда все притерто и сияет на должном месте. Так что в следующий раз не глядите пренебрежительно на человека, которого вы знать не знаете, иначе может случиться, что вы и оконфузитесь. Ну разве не стоит трудиться ради торжества такого?
И чтоб добить Мамзина, Павлуша из двух ящиков и стекловаты сделал термос – в дождливую погоду горячая пища никому не помешает.
И еще одно утешение теплилось в Павлуше. Когда он сразит Мамзина, ведь тот напишет Любе, чтоб похвастать новой лодкой, так, может, хоть на минуту, будет у Любы сожаление, что вот так и отвернулась она от Павлуши, а ведь он, нате вам, мастер, оказывается, да еще и какой. Слабое, слабое утешение, но и оно согревало Павлушу, и оно давало работе смысл.
Катер был готов, и теперь оставалось передать его хозяину, спустить на воду, услышать восторженные ахи понимающих людей да тихонько отойти в сторону, чтоб не мешать чужому плавательному счастью.
Середина июня, белые ночи близки к накалу, к мерцающему своему свечению, время лучшее, душа твоя словно бы ватой окутана, так ей беспечально и покойно, ты сидишь на ступеньках крыльца и ожидаешь вечернюю прохладу, и знаешь, что в домах люди суетятся, пот со лба утирают, и всякое мгновение чувствуешь – жизнь течет себе да течет, она сама по себе, ты же сам по себе. И в предвечерние эти часы особенно ясно понимаешь, что жизнь твоя – штука удивительная и отчаянно все-таки повезло, что ты дышишь в ней и слышишь неназойливый звон комаров. Эта радость, однако, спеленута печалью, что вот не так и много осталось видеть этот белый свет, но все вокруг так тихо, светло и спокойно, что печаль эта негорька.
Павлуша тихо сидел на камне подле своей лодки и медленно смирялся с тем, что больше к этой посудине он отношения никогда иметь не будет. Ему надо было набраться решительности и сходить домой за папашей Алексеем Игнатьевичем, чтоб тот лодку эту оценил, но решительности встать, куда-то идти и со своим привычным делом окончательно расставаться – такой решительности как раз и не было.
Но все-таки поднялся и пошел к дому. И вот удача – отец был дома, он словно бы ждал, что вот сын именно сегодня попросит принять у него лодку.
– А как же, а как же, – засуетился Алексей Игнатьевич, – уж я издалека глядел, ну красавица, ну легка, но мы ее изнутри тоже глянем, а то ведь внешность иной раз и обмануть может.
Он, все суетясь, ходил вокруг лодки и подробно осматривал каждую деталь, каждую мелочь и не мог нахвалиться. И то была высшая для Павлуши похвала.
– Ну, а теперь пойдем за Мамзиным – надо сдать лодку и кое-какие расчеты произвести.
Алексей Игнатьевич при этих словах вздрогнул, остановился и виновато посмотрел на Павлушу.
– Так ведь, Павлуша, мы уже эти расчеты закончили.
– Но лодку все равно сдать надо.
– А ты считай, что сдал ее. Вот я и есть твой судья. И говорю тебе: работа – первейший класс. И ты молодец – какую работу кончил. Я все знаю, я наблюдал – высший класс. А ведь ты еще вполне молодой. Мне такое уж и не поднять. Да и раньше бы не поднял. Вот чтобы и от души, и удобно.
– Вот и пойдем к Мамзину – пусть он все оценит: ведь все-таки для людей стараемся.
– Так ведь их нету, этих людей, сынок.
– Куда это, интересно, они могли подеваться? За прошедшие дни наводнения как будто не было.
– А они, отбыли за новыми должностями и за новой зарплатой соответственно. Что ж поделаешь, сынок, если служба у них такая? Если новую должность предложили и за нее вскорости по звезде добавят на каждое плечо.
– Ты это о ком? Не о Мамзине ли? – Павлуша никак не хотел верить, что вот и снова он промахнулся и снова проиграл.
– Вот именно о Мамзине, сынок, – с сожалением сказал Алексей Игнатьевич.
– А давно он уехал?
– Да уж две недели как укатил. Мы тогда и расчеты подвели. Я часть денег ему вернул. Он понимал, что лодка очень хороша, ему жаль с ней расставаться, но что поделаешь, если должность предложили. Это ведь и для жизни и для пенсии хорошо.
– Ну как же так, ну как же так, – все приговаривал Павлуша.
– Да что – так?
– Ну как же так – ты знал, и мне ничего не говорил. Да это же, да это же…
– Предательство, сказать хочешь? Нет, сынок, все не так. Я знать знал, но под руку кричать не стал. И вот ты довел дело до конца, и лодочка сияет, она у всех на виду, и такая работа всем заметна будет.
– Да кому заметна, кому заметна? Я же для Мамзина старался.
– Мамзин – не Мамзин, разница какая? Люди же на ней ходить будут, а не каракатицы. Да ты постой, я уж присмотрел пару людишек, вернее, они присмотрели нашу лодку, и если сойдемся в цене, то и ударим по рукам. Вот и отставной мичман Козырев к лодке примащивается, и мужик он хороший. Ты меня послушай. Я возьму, что мне положено, а остальное твое. Худо ли? А не худо. Костюм новый купишь, с друзьями повеселишься. Только сразу в новое дело не впрягайся, отдохни как следует. А то ты себя загнал, даже почернел. Так мастера не делают. Мастера рассчитывают себя на долгую жизнь. Да у тебя отпуск скоро. Так возьми путевку в дом отдыха, да поезжай куда-либо повеселись, а если встретишь хорошего человека, так и вовсе к осени деньги пригодятся.
– Нет, папа, что-то не понимаешь ты меня, – огорченно сказал Павлуша.
– Не понимаю, – согласился Алексей Игнатьевич. – И как понять, если моя жизнь уже догорает, а твоя только разбег берет. И потому я на многое сквозь пальцы смотрю, а тебе все ложится прямо на сердце. И таким манером ни одно сердце не выдержит. Ты меня слышишь, сынок?
– Слышу, – уже безразлично ответил Павлуша.
– Не надо грустить, сынок. Можно грустить только осенью, по нашим-то дождям. А летом, в тепло такое, не понимаю я тебя, Павлик. Тебе ведь до меня тридцать лет стареть. Ты, надеюсь, не о роде людском грустишь. А если об этом, так посмотри туда. – И Павлуша покорно посмотрел вдаль на подкрашенные красным солнцем верхушки сосен. – Ты правильно смотришь, Павлик, ты смотришь на закат, и ты прав, жизнь человека как этот закат – скользнуло солнце, вспыхнули верхушки – порх! – и спряталось светило. Говоришь, несправедливая жизнь, Павлуша? Но это не так. Она справедлива. Я тебе так скажу: жизнь похожа на кино, смешная ли она будет, скучная или печальная, а сеанс все равно кончится, и за твоим сеансом будет новый сеанс, потому что кинотеатру нужно план выполнять. Давай погуляем, давай в парк сходим да что-нибудь за разговором и придумаем вполне утешительное.
Но Павлуша не захотел слушать отца дальше, потому что никто сейчас не нужен был Павлуше, его не интересовали соображения ни о его собственной жизни, ни о жизни вообще. Потому что собственная жизнь была сейчас Павлуше безразлична. Когда отец сказал ему, что Мамзин уехал, в этот момент Павлушу словно бы что-то оглушило, и теперь он понимал, что его оглушило безразличие ко всему. Он не жалел времени, убитого на лодку, потому что мир, окружающий его, вдруг стал пустым и бесцветным.
Ни час перед прозрачной пеленой белоночья, ни лодка, ни оставшийся подле лодки отец – никто и ничто сейчас Павлушу не интересовало. Все было пусто. Главное – пуста была душа Павлуши. Два месяца кряду он суетился, так ли, хорошо ли получится всякая вещица, и сейчас даже удивлялся себе прежнему, глядя на того Павлушу оком равнодушным и посторонним.
Тот, прежний Павлуша, отлетевший напрочь полчаса назад, был ему сейчас смешон – глупые волнения из-за девушки, которая не замечала его, старания на работе, заботы по лучшему устройству лодки – все это сейчас было даже странно.
Год назад Павлуша пришел из армии – как надеялся на счастье впереди, но это, выходит, смешные детские надежды. Жизнь скучна и тускла.
Он побрел от города вправо вдоль обрыва, потом сел на камень и долго сидел, приучая себя к тому, что вот в дальнейшем он всегда и ко всему будет безразличен. Внизу большими ящерицами проскальзывали электрички, залив был гладким, как стол, и виден был от края до края – с белыми стенами и крепостью и фортами. Сидел Павлуша долго, уже солнце утонуло в заливе, и на горизонте от падения солнца вода стала красной, уже различимы стали в мерцающей пелене огни маяков, и вдруг Павлуша почувствовал, что на мгновение включилось в нем понимание к прежней, теперь отлетающей жизни, – но и этого мгновения достаточно было, чтоб он заметил то, чего не замечал несколько часов, – прямо под ним, если скатиться с обрыва и перейти, железную дорогу, расположилась городская стоянка лодок – были среди них плохонькие и получше, были и вовсе хорошие, но он ясно понимал, что нет среди них ни одной, которая могла бы даже приблизиться к его лодке.
И он подумал, что если отец продаст лодку отставному мичману Козыреву, то ведь Козырев, человек в морских делах, понимающий, не нахвалится на лодку – она, пожалуй, легка в ходу, прочна и удобна. Главное – она очень красива, вот поднимитесь на гору, гляньте вниз, видите, как сияет она под закатным солнцем, так что если понимающие люди будут предлагать Козыреву перепродать лодку, то он, конечно же, откажется – вряд ли Козыреву за остаток жизни удастся увидеть вторую такую лодку.
Ничто нас не разлучит
В доме Ильинской часто собирались друзья. Вечера эти они называли «культурным чаем». Иногда бывало вино, но чаще всего именно чай. Было весело – танцевали, читали стихи, пели. Самые модные пластинки того года – «Девушка играет на мандолине», «Цыган» и «Утомленное солнце». Ильинская приехала в Ленинград из Евпатории, в доме ее собирались земляки, но приглашала она также свою подругу по институту Валентину Ивановну – и ее радостно встречали: она играет на гитаре, балалайке и много знает частушек и романсов.
Ильинская несколько раз говорила Валентине Ивановне:
– Ну, как же ты не знакома с нашим Женей-моряком? Мы его еще в детстве называли Адмиралом. Он красив, но с девушками застенчив.
И вот однажды он пришел. Женя-моряк – Евгений Борисович Ефет. Молодой, стройный, черноволосый. Ему очень шла морская форма, чувствовалось, что он это знает и гордится. То был особенно веселый вечер – и пела Валентина Ивановна лучше обычного, да и с приводом Евгения Борисовича все как бы изменилось, сделалось значительнее.
Валентине Ивановне нужно было идти на Петроградскую сторону. Белые ночи ослабевали, но воздух был еще легок, и дали распахивались для глаза. Мост был пуст, позвякивали редкие трамваи, на душе, как и в окружающем воздухе, была та особая легкость, которая бывает только в пору белых ночей и отлетает с их угасанием. Но сейчас была уверенность, что легкость не покинет душу никогда. Вот Валентина Ивановна впервые видит Евгения Борисовича, но ей с ним так легко, словно она знает его много лет. Да и он справился со своей застенчивостью и, кажется, сам удивляется этому.
Она спросила Евгения Борисовича, почему его уже в школе звали Адмиралом, и он ответил, что, когда ему было восемь лет, он увидел в море эскадру, и вот все детство ушло на чтение книг о море. Дома, в Евпатории, он мастерил кораблики. И эти детские занятия ему помогли. Вот Валентина Ивановна уже могла заметить, что он заикается. А прежде заикался так сильно, что иногда вынужден был останавливаться и помогать своей речи руками. Однажды старый грек посоветовал ему даже набирать в рот камешки, он, Евгений Борисович, не знал ведь тогда, что так лечился Демосфен, да и собирался он стать не оратором, а моряком. Его «зарубила» бы любая комиссия, но он дал комиссии почитать свои тетрадки с заметками о флоте, и случилось чудо – его примяли в Высшее военно-морское училище имени Фрунзе.
А Валентина Ивановна рассказала, что приехала в Ленинград из Ардатова – это Горьковская область. Она закончила медицинский техникум, но ей всегда хотелось быть врачом, а не фельдшером. Она частенько ходила по улице Льва Толстого мимо медицинского института и с завистью смотрела на белые халаты студентов. Теперь она счастлива, что учится и что через год станет врачом, хотя это трудно, потому что вечерами приходится работать.
Когда прощались, то знали, что расстаются на короткое время…
Счастливы они были четыре года.
Ораниенбаум (ныне Ломоносов, а для моряков и старожилов – Рамбов) – город, где они прожили эти четыре года. Тогда это была пограничная зона, городок маленький, вечерами темно, въезд по пропускам. Здесь и начала Валентина Ивановна работать врачом, да здесь же, с небольшим перерывом, и проработала сорок почти лет. Деревянная поликлиника. На вызовы ходить пешком, а если вызов дальний, то вон стоит лошадка, впряженная в сани либо в пролетку. Валентина Ивановна много лет ждала, когда станет врачом, вот дождалась, она – единственный в поликлинике терапевт, и похоже, больные ею довольны.
Виделись редко, приезжал Евгений Борисович внезапно – то ли на день, то ли на несколько часов. И радость, что приехал, и неопределенность – на сколько приехал. Ждала его каждый день, жизнь тогда и складывалась из ожиданий.
«Ожидание было приятно и встречи радостны, но как же я боялась спросить, на сколько приехал. Женой моряка может быть не всякая женщина, потому что у жены моряка должна быть особая психология – главное, она должна уметь ждать. Дома Евгений Борисович бывал редко, собственно говоря, для ссор у нас и времени не оставалось».
Если приезжал на день – срывались в театр, ведь все плаванье он думал: вот приедет, и сразу в театр или на концерт Обуховой – она сейчас в Ленинграде, и это ничего, что билетов нет, не помним случая, чтоб не попали в театр, потому что морякам всегда везет.
А вот летний вечер в старинном ораниенбаумском парке. Мраморная скамья в аллее неподалеку от Китайского дворца. Парк пуст. Воздух прозрачен – волшебное время. Птицы перекликаются, уговаривая друг друга привыкнуть к свету ночи. Скамья под дубом, которому больше двухсот лет. Опасно говорить громко в такое время. Голубая Катальная горка словно бы собирается взмыть, но так и зависла в разреженном этом воздухе. Виден неподвижный залив, пространства укорочены, виден каждый дом Кронштадта, и полыхает на закате купол кронштадтского собора.
Так Валентина Ивановна и Евгений Борисович сидят на мраморной скамье под дубом и молчат. Разговоры излишни, потому что у них общее понимание – они едины, это понимание единства так остро, как никогда прежде, и никогда они не разлучатся, потому что это значит разлучиться с собой.
А вот ожидание сына. «Да, сына, потому что должен быть именно сын, потому что сын моряка тоже должен стать моряком, женщин же, как известно, на флот не берут. Более того – у нас будет много сыновей, и уж, конечно, не меньше трех, и все они станут моряками. А первенца я возьму на свой корабль, когда ему исполнится два года, и все резоны, что некому будет утирать нос и надевать штанишки, не резоны, потому что море не суша, и на море всегда можно что-то придумать».
Забегая вперед, скажем, что, когда сыну исполнилось два года, отец вынужден был признать, что два года – недостаточно взрослый возраст для постоянной жизни на корабле, и дал сыну отсрочку до пяти лет. Однако до этого времени Евгению Борисовичу дожить не удалось, потому что двадцать первого июня сорок первого года сыну исполнилось только три года.
Но что забегать вперед. Вот сыну – его звали Женей-младшим и сейчас так называют в семье – два месяца, он улыбается в пространство, а отец думает, что сын уже узнает его, и на лице отца любовь, и жалость, и страдание от жалости, и темные глаза его как бы влажнеют. Он долго не мог отважиться взять сына на руки, говоря, что боится ему что-нибудь поломать – его руки привыкли к морю и кораблю, то есть к грубой мужской работе.
Он был хорошим моряком, Евгений Борисович, но он не успел стать хорошим воспитателем своего сына. Когда этот паренек на его глазах рвал страницы редких книг по морскому делу, то у отца не хватало отваги отнять книгу и он звал на помощь мать юного нарушителя.
То ли предчувствовал отец свою собственную судьбу и все, что еще предстоит пережить именно этому мальчугану, то ли уставал от корабельных строгостей, но с сыном был мягче воска. И когда сын садился пусть даже на редкую пластинку, радовался – мальчик сообразительный, у него вкус к бельканто, а не к, простите, песне «У меня есть тоже патефончик».
Вот «Правда» от 8 февраля 1940 года, в ней указ о награждении капитан-лейтенанта Ефета Евгения Борисовича орденом Красного Знамени.
Вот фотография: в сопровождении командира корабля на борт поднимается знаменитый гость – дружеская надпись: от заслуженного артиста республики, орденоносца Н. Черкасова.
Вот Валентина Ивановна среди команды корабля за два месяца до войны. На ней темное платье с белой кружевной накидкой. Черные гладкие волосы разделены ровным пробором. Большие черные глаза. Рядом Евгений Борисович. К пуговице кителя крепится цепочка часов – много поколений моряков до него пользовались именно такими часами, и он тоже не станет носить часы на руке. Молодой корабль, юные лица. Кто из них знает свою судьбу, кто чувствует, что их ждет через полгода, сейчас они живы и потому весело улыбаются перед объективом чьей-то шутке. Мало кто уцелеет из этой команды, но каждый исполнит то, что должен был исполнить.
Эскадренный миноносец «Гордый», которым командовал капитан третьего ранга Ефет, артиллерийским огнем поддерживал оборону Таллина, потом участвовал в знаменитом переходе из Таллина в Кронштадт.
Во время этого перехода «Гордый» налетел на мину. Повреждение было сильным, в котельном отделении вспыхнул пожар, командир корабля получил приказ снять личный состав, но сказалась выучка экипажа, корабль удалось спасти, и на буксире его доставили в кронштадтский док.
В начале октября Евгению Борисовичу удалось на несколько часов вырваться в Ораниенбаум. Дома никого не было. Валентину Ивановну он встретил случайно, когда шел к пристани. Встретились на несколько минут и что говорили в спешке друг другу, вспомнить невозможно: «Береги себя». – «Да, и ты береги себя, и сына береги, да, береги». – «Еще увидимся, может, удастся заскочить». Не удалось. Не успел. Не уберегся.
А Валентина Ивановна жила в это время на втором этаже деревянного здания поликлиники. Она и другие медики должны были неотлучно находиться здесь – на казарменном положении.
Немцы подошли близко, артобстрелы и бомбежки были очень частыми. Валентина Ивановна возглавляла хирургическую бригаду – пострадавшим при обстреле необходимо было оказывать неотложную помощь, тяжело пораженных отправлять в больницу, а поскольку никто не знал, когда случится очередной налет, то и приходилось быть при своем месте неотлучно.
Впрочем, второй этаж поликлиники разбили довольно быстро, и медиков перевели в сарай, что стоял в глубине двора, и там они жили до больших морозов…
13 ноября отряд кораблей, среди которых был и эсминец «Гордый», эвакуировал гарнизон Ханко. Было холодно. Штормило. Движение начали ночью, и в темноте едва угадывались очертания других кораблей.
Все знали, что главная опасность – это мины: впереди находилось минное поле. И поэтому основная надежда была на впередсмотрящих. Вдоль бортов стояли матросы с шестами, они должны были шестами отталкивать плавающие мины.
Сперва взорвался небольшой катер. Тральщики сняли его экипаж. Потом подорвался тральщик, расчищавший фарватер.
Теперь приходилось рассчитывать только на себя. Но много ли увидишь в темени ноябрьской ночи, да еще когда штормит.
В три часа раздался первый взрыв. Эсминец сильно тряхнуло. Корабль дал крен, в котлах сел пар, остановились дизеля. Повреждение удалось исправить, и корабль смог дать ход, но раздался второй взрыв. Корабль начал оседать, замолкли машины, и тишина отнимала надежды на спасение. Через пробоину поступала вода, затопило третье котельное и первое машинное отделения. Разошлись швы в корпусе, треснула палуба. Через три минуты корабль уже полулежал на левом борту. Опытные моряки, они знали, что теперь спасения нет.
Поняли это и на минном заградителе «Урал». И поспешили к «Гордому». Если бы кораблям удалось сблизиться, то экипаж спасся бы. Но сблизиться не удалось, потому что между кораблями плавала мина, и Ефет приказал командиру «Урала» отойти от борта. «Урал» отвернул в сторону.
Малый охотник взял кого смог, люди прыгали в шлюпки, в воду.
Под кормой «Гордого» раздался новый взрыв, и корабль, окутанный паром, погрузился в воду на глазах спасшихся товарищей.
Те, кто остался в живых, рассказывают, что корабль уходил в воду кормой, что вдруг наступила тишина и была какая-то яркая вспышка вдали. Спасшиеся услышали, что на «Гордом» люди вроде бы поют. Они прислушались – и точно: погибающие пели о том, что именно это и есть их последний и решительный бой…
Командир до конца не покидал мостика…
А Валентина Ивановна ничего этого не знала.
Напомним, что к 8 сентября Ленинград уже был блокирован с суши. Вместе с Ленинградом в блокаде оказался и Ораниенбаум.
Захватив Стрельну и Новый Петергоф и выйдя к финскому заливу, противник, однако, захватить Ораниенбаум не смог. Так образовался Приморский плацдарм, или, как его называли за малые размеры, Ораниенбаумский «пятачок». Он занимал полоску земли, протянувшуюся вдоль берега Финского залива на пятьдесят километров – от Петергофа на востоке до реки Воронки на западе. В глубину эта территория не превышала двадцати пяти километров. У самого же Ораниенбаума немцы были совсем близко. На окраине города, за Красным прудом, еще стоят деревянные домики, так с их крыш видны были позиции немцев, и ветер доносил отдельные выкрики….
«К зиме нас перевели в полуподвал дома, где теперь культмаг. Там мы и жили, и работали при коптилках. Два кабинета – терапевтический и хирургический. Нас было человек десять.
Голод мы почувствовали быстро. Сто двадцать пять граммов хлеба. Да и то бывало, что по нескольку дней кряду карточки не отоваривали. Поначалу я сама ходила за хлебом. Но несколько раз возвращалась в подвал с пустыми руками. Потому что у выхода из магазина мои больные протягивали ко мне руки и бесконечно повторяли: «Доктор, хлеба, доктор, хлеба», и я весь хлеб раскрашивала. Но чтобы я жила и могла работать, приходилось моим товарищам делиться со мной, и потому за хлебом стала ходить моя медсестра.
Меня вызывали к больным, а это были дистрофики чаще всего уже умирающие – иначе, они сами бы пришли ко мне. Тогда ведь каждый понимал – раз ты слег, то встанешь едва ли. Я иду на вызов, да что там иду – ноги еле переставляю, потому что они отечные, одутловатые, и от дистрофии такое чувство, словно идешь ты, не по земле, а по трясине – никогда больше земля не была для меня такой неверной. Бредешь и думаешь – ну что ты можешь сделать? Так бы от отчаяния и плакала все время, но ведь для слез тоже силы нужны. А не идти нельзя – ты врач, и на тебя надеются. И знают, что ты не накормишь, а все-таки надеются. Ну, перевязки сделать мы могли, вата, йод, бинты у нас еще были, а больше – что? Глюкоза, говорите вы? Может, и было несколько ампул в больнице, у нас – не было. А перед входом в квартиру всю оставшуюся волю собираешь, чтоб этот вызов выдержать. Вот паренек шестнадцати лет. Он знает, что умрет, но все-таки вызвал меня, чтоб задать один вопрос: «Доктор, умру ли я?» А у меня ничего нет, кроме стетоскопа. «Что ты, паренек, – я ему, – вот прибавили норму, и скоро еще прибавят, да ты к лету будешь здоровяком, у тебя же кость широкая, а мышцы ты наживешь, ты еще служить будешь, летчиком станешь, уж поверь мне». И ведь где силы найдет, и знает, что я не помощница ему, а улыбнется, повеселеет хоть на время. У меня ничего тогда не было – только доброе слово. И если оно хоть на короткое время помогало, так и то не зря мы мучались в те месяцы.
Вот вы представьте повседневный мой быт – полуподвал, коптилки горят круглые сутки, потому что без них даже днем полумрак, если не мрак полный. И тебе очень холодно, хотя ты в шубе, на которую надет халат.
И вот позади тебя лежит умирающий, и сбоку тоже умирающий. А глаза у них остановились, глаза стеклянные – хлеба просят. А мороз, снова напомню. Я сижу у стола и то одному скажу что-либо в утешение, то другому. А тут милиционер приводит кого-нибудь: человек шел по улице, да и решил, что нет смысла дальше идти. Так вот милиционер перестанет человека поддерживать, он и падает, милиционер его поднимает, поставит на ноги, отпустит, тот снова падает.
Но поверьте мне, как бы ни было тяжело, что там – тяжело – мы знали, что умираем, но никогда у меня не было сомнения, знала, что мы выстоим. И вот мы выстояли».
Душевное состояние Валентины Ивановны отягчалось в ту пору неизвестностью и тревогой за сына и мужа. Сын жил в Ленинграде у матери Валентины Ивановны, от мужа давно не было никаких вестей.
Март внес ясность. Несколько раз к тому времени повышали нормы, близка была весна, сына наконец через Лисий Нос и Кронштадт (сообщение было только такое) удалось перевезти в Ораниенбаум.
В марте же пришло сообщение о судьбе мужа.
В марте она привычно сидела в своем полуподвале, когда пришел обмороженный матрос из Кронштадта и принес ей конверт.





![Книга Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] автора Семён Шуртаков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-povesti-243627.jpg)


