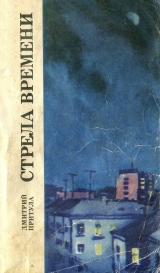
Текст книги "Стрела времени (Повесть и рассказы)"
Автор книги: Дмитрий Притула
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
– Да зачем же вы оправдываетесь?
– Да, не надо оправдываться, – осекся Николай Филиппович, и сухими потрескавшимися губами коснулся он губ Антонины Андреевны и сразу отстранился. Она не отводила лицо. Тогда он снова коснулся ее губ и уже обнял ее, и они долго не разнимали объятий, забыв, что их могут видеть из парка и с шоссе.
– Скучал, – наконец сказал Николай Филиппович, бессильно опуская руки.
Он смотрел на нее, какая нежная улыбка на ее лице, – это трепет души, перед тем как обрадоваться или заплакать, исход улыбки одинаково возможен, – и какие тонкие и теплые волосы у нее, он коснулся их ладонью, да, тонкие, теплые, все сейчас было ему мило в этом лице, даже болячка над верхней губой; и как Антонина Андреевна смотрела на него, никто никогда так не смотрел, то ли жалость в глазах, то ли нежность, не уловить отдельно, да и влюбленно, пожалуй что, смотрит. Вот это неправдоподобно, это невозможно – за что же ему, существу пожилому и малозначительному, такие подарки судьбы.
– Вы знаете, Антонина Андреевна, а ведь я в вас отчаянно влюблен. И это очень печально. И боюсь, что это непоправимо.
– Ну право же, не нужно так грустно. У вас такие печальные глаза, что я сейчас заплачу.
– А с чего мне радоваться, Антонина Андреевна, если я влюблен безнадежно?
Они встречались в парке чуть не каждый вечер. Он ждал ее у каменной скамьи в Английской аллее. Она укладывала спать сына и в десять часов приходила в парк. Время веселых записок кончилось, пришла пора маскировки. Он только спрашивал на листе: «Сегодня?», и она писала в ответ либо «Да», либо «Завтра».
Он говорил жене, что в голову ему пришло несколько сносных соображений, и для этих соображений, как, впрочем, и для здоровья, полезны вечерние прогулки, потому что хорошие идеи в присутствии жен отлетают прочь.
Николай Филиппович уходил в полдесятого, приходил в полдвенадцатого. Он пропускал футбол и многосерийные фильмы о милиции. Людмила Михайловна рада была, что муж снова занялся техническим творчеством, что больше подобает мужчине, нежели домашнее с ироническим брюзжанием сидение.
Часы встреч протекали незаметно, да что часы, но даже и дни, но даже и две недели пролетели стремительно. Давно уже испарилось свечение белых ночей, к осени дело катилось, к десяти часам уже смеркалось, тени медленно растворялись в парке, дальние вскрики тревожили душу, шорохи и гуканье засыпающего парка обрывали дыхание, пугали, заставляли сердце учащенно биться.
А с погодой везло: эти две недели не было дождей. Он ждал ее в Английской аллее, и всегда она появлялась неожиданно, как бы появлялась из ничего, из сгустка воздуха, он бросался к ней, и, обнявшись, они долго привыкали друг к другу. Потом бродили по дальним аллеям – Липовой и Кленовой – и говорили, да так много, как в жизни прошедшей не говорили ни он, ни она, и останавливались у старых деревьев, а то и посредине аллеи – что им сейчас страхи, если только деревья вокруг, – незабвенное время, безвозмездное время.
Что ж случилось с ним такое, да так внезапно, да почему именно на него груз такой тяжеловесный свалился? Всю жизнь, кроме тех лет, когда он делал машину и получал за нее шишки пустого ожидания, душа его пребывала в непременном покое. Покой этот счастливо был пойман в юности и хранил душу, любые бури могли трясти мир, словно мальчишки трясут в чужом саду яблоню, душа Николая Филипповича все равно была чужда этой тряске.
Но сейчас покой кончился, и уже Николай Филиппович постоянно чувствовал, что в душе его сидит заноза, и она ноет, не дает покоя, так что Николай Филиппович не мог долго пребывать на одном месте, он должен был что-то делать, ходить, нетерпеливо коротать время. И он все время чего-то ждал, понимая, что это не ожидание беды, но лишь ожидание вечера, когда он снова увидит Антонину Андреевну, и не мог дождаться. Спешил домой, ах, поскорее бы покончить с тягомотиной ужина, да нужно ловко скрыть нетерпение – и лучше всего это удается, если возишься с внуком Николашей, – и усесться у телевизора и уставиться в этот ящик (а Антонина Андреевна, знает он, сына укладывает) – вот новости спорта, вот музыка погоды на завтра, и это сигнал: пора уходить. Неторопливо, вальяжно выйти из дому: дескать, уступаем настойчивым советам жены – вечернее неспешное хождение способствует здравым мыслям и доброму сну – продефилировать по Партизанской улице, при виде парка шаг чуть ускорить, спуститься под горку да скорость более не сбивать, так домчаться до Английской аллеи и только там успокоиться, идти прогулочно, зорко вглядываясь вдаль – вон из-за того поворота у дворца появится Антонина Андреевна, а уж сумерки сгущаются, движения расплывчатые, силуэты прорисовываются в дрожи, как в тумане, вот и Антонина Андреевна появилась, и взмах руки, и навстречу броситься, ах ты, души нетерпение.
Николай Филиппович вспоминал каждое мгновение прошедшего лета и понимал, что никогда прежде память его не была так цепка, так подробна. Но что было несомненно – все это время он страдал, потому что взведенность души – состояние для него новое, все ему казалось значительным, всякий отлетевший день оставлял по себе память навечно, всякое слово постороннего человека, всякая случайная встреча казались исполненными особого смысла и оставались в памяти.
Себя он не жалел – что ему собственная жизнь, дело прожитое, – жалел он Антонину Андреевну: да что он такое, что она встречается с ним, и что он ей дать может, лишь добавочную смуту, лишь дополнительное страдание при разлуке, что он, кто он? Ведь Николай Филиппович неотделим от семьи, и долго ли Антонина Андреевна, да и он сам, выдержать смогут сомнительное это положение – тайные встречи, двойная жизнь.
Конечно, Николай Филиппович страдал от того, что они с Антониной Андреевной люди разных поколений, что она ровесница сына, но утешался – да, он молодым человеком, пареньком легкокрылым себя не чувствовал, однако бодр, легок, постоянно скучает по Антонине Андреевне, а так скучает только душа молодая, неотжившая, а что постороннему человеку бросается в глаза разница в возрасте, так виделись они только наедине, постороннему оку, надеяться оставалось, недоступные.
Понимал, что через несколько лет разница в возрасте, возможно, начнет сказываться, но это было вовсе нелепое соображение – несколько лет! – да хоть бы месяц еще продолжались встречи, только б ничто их не оборвало, что так запархивать в будущее.
Антонина Андреевна была так доверчива, что даже удивляла Николая Филипповича, она ничего не скрывала от него ни в жизни нынешней – «Вот сегодня я думала о вас, а вчера было воскресенье, я так замоталась, что о вас ни разу не вспомнила», – ни в жизни, тем более, прошлой.
Замуж Антонина вышла рано, мужа любила, согласна была ехать за ним на край света, и поехала, когда время подошло, ну, разумеется, не на край света, а под Челябинск, где муж ее вел в Доме культуры музыкальные занятия – женский квартет, оркестр ПТУ, хор.
И какая достойная работа, ведь мало работ достойнее, но он, видно, считал себя обиженным, готовился прежде не к судьбе учителя музыки, но к деятельности концертной – да есть ли что тяжелее жизни непроявленного таланта, отвергнутого, что ли, гения. Всякий ли поступающий в консерваторию или училище полагает себя гением, сказать трудно, наверно уж не всякий, тут некий поворот болезненный в душе должен быть, чтоб человек так прямо и полагал себя гением, а муж Антонины Андреевны, по словам ее судя, именно так о себе и воображал. Уж большие в нем дарования были или малые, не Николаю Филипповичу, разумеется, судить, а только непроявленность предполагаемых дарований загубила семейную жизнь.
Он шел на занятия с малолетними детьми как на дело, его недостойное, называя малолеток не иначе как презрительно «мои вундеркинды», года не прошло, как начал играть с руководимым им оркестром ПТУ по свадьбам и домам отдыха (конечно, деньги, поди, нужны были, да при малолетнем ребенке, но Антонина Андреевна говорит, что она всячески отговаривала его от халтур, предлагая перебиваться малым). А он попивать начал – всего двадцать три года парню. Антонина Андреевна все любила его, жалела, уговаривала, что если хочет играть в большом оркестре, то непременно будет, нужно только терпеть да инструмент не забывать, да и нынешняя его работа и есть достойное дело, все надеялась, что время примирит его с собою, но то были напрасные надежды – муж ее был не из тех, кого время укрепляет, но из тех, кого оно губит.
Она терпела и то, что он попивает на халтурах, она стерпела и его интрижку с солисткой хора – студенткой педучилища. Он плакал после выпивки, упрекал Антонину Андреевну, что она в него больше не верит, а Антонина Андреевна успокаивала его и говорила, что верит сильнее прежнего.
Она вытерпела бы еще неизвестно что, так как понимала – в беде близкого человека оставлять нельзя, ты его оставь, и он погибнет.
Она не решала судьбу, судьба распорядилась самостоятельно – однажды муж ушел к другой и больше не вернулся. А прожили вместе восемь лет. Весной Антонина Андреевна вернулась домой, к родителям.
Николаю Филипповичу больше всего хотелось, чтоб Антонина Андреевна никогда более не знала разочарований. Он хотел бы навсегда защитить ее от бед, как хотят люди защитить своих детей, а могут ли они? А не могут.
– Вы знаете, я хороший отец, я люблю детей, я вообще хотел бы, чтоб мой дом был полон детьми. Я это к чему говорю – всю свою жизнь я чувствовал потребность в такой женщине, к которой бы можно было относиться как к ребенку, то есть к существу слабому. Ну, чтоб я мог ее опекать, жалеть. Чтоб мог ее, как говорится, по головке погладить. Как бы сказать точнее – чтоб на руках ее носить. Именно так – носить на руках. Но так у меня не получилось. Такую женщину я не встретил. Считается, что Людмила Михайловна человек сильный, а я, выходит, слабый, вот всю жизнь она меня и опекает. И всю жизнь жила во мне потребность жалеть женщину. И потребность эта осталась неутоленной. Однако я еще надеюсь ее утолить. Мне кажется, еще не поздно.
– Когда мы шли с Константиновым в вашу группу, он рассказывал о вас, какой вы знаменитый да талантливый…
– А я и не знал, что я знаменитый, – усмехнулся Николай Филиппович.
– Я боялась встретить человека высокомерного, уверенного в себе, что ли. А вы оказались очень добрым. Я с первых дней начала понимать, что вы ко мне хорошо относитесь, даже неравнодушны ко мне.
– Вот как! А я-то думал, что удается это скрыть.
– Вот вы всю жизнь хотели быть сильным, а пришлось быть слабым. А у меня все как раз наоборот получилось. Прежде я всегда кого-нибудь опекала. С детства – младшую сестру. Ей сейчас двадцать два года, а она по-прежнему ничего не делает, не посоветовавшись со мной. Восемь лет опекала мужа. Всегда чувствовала, что он слабый и я должна бояться не за свою судьбу, она, считается, устроится сама собой, а за его судьбу, за его работу – чтоб поменьше халтур набирал. Он умудрялся иногда работать в восьми местах. И за его здоровье, чтоб не простужался, когда выпьет, и чтоб выпивал поменьше. Я должна была прослушивать все песни, которые вопят мальчики из его ансамбля. Вы слышали когда-нибудь «Папа, подари, папа, подари, папа, подари мне куклу» – это что-то невероятное. Но эта песня должна мне нравиться, иначе не будет оправдания халтуре. Это невыносимо, когда человек, которого ты долгие годы любила и защищала, начинает распадаться, а ты ничем не можешь помочь. Потому что ему не нужна твоя защита. Ему так легче – без твоей защиты. И как я устала – это вспоминать невозможно. Мне всегда приходилось быть сильной, а так хотелось хоть иногда быть самой собой, то есть слабой. И вот с вами я такая, какая есть. Какой всегда хотела быть. С вами мне легко и просто.
Да, жизнь его изменилась. Весь день Николай Филиппович маялся оттого, что он ведет двойную жизнь и понимает, что городок маленький и слухи о его вечерних встречах непременно дойдут до жены и сына, однако он приходил домой и страдал оттого, что он находился дома и время тянется нестерпимо медленно, и только в полдесятого душа его успокаивалась, – и он два часа видел Антонину Андреевну.
И все-таки не ошибся Николай Филиппович – изучил свой городок за четверть века: слухи о его вечерних встречах с Антониной Андреевной дошли до семьи Николая Филипповича. До сына, во всяком случае.
Стояло воскресенье августа, и было послеобеденное время, когда весь город идет в парк, к аттракционам.
Сергей, спустив вниз коляску сына, предложил отцу пройтись. Николай Филиппович охотно согласился – из-за своих вечерних прогулок и занятости Сергея он редко видит сына, а разговаривает с ним и того реже.
Жара спадала, и истома конца лета пропитала воздух; люди, преимущественно навеселе, рвались к каруселям, в городе любят это время – единственная возможность показать свои наряды и свои семьи; Николай Филиппович тоже был рад толкать перед собой коляску с внуком, он опустил верх коляски, чтоб лицо внука было видно прохожим – удивительно красивый мальчуган: надутые щеки, загорелая кожа.
Солнце расплылось по небу, словно масляное пятно, оно слепило глаза и томило душу напоминанием о близких грозах.
Они шли рядом – отец и сын – и обменивались общими фразами: вот солнце глаза слепит и вскоре будет гроза; да, работать стало трудно, утром приходишь на отделение и не знаешь, на каждом ли посту будет сестра, о санитарках же что говорить – это общее место, и сестры теперь разбегаются, совсем беда, в торговлю, в лаборатории, на часовой завод, а как тут работать; да, жарко, вода в прудах стала грязная, санэпидстанция запретила купания, но разве же людей удержишь по лету такому, да, лето на удивление, это уж нам повезло; но те общие фразы не раздражали, но лишь подчеркивали близость отца и сына: нам все равно о чем говорить, лишь бы идти рядом – общность душ.
По застоявшейся воде пруда скользили лодки и «велосипеды», с горки было видно, как летят круговые качели, доносились вопли испуга и изумления.
Николай Филиппович спросил, что сын прочел в последнее время, – он знал, как бы ни был занят сын, он все равно читает больше отца, и Николай Филиппович любил, когда сын делился с ним прочитанным, всякий раз Николай Филиппович радовался – вот сын образованнее его, возможно, и умнее, и охотно смирялся с этим.
– Да вот книжку забавную прочел. Какой-то известный физик пишет про время. А в физике ничего не понимаю. Ты бы мне растолковал кое-что. Сейчас модно рассуждать о времени, и у меня хватило терпения осилить книжку. Хотя мало что в ней понял. Но вот довод Августина, что время нереально, мне понятен. В самом деле, прошлое уже не существует, будущее еще не существует, настоящее же не имеет никакой протяженности, следовательно, время не обладает реальностью. Это я понять еще могу. Но там новейшие рассуждения о направлении времени, «стреле времени». Так может ли быть, по космологической теории, имена я помню, но боюсь спутать, так может ли быть, что расширение Вселенной, ну там, увеличение объема, и задает знак направления нашему времени?
– Нет, тут я ничего внятного не скажу. Та физика, которую я учил тридцать лет назад, новейших теорий времени не трогала. Видно, это очень популярная книжка, если ты из нее хоть что-то понял, ты мне дай ее, я полистаю и тогда что-нибудь соображу.
И тут Николай Филиппович почувствовал, что Сергей как-то напряжен, и понял, что у сына есть к нему дело, ради которого он и позвал его в парк.
И Николай Филиппович не ошибся.
– Совсем забыл, – сказал Сергей. – Я и так в цейтноте, а завтра еще занятия проводить по школе самообразования. Готовясь к занятиям, я вчера прочитал «Происхождение семьи, частной собственности и государства», и мне книга понравилась. Там доказано, что хоть современная семья и несовершенна, однако ж это лучше всего, что было прежде, и, конечно, нынешние соединения лучше соединений древности, когда соединялись братья и сестры и люди разных поколений. Я подумал так: когда-нибудь станет ясно, что институт семьи в существующем ныне виде себя изжил, но это так нескоро, что и угадать нельзя.
– Но ведь всякий человек живет не так много раз и не так уж долго, что ж остается ему, современному человеку?
– А современному человеку остается одно – терпеть. – И Сережа улыбнулся, как бы прося прощения, что вот он так долго говорил повсеместно известные слова, не имеющие к ним, отцу и сыну, никакого отношения, – они-то, Нечаевы, в семейной жизни счастливы.
– Ну, эти слова о терпении нам с тобой хорошо известны – им не десять и не сто лет. Ты думаешь, есть счастливчики, понимающие, что они не просто живут, небо коптят, поглощая кислород и выталкивая из себя углекислый газ, но участвуют в эволюции, и никак не меньше? А если человек понимает, что жизнь его единична и коротка, и не желает терпеть?
– Тогда это, конечно же, смелость, и, как за всякую смелость, человека ждет расплата – тут и общество осудит, да и те люди, что входили в его прежнюю семью, не будут посторонними наблюдателями.
– Ты, однако, строг.
– Это не я строг, а институт современной семьи. Возможно, он суров, жесток, но что мы с тобой можем поделать?
И по тому, как спала напряженность сына и вновь обозначилась связывающая нить, Николай Филиппович понял, что разговор был Сереже труден и неприятен и он рад, что все позади.
Дальше они гуляли, болтая о погоде, работе, новых кинофильмах, но Николай Филиппович ясно сознавал, что если б сын отважился высказаться впрямую – это, конечно, вряд ли можно себе представить, – то все равно бы ничего не изменилось.
Потому что главным судьей поступков Николая Филипповича были теперь не жена, не сын, не дочь, но лишь он сам.
Он догадывался, что слухи могут дойти и до жены, как дошли до сына, но Людмила Михайловна пока никак не обозначала свое знание.
Николай Филиппович так объяснял ее молчание – если, разумеется, она о чем-нибудь узнала: мужа всерьез принимать нельзя, он припаян к семье навеки, если у него и появилось увлечение, то, без сомнения, увлечение вполне безвинное, тем более что объект увлечения – ровесница сына, и он должен самостоятельно все пережить, без нажима, чтоб потом не было упреков с его стороны – упреков безмолвных, разумеется, о словах упрека и подумать невозможно, – что она помешала ему, сделала страдальцем, нет, он должен сам все пережить, чтоб потом пенять лишь на судьбу.
И еще: все мужчины, по разговорам судя, переживали увлечения, должен его пережить и ее муж – при его-то безволии, робости дело далеко зайти не может, так, флирт, легкое головокружение предзакатного мужчины – да, тем все дело кончится, и Николай Филиппович еще больше станет ценить семейный покой.
Он не знал о размышлениях жены, но тридцать лет совместной жизни учили его, что если Людмила Михайловна о чем-то догадывается, то ход ее размышлений таков или примерно таков.
Иных мотивов ее молчания быть не могло. Хотя, может статься, она уже настолько считала его своей собственностью, что сама догадка, что он ее вещь не навечно, казалась ей оскорбительной и она никак не могла унизиться до подозрения, а тем более – слов упрека.
Всего две недели и продолжались встречи в парке вечернем, то было счастливое, но мучительное время. Все стоял вопрос – да сколько ж могут продлиться эти встречи? Не следует дальше встречаться, понимал, дальше ждут беды невпроворотные, жизнь свою поломаешь, это уж ладно, так хоть жизнь юную пожалей. Остановись, покуда остановиться возможно. Но кто ж это внемлет голосу рассудка? Считанные смельчаки. Но как расстаться, когда с благодарностью думаешь о своей судьбе, что она под занавес подарила тебе влюбленность и возможность заботиться о другом человеке. Как расстаться, если впервые в жизни полюбил существо слабое, которому без него, без Николая Филипповича, пусть он ничего собою не представляет, все так, пусть, – а только без Николая Филипповича существу этому будет хуже. Да и как расстанешься – даже если бы хватило сил, – это уже будет и предательство: мы-то считали с вами, что это всерьез, а выходит, это только развлечение, интрижка.
Нет, ничего не мог придумать Николай Филиппович – да и что эти страдания, как не самоистязание, души разрыв, – и когда пришла пора ехать в командировку на Кавказ, он поехал даже и охотно. Во-первых, там море рядом, а работы немного, во-вторых, ехать больше некому, в-третьих, он все-таки, себя утешая, надеялся, что в одиночестве сумеет обдумать случившееся с ним за лето, да, глядишь, покуда не все мосты еще сожжены и возможно отступление, на голову рассудительную и примет какое-либо верное решение.





![Книга Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] автора Семён Шуртаков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-povesti-243627.jpg)


