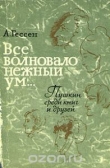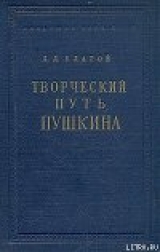
Текст книги "Творческий путь Пушкина"
Автор книги: Дмитрий Благой
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 56 страниц)
«Феодальные вертепы» еще прочно стоят на своих местах. Но средневековый рыцарский уклад уже подрывается изнутри начинающими возникать капиталистическими отношениями. У рыцарей-феодалов все больше развивается «нужда в деньгах». «Весь разорился я, || Всё рыцарям усердно помогая. || Никто не платит», – жалобится в первой же сцене готовый прийти на «помощь» нуждающимся рыцарям и отнюдь не себя, а именно их разоряющий ростовщик. И вот рыцари покидают свои веками насиженные патриархальные гнезда – простые и суровые феодальные замки – и являются к пышному двору монарха-герцога. «Все рыцари сидели тут в атласе || Да бархате; я в латах был один», – горюет порывающийся туда же Альбер. Атлас и бархат, придворная роскошь и веселье (праздники, балы, турниры) требуют новых и новых расходов, а значит, и новой «помощи» со стороны ростовщиков, за которую приходится расплачиваться все большей утратой своих былых феодальных прав. При герцогском дворе появлялся некогда и барон, причем в качестве не только «верного, храброго рыцаря», готового выполнить свой феодальный долг – оказать помощь сюзерену во время войны, а и его «друга». Но то, что он там наблюдал, – разгульная, развратная жизнь, упадок рыцарской доблести и чести, превращение гордых и независимых владельцев «феодальных вертепов» в «ласкателей, придворных жадных» – глубоко претило ему, вызывало гнев и презрение. И барон не только затворился в своем «феодальном вертепе», но и решил один действовать против течения, противопоставить процессу разорения рыцарей, ведущему к потере ими своего феодального могущества, крушению старого рыцарского мира, накопление богатства – гарантии сохранения, хотя бы для одного себя, былой независимости и власти. В этой связи и драматическое столкновение между бароном и Альбером, лежащее в основе действия пьесы, значит гораздо больше, чем только конфликт между скупым отцом и расточительным сыном. Как и в «Тазите», суть конфликта – борьба двух начал, старого и нового общественного уклада – отцов, старающихся удержать ускользающую из их рук феодальную власть, и сыновей, которые не дорожат этим, покидают патриархальные «феодальные вертепы», устремляются ко двору – «в дворцовые переднии», меняют рыцарские доспехи на придворный бархат и атлас. И – замечательный художественный прием: действие маленькой трагедии, начинающейся в рыцарском замке, заканчивается во дворце герцога. Таким образом, его ход точно соответствует поступи истории, движению и развитию процесса упадка феодализма, как рисует его в предваряющих набросках исследования о французской революции Пушкин. Такова – подсказывает поэт – первопричина, социально-психологическая почва, на которой вырастает и достигает чудовищных размеров страсть барона Филиппа – его скупость.
Но главное и основное в маленькой трагедии – глубочайшее проникновение во внутренний мир рыцаря, ставшего скупцом, тончайшая психологическая разработка как его характера, так и сущности, природы страсти, его захватившей.
В одной из широко известных позднейших заметок, снова сопоставляющей принципы построения человеческих характеров в драматургии классицизма и у Шекспира, Пушкин писал: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры. У Мольера Скупой скуп – и только; у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера Лицемер волочится за женой своего благодетеля, лицемеря, принимает имение под сохранение, лицемеря, спрашивает стакан воды, лицемеря. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславною строгостию, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека; он обольщает невинность сильными, увлекательными софизмами, не смешною смесью набожности и волокитства. Анджело лицемер – потому что его гласные действия противуречат тайным страстям! А какая глубина в этом характере!» (XII, 160). Эти острокритические замечания не мешали Пушкину исключительно высоко ставить творчество Мольера. Причем «плодом самого сильного напряжения» его «комического гения» он считал как раз пьесу о лицемере – «Тартюфа» (XIII, 179). Очень характерен «нагоняй», который Пушкин дал за Мольера Гоголю: «Я сказал, – рассказывал Гоголь, – что интрига у него почти одинакова, и пружины схожи между собой. Тут он меня поймал и объяснил, что писатель, как Мольер, надобности не имеет в пружинах и интригах, что в великих писателях нечего смотреть на форму и что куда бы он ни положил добро свое – бери его, а не ломайся».[318]318
П. В. Анненков. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений. СПб., 1873, стр. 361.
[Закрыть] Этот «урок», данный Гоголю, – яркое подтверждение той широты Пушкина, того отсутствия литературного «сектантства», о котором сам он писал в «Письме к издателю „Московского вестника“». Больше того, в процессе творческой работы над «Скупым рыцарем» и другой маленькой трагедией – «Каменный гость» – Пушкин не только крепко держал в памяти две комедии Мольера на аналогичные сюжеты, но, словно бы следуя известному мольеровскому принципу – брать свое добро всюду, где бы он его ни находил, кое-чем и воспользовался из них для своих пьес.[319]319
Б. В. Томашевский. Маленькие трагедии Пушкина и Мольер, в его кн. «Пушкин и Франция», стр. 262–314. Ценность статьи в том, что автор не только тщательно сопоставил «Скупого рыцаря» и «Каменного гостя» с пьесами на ту же тему Мольера, приведя ряд реминисценций из них Пушкина, но и установил существенные различия двух писателей. Вместе с тем в ней слишком преувеличена роль мольеровских пьес в процессе создания этих маленьких трагедий, осуществленных якобы именно в порядке «литературного соревнования» с Мольером. С этим связано и весьма малоубедительное истолкование противоречащей данной концепции заметки Пушкина о Шекспире и Мольере, которую, по мнению автора, «было бы неправильно принимать… за объективную критическую характеристику Мольера… Эта заметка скорее является самопризнанием, раскрытием собственного понимания трактовки характеров…». Однако сколько-нибудь веского обоснования этому автор не дает, ссылаясь лишь на то, что «далеко не случайно, что из трех оригинальных маленьких трагедий две совпадают по теме с комедиями Мольера…», да на свою указанную статью («Пушкин и французская литература», в той же книге, стр. 120).
[Закрыть] Как видим, в замечательном синтетическом сплаве маленьких трагедий частично присутствует, в ряду реминисценций из Шекспира и Барри Корнуола, и комический гений Мольера (кстати, возможно именно с этим связано жанровое определение Пушкиным «Скупого рыцаря» как «трагикомедии»). Но в главном – в лепке характера героев маленьких трагедий, в частности своего скупца, – Пушкин, в резкое отличие от Мольера, шел по пути, открытому Шекспиром.
Подобно Скупому Мольера, пушкинский барон, как он перед нами предстает, – мономан владеющей им страсти. Но он никак не является всего лишь «типом» ее – олицетворением порока скупости. Наоборот, в резкое отличие от мольеровского скупца, барон – существо живое, многосторонний характер. Уж одно то, что перед нами – Скупой рыцарь, причем не по одной лишь принадлежности к средневековому сословию феодалов, а по всему своему психическому складу, духу, придает его образу в высшей степени своеобразную индивидуальность. Мало того, в бароне кипели и многие страсти. Но все их, огромным напряжением воли, он обуздывал в себе, приносил в жертву одной, которая стала для него самой могущественной – целью и смыслом всего его существования. Недаром ожидание минуты, когда он может спуститься в «тайный» подвал, к своим сундукам, с очередной горстью накопленного золота, он сравнивает с ожиданием «молодым повесой» любовного свиданья. И именно то, что всю освобожденную энергию обузданных страстей он вкладывал в эту одну-единственную страсть, сообщило ей страшную, почти нечеловеческую силу. Это же определило и основное направление – опять-таки не вширь, а вглубь – «драматического изучения» поэтом натуры барона, художественно-психологического ее анализа.
В первой сцене автор непосредственно не показывает нам своего главного героя (с подобным приемом мы сталкивались уже в «Борисе Годунове»), но его образ все время незримо витает над ней. Об исключительной скупости барона мы узнаем не только из реплик основных участников, непрерывно возвращающихся к этой теме, но она наглядно демонстрируется нам и на одном из ее следствий – жалком и постыдном положении Альбера – его «горькой бедности». В разговоре с ростовщиком Альбер, говоря об отношении своего отца к деньгам, дает весьма резкую характеристику последнего: «О! Мой отец не слуг и не друзей || В них видит, а господ; и сам им служит. || И как же служит? Как алжирский раб. || Как пес цепной. В нетопленой конуре || Живет, пьет воду, ест сухие корки, || Всю ночь не спит, все бегает да лает…» Легко заметить, что образ барона в понимании его Альбером совершенно соответствует образу мольеровского Скупого, который «скуп, и только». Это как раз и есть та односторонность, с которой Пушкин будет бороться дальнейшим раскрытием исполненного одновременно и исторической правды и огромной психологической глубины образа своего Скупого рыцаря.
Наряду с набросанным Альбером образом скупца, аналогичным мольеровскому, в той же первой сцене дан образ и другого скупца, являющийся в значительной степени аналогией шекспировскому Шейлоку. Это – образ ростовщика Соломона. Фигура еврея-ростовщика скорее всего подсказана Пушкину давней литературной традицией, наиболее знаменитым выражением которой и был, конечно, Шейлок Шекспира. Эпизодический образ ростовщика как раз и развернут поэтом с той широтой, которая так пленяла его в образе Шейлока. Пушкинский ростовщик ради возврата одолженных им червонцев спокойно готов идти не только на низость, но и на прямое преступление, лишь бы он был уверен в его безнаказанности. Однако наряду с этим он, подобно шекспировскому Шейлоку, «остроумен, находчив» (например, сравнение им рыцарского «слова» Альбера, в случае смерти последнего, с ключом от шкатулки, брошенной в море). Некоторые реплики ростовщика не только продиктованы трезвым житейским опытом, но и исполнены какой-то вековой мудрости, дышат подлинным, глубоко прочувствованным библейским лиризмом. Вспомним, например, его ответ на восклицание Альбера: «Ужель отец меня переживет?»: «Как знать? дни наши сочтены не нами;|| Цвел юноша вечор, а нынче умер, || И вот его четыре старика|| Несут на сгорбленных плечах в могилу».
Так же широко показан и сам Альбер. Альбер – не только «расточитель молодой, развратников разгульных собеседник», каким представляется он своему отцу. Это не просто храбрый, беспечный, вспыльчивый и отходчивый юноша. Альбер способен сильно чувствовать (переживание им своей бедности). Острым умом он проникает в самое существо вещей (вспомним бесстрашный анализ им своей «храбрости и силы дивной» на турнире: «Геройству что виною было? – скупость» и т. д.). Альбер благороден: страстно желая скорее наследовать отцу, что при сложившейся ситуации достаточно естественно, он не только с величайшим негодованием отвергает предлагаемое ростовщиком «средство» ускорить его смерть, но и отказывается взять от него столь нужные деньги, которые тот сам, с перепугу, теперь ему навязывает. Альбер горд (к герцогу решается пойти только в последней крайности); наконец у него доброе, отзывчивое сердце: отдает последнюю бутылку вина «больному кузнецу».
Характеры не только Соломона, который вообще больше в действии не участвует, но и Альбера полностью раскрываются в первой сцене: все поведение Альбера в финале, у герцога, в сущности, не прибавляет к его образу ни одной новой черты. Наоборот, образ барона в первой сцене совсем не раскрыт. Из слов Альбера мы узнаем лишь о том, что он бесцельно и безнадежно скуп и сам снедаем своей скупостью. Во второй сцене Пушкин наполняет эту обычную и потому маловыразительную, «мертвую» схему заурядного и жалкого скупца изумительной жизненностью, сообщает банально-плоскому образу не только рельеф, объем, но и неожиданную, единственную в своем роде философскую глубину.
По своей структуре вторая сцена представляет собой нечто весьма своеобразное: в ней участвует всего лишь одно лицо – сам барон, и вся она состоит только из его монолога. И именно такое построение этой центральной сцены наиболее отвечает идейно-художественному замыслу произведения: показывает главного героя в типичных для данной ситуации обстоятельствах и, наряду с этим, дает поэту возможность развернуть перед читателями и зрителями гениальный психологический этюд о страсти накопления.
Первая и третья сцены происходят на поверхности земли, то есть в обычных условиях человеческого существования. Вторая имеет место в условиях отнюдь не обычных: под землей – в подвале замка, куда барон прячет свои сокровища. Естественно, что в таком месте действия, самое существование которого барон заботливо от всех скрывает («Сойду в подвал мой тайный»), он только и может быть совершенно один. В то же время эта зримо, в ярком пластическом образе предстающая перед нами одинокость барона полностью соответствует тому положению, в которое он не только поставлен своей скупостью, но которого и сам для себя всячески добивается. Ведь, безоглядно предавшись своей гибельной страсти, живя только для нее и только ею одной, барон тем самым создал для себя противоестественные, антиобщественные условия существования, отделил себя непереступаемой чертой, как бы магическим кругом от всех остальных людей с их естественными потребностями, взаимоотношениями, обычными человеческими желаниями и интересами. И эта выделенность, одинокость льстит барону, полна для него особой услады. Недаром он приравнивает себя к царю, с «вышины» взирающему на весь мир, к «демону», в гордом одиночестве наслаждающемуся своим неограниченным могуществом.
Возникающему перед нами во второй сцене зловещему образу предельно одинокого барона полностью соответствует ее драматургическое оформление, также резко контрастирующее с предшествующей и последующей сценами, ее обрамляющими. В тех есть драматическое действие. Вторая сцена статична. От «действия» в ней только то, что барон зажигает свечи и отпирает свои сундуки. Развернуть драматическое действие при наличии во всей сцене всего лишь одного персонажа здесь, по существу, не на чем. С этой статичностью вполне гармонирует окружающая обстановка: сцена происходит в подземелье с царящими вокруг тишиной и абсолютным покоем.
Но, при отсутствии в данной сцене действия, в ней до дна раскрыто душевное состояние скупца, его острые, сложные и противоречивые переживания, исполненные, при отсутствии внешнего драматического действия, глубокого и мучительного внутреннего драматизма.
В первой сцене барон показан сквозь не только чисто внешнее, но и враждебно пристрастное восприятие его Альбером. Во второй сцене он дан в порядке самораскрытия, мыслей вслух – монолога, то есть той речевой формы, которая наиболее характерна для человека, полностью ушедшего в самого себя, в мир страсти, целиком заполнившей все его существование. Обращают на себя внимание и необычные размеры монолога барона. В нем целых сто восемнадцать стихов, а поскольку во всей пьесе только триста восемьдесят стихов, он составляет почти третью часть ее. Подобные пропорции едва ли встречаются в каком-либо другом драматическом произведении. Для сравнения напомню, что в «Борисе Годунове» в знаменитом монологе царя Бориса только пятьдесят один стих, причем эта разница неизмеримо возрастает, если мы сопоставим относительный объем двух пьес. Кроме того, хотя этот монолог и заполняет бо́льшую часть сцены, начинается она диалогом двух стольников. Но зато в необычно большом монологе барона, на который Пушкин, при всем своем стремлении к предельному лаконизму, в данном случае смело идет, перед нами развертывается не только психология скупости со всей ее хитрой и тонкой диалектикой, мы не только проникаем вместе с поэтом в самые потаенные извилины охваченной всепоглощающей страстью накопления незаурядной человеческой души, – в монологе, по существу, содержится глубокий социально-философский анализ этой страсти со всеми присущими ей трагическими антиномиями.
К. Маркс, обращаясь к ранним формам процесса непосредственного возникновения капитала, подчеркивает в противоположность потребляющему богатству важную историческую роль ростовщичества: разорение богатых земельных собственников ростовщиками приводит к образованию и концентрации крупных денежных капиталов; вместе с тем ростовщичество разрушает и уничтожает феодальное богатство и феодальную собственность. «Обремененный долгами рабовладелец или феодал высасывает больше, потому что из них самих больше высасывают».[320]320
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 25, ч. II, стр. 146.
[Закрыть] Именно к этой эпохе непосредственного накопления капитала и относится действие «Скупого рыцаря». Недаром в первой же его сцене появляется, в качестве одного из необходимых действующих лиц, ростовщик (кстати, он упоминает и своих собратьев по профессии – знаменитых в средние века голландских ростовщиков – «фламандских богачей»), в кабалу к которому попадает Альбер, попал бы и барон Филипп, если бы пошел по пути, к которому стремится его сын. Барон по этому пути как раз не пошел. Но логика исторического развития, дух «ужасного» для старого рыцарского уклада «века» приводит к тому, что, противопоставляя разорению накопление, ростовщическому капиталу – капитал рыцарский, он невольно подпадает под власть все того же «духа века», становится на буржуазно-капиталистический путь со всеми неизбежно вытекающими отсюда последствиями. Барон не дает себя «высасывать» ростовщику, профессия которого для рыцарского сознания не может не представляться в высшей степени низменной и презренной (именно такое отношение отчетливо проступает в диалоге с ростовщиком Альбера). Но, также стремясь к накоплению капитала, он сам вынужден беспощадно «высасывать» деньги из своих вассалов.
Восторженно созерцая горсть золотых монет, которой он готовится пополнить очередной сундук, «еще не полный», барон восклицает: «Кажется, не много, || А скольких человеческих забот, || Обманов, слез, молений и проклятий || Оно тяжеловесный представитель!» И следом за этим с какой-то холодной, презрительной, почти сладострастной жестокостью он как бы закрепляет в своей памяти историю каждой из них. Вот этот «дублон старинный» – последнее, что осталось после смерти мужа, – отдала за долг покойника его вдова: «но прежде || С тремя детьми полдня перед окном || Она стояла на коленях воя. || Шел дождь, и перестал, и вновь пошел, || Притворщица не трогалась; я мог бы || Ее прогнать, но что-то мне шептало, || Что мужнин долг она мне принесла || И не захочет завтра быть в тюрьме». Еще один золотой принес ему Тибо: «Где было взять ему, ленивцу, плуту? || Украл, конечно; или, может быть, || Там на большой дороге, ночью, в роще…» Барон не доканчивает, но смысл зловещего многоточия совершенно ясен: может быть, убил и ограбил. И во всем этом – не только беспощадная требовательность рыцаря-феодала по отношению к своим вассалам. Ради лишнего дублона в своем сундуке барон не останавливается ни перед чем.
Года за два до завершения «Скупого рыцаря» Погодин записал в дневнике о разговоре с Пушкиным по поводу только что появившейся статьи Надеждина «Литературные опасения за будущий год». Выступая в ней с резкими выпадами против русского романтизма 20-х годов, в частности таких основополагающих образцов его, как южные поэмы Пушкина, критик патетически восклицал: «О бедная, бедная наша Поэзия! – долго ли будет ей скитаться по Нерчинским острогам, Цыганским шатрам и разбойничьим вертепам?.. Не уже ли к области ее исключительно принадлежат одне мрачные сцены распутства, ожесточения и злодейства?.. Ныне, – продолжал Надеждин, – Поэзия с каким-то неизъяснимым удовольствием бродит по вертепам злодеяний, омрачающих природу человеческую: с какой-то бесстыдною наглостью срывает покров с ее слабостей и заблуждений». Для Пушкина этого времени (разговор с Погодиным происходил 9 декабря 1828 года), только что создавшего «Полтаву», с которой, кстати, он тут же и познакомил своего собеседника, южные поэмы были уже давно пройденным этапом. Мало того, Надеждин, в сущности, повторяет здесь то, что сам Пушкин писал в одном из лирических отступлений третьей главы «Евгения Онегина», незадолго до этого (в 1827 году) вышедшей из печати. Иронически высмеивая романы ричардсоновского типа, в которых герой «с душой чувствительной, умом и привлекательным лицом» выводился образцом совершенства, в которых при конце последней части «всегда наказан был порок, || Добру достойный был венок», автор не менее иронически отзывается и о произведениях новой, «байронической» школы с ее «мрачными» и «таинственными» героями, с описанием «тайных мук злодейства», с пристрастием к «порокам» («Порок любезен – и в романе, || И там уж торжествует он»). Этим и объясняется то, что Пушкин признал данную статью Надеждина «хорошей». «Но, – добавил поэт, – он односторонен. Разве на злодеях нет печати силы, воли, крепости, которые отличают их от обыкновенных преступников…»[321]321
«Пушкин и его современники», вып. XIX–XX. Пг., Изд-во АН СССР, 1914, стр. 92.
[Закрыть]
Эти необыкновенные качества присущи не только пушкинским «злодеям», таким, как Борис Годунов, Мазепа, но едва ли еще не в большей мере барону Филиппу, на личности и поступках которого, несмотря на их бесчеловечный, по существу злодейский, характер, действительно лежит печать исключительной силы характера, необычной крепости духа, отличающих его и от ростовщика Соломона и от плута Тибо.
Альбер считает, что барон служит деньгам, как «алжирский раб», как «пес цепной». И объективно так это и есть. Деньги, страсть к накоплению для барона действительно – всё. Однако субъективно происходит как раз наоборот. Сам барон ощущает себя не рабом, а царем, в его сознании деньги – не цель, а средство – источник предельной и гордой независимости, высшей власти над миром. Он вспоминает о некоем царе, приказавшем своим воинам снести по горсти земли, и – возвысился «гордый холм», с вершины которого тот мог «с весельем озирать» свое царство: «Так я, по горсти бедной принося || Привычну дань мою сюда в подвал, || Вознес мой холм – и с высоты его || Могу взирать на все, что мне подвластно. || Что не подвластно мне?..»
Ради обретения этой своей «высшей власти» барон действительно готов на все. Он и в самом деле «служит» своей идее-страсти, но служит не как раб, а как рыцарь – своей прекрасной даме, как аскет – своему божеству. В экстазе этого служения барон жертвует и чужой, но прежде всего и своей собственной жизнью. С полной ясностью и трезвостью ума он сознает, что созидаемое им «царство» – его ослепительные золотые чертоги – строится им на крови, и не только чужой крови («Да! если бы все слезы, кровь и пот, || Пролитые за все, что здесь хранится, || Из недр земных все выступили вдруг, || То был бы вновь потоп – я захлебнулся б || В моих подвалах верных»), но и на крови своего собственного сердца. Сейчас он – старик, но когда-то был молод, полон сил, желаний, страстей. И все это он приносит на алтарь накопления «злата». Жизнь барона – своего рода непрерывное подвижничество. Непрестанным отречением от всего, что не связано прямо с его единой целью, подавлением всех нормально-человеческих чувств – любви, жалости – барон, по его собственному слову, выстрадывает (слово, исключительно метко употребленное Пушкиным и имевшее замечательную судьбу в последующем развитии нашей литературы и общественной мысли) себе путь к высочайшему обладанию, как он его понимает, – к своему богатству: «Мне разве даром это все досталось… || Кто знает, сколько горьких воздержаний, || Обузданных страстей, тяжелых дум, || Дневных забот, ночей бессонных мне || Все это стоило?» Бессонных ночей потому, что барон (этим он также отличается от обыкновенных преступников) неоднократно испытывал, подобно царю Борису, подобно Мазепе, ужаснейшее из мучений – муки преступной совести: «Иль скажет сын (а, как мы видели, сын как раз это и говорит. – Д. Б.) || Что сердце у меня обросло мохом, || Что я не знал желаний, что меня || И совесть никогда не грызла, совесть, || Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, || Незваный гость, докучный собеседник. || Заимодавец грубый, эта ведьма, || От коей меркнет месяц и могилы || Смущаются и мертвых высылают?..»
Но в отличие от Бориса и от Мазепы, которых влечет конкретная земная власть – царский венец, обуреваемому ненасытной жаждой накопления барону это не только не может доставить удовлетворения, но и оказывается в непримиримом противоречии с его страстью. Достижение посредством накапливаемого золота той или иной цели, удовлетворение того или иного желания связано с необходимостью потратить хотя бы часть накопляемого. Копить и тратить (на языке барона Филиппа – «расточать») – вещи несовместимые. Если же не тратить, а только копить, то накопление, помимо воли человека, неизбежно оборачивается скупостью, из средства превращается в самоцель. Такова логика возникновения и развития порока скупости. Так это происходит с каждым скупцом, так неминуемо произошло и с бароном Филиппом.
Однако в резко отличной от банального скупца, незаурядной, «рыцарской» натуре барона неразрешимая антиномия скупости обретает весьма своеобразный психологический выход, открывающий возможность утолять свою беспредельную жажду наивысшей власти, не вступая в противоречие со снедающей его страстью накопления. Сознание одной лишь возможности удовлетворения любого из желаний оказывается для него равносильным самому удовлетворению и вместе с тем сообщает ощущение полной от них независимости. Знание своей мощи не нуждается во внешнем проявлении, довлеет себе. И вот по существу все в себе подавляющий, отказывающий себе во всем, объективно влачащий жалкое существование скупец, субъективно чувствует себя абсолютным владыкой и над самим собой и над всем окружающим:
Что не подвластно мне? как некий демон
Отселе править миром я могу;
Лишь захочу – воздвигнутся чертоги;
В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпою;
И музы дань свою мне принесут,
И вольный гений мне поработится,
И добродетель и бессонный труд
Смиренно будут ждать моей награды.
Я свистну, и ко мне послушно, робко
Вползет окровавленное злодейство
И руку будет мне лизать, и в очи
Смотреть, в них знак моей читая воли.
Мне все послушно, я же – ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен;
Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознанья…
О лицемере Шекспира Пушкин – мы помним – писал, что он «обольщает невинность увлекательными и сильными софизмами». Здесь барон Филипп подобными же софизмами, по существу, обманывает самого себя. Но в то же время этим строкам, которые так полно и глубоко вводят в сокрытый, подобно подвалу с золотом Скупого рыцаря, его внутренний мир, «бездну» его души, нельзя отказать в огромной силе и особом, своеобразном величии. Недаром обольщенный софизмами барона Филиппа герой романа Достоевского «Подросток» восклицал: «Выше этого по идее Пушкин ничего не производил!»
Больше того, в стремлении не только оправдать себя перед терзающей его совестью, но и возвеличить в собственных глазах свою низменную и преступную страсть, Скупой рыцарь подводит под нее специально создаваемую им и весьма оригинальную философскую концепцию. Наглухо замкнувшийся в самом себе, полностью ушедший в свою «идею», барон глубоко презирает все остальное человечество, внешнюю реальность вообще. Вспомним характеристики, даваемые им людям. Вдова, плакавшая под его окном, – «притворщица»; Тибо – «ленивец и плут»; влюбленные – «молодой повеса» и «лукавая развратница» или «обманутая дура»; сын – «безумец», собеседник разгульных развратников и т. д. И все продажны, все подчиняются деньгам – «золоту», которым порабощается и труд, и гений, и добродетель. Над этой жалкой действительностью, миром «забот, обманов, слез, молений и проклятий», над суетливой «мышьей беготней» человеческой жизни барон возносит свой внутренний мир, свою новую вселенную, существующую только как чистая потенция – в его представлении и воле. Материалом для этой новой вселенной является то же золото, но золото «уснувшее», очищенное от прикосновения захватавших его человеческих рук, от нечистого дыхания земных страстей и желаний, золото, возвращаемое бароном к его изначальной «божественной» сущности – потенциального носителя всех возможностей и всяческой власти. Всыпая очередные червонцы в сундук, барон напутствует их словами: «Ступайте, полно вам по свету рыскать, || Служа страстям и нуждам человека».
Золото «рыскает» по земле, подвергается, в зависимости от того или иного его употребления, самым разнообразным перевоплощениям. Накопление барона – своего рода нирвана – последнее и окончательное успокоение: «Усните здесь сном силы и покоя, || Как боги спят в глубоких небесах». Усыпляя, «убивая» золото – концентрат пролитых за него «слез, крови и пота» – на дне своих сундуков, барон «убивает» земную жизнь – пустую человеческую суету, все те обманы, проклятия, заботы, «тяжеловесным представителем» которых оно является. Видимо, именно с этим связано то странное чувство, принимающее в извращенной психике барона, в котором его страсть к злату исказила, изуродовала человеческую сущность, простые и естественные движения сердца, прямо садистский характер, чувство, которое испытывает он «каждый раз», когда отпирает сундук, чтобы всыпать в него «привычную дань» – новую горсть золота:
Я каждый раз, когда хочу сундук
Мой отпереть, впадаю в жар и трепет.
Не страх (о, нет! кого бояться мне?
При мне мой меч: за злато отвечает
Честной булат), но сердце мне теснит
Какое-то неведомое чувство…
Нас уверяют медики: есть люди,
В убийстве находящие приятность.
Когда я ключ в замок влагаю, то же
Я чувствую, что чувствовать должны
Они, вонзая в жертву нож: приятно
И страшно вместе.
Золото для барона – источник не только особого рода сладострастия, но и величайших эстетических наслаждений. Ради этого барон даже разрешает себе непростительную, с его точки зрения, слабость – устраивает своеобразный «пир» для себя одного, зажигая по свече перед каждым из своих сундуков и жадно любуясь волшебным блеском и мерцающими переливами своего сокрытого от всех «спящего» царства, всемогущим и безграничным владыкой которого он является. «Хочу себе сегодня пир устроить: || Зажгу свечу пред каждым сундуком, || И все их отопру, и стану сам || Средь них глядеть на блещущие груды. || (Зажигает свечи и отпирает сундуки один за другим.) || Я царствую!.. Какой волшебный блеск! || Послушна мне, сильна моя держава; || В ней счастие, в ней честь моя и слава! || Я царствую…» И Пушкин тонко оттеняет этот момент высшего экстаза барона, особый характер его. В своем эстетическом восторге Скупой рыцарь становится подлинным поэтом: вся пьеса написана белым ямбом, однако в этом месте барон начинает говорить рифмованными стихами.
Однако в наивысшей точке, в апогее сознания бароном полноты своей власти, предельного своего могущества, обозначаются и границы этой власти. Как и царю Борису, барону угрожает некий «самозванец». Причем особая острота психологической ситуации заключается в том, что это – его собственный сын. Правда, при жизни барона он ему не страшен. Сердце его не «обросло мохом», но он сумеет сдержать его биение своей костлявой рукой. До сына ему нет дела, и ничто не склонит его отказаться от горсти червонцев, чтобы обеспечить сыну соответствующие его общественному положению условия существования. Другое дело, когда он умрет. Сын явится его наследником и с беспечной легкостью уничтожит все дело его жизни. Он собирал – сын развеет. Он «умерщвлял» золото в глубине своих подвалов – сын снова «воскресит» его: «Я царствую – но кто вослед за мной || Приимет власть над нею? Мой наследник! || Безумец, расточитель молодой, || Развратников разгульных собеседник! || Едва умру, он, он! сойдет сюда || Под эти мирные, немые своды || С толпой ласкателей, придворных жадных. || Украв ключи у трупа моего, || Он сундуки со смехом отопрет. || И потекут сокровища мои || В атласные, диравые карманы. || Он разобьет священные сосуды. || Он грязь елеем царским напоит – || Он расточит… А по какому праву?.. || Нет, выстрадай сперва себе богатство || А там посмотрим, станет ли несчастный || То расточать, что кровью приобрел».