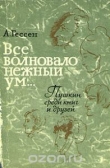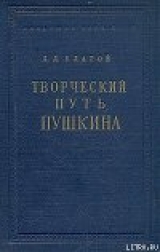
Текст книги "Творческий путь Пушкина"
Автор книги: Дмитрий Благой
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 56 страниц)
Чтобы это было более ясно, вкратце напомню библейскую легенду. Жил человек, знаменитый на всем Востоке, по имени Иов, наделенный всеми земными благами – богатством, многочисленным потомством, общим уважением – и отличавшийся такой непорочностью, справедливостью и благочестием, что бог указал на него как на замечательный пример сатане. Разве даром богобоязнен Иов? – цинично возразил сатана и предложил сделать опыт – лишить Иова всего его достояния. Бог разрешил, оговорив, что сатана может отнять все, что имеется у Иова, не трогая лишь его самого. И вот к Иову являются один за другим вестники, сообщающие, что соседние племена угнали его стада и завладели остальным его имуществом. Самое страшное известие приносит последний из вестников: дом, в котором собрались дети Иова, до основания разрушен налетевшим из пустыни вихрем, и все погибли под его развалинами. Услышав это, Иов разорвал свои одежды и посыпал главу пеплом, но благочестие его осталось непоколебленным. Он сказал: наг вышел я из чрева матери, нагим и сойду в землю. Бог дал, бог и взял. Да будет благословенно имя его. Благословит ли он тебя, если коснуться плоти его? – снова сказал сатана. Бог разрешил ему и это, с условием не трогать души Иова. И вот все его тело – от подошвы ног по самое темя – было поражено лютой проказой. Желая прекратить нестерпимые мучения мужа, жена убеждала его похулить бога, чтобы тот умертвил его. Но Иов и тут остался непреклонным. Он покинул селение и в стороне от всех сел на землю, захватив с собой лишь кусок черепицы, чтобы скоблить свое тело. Три друга Иова, узнав о страшных бедах, на него обрушившихся, пришли к нему, чтобы посочувствовать ему и утешить его, и, потрясенные тем, что увидели, просидели подле него семь дней и семь ночей, и никто не мог промолвить ни слова. Тогда заговорил сам Иов. Дальше следует одно из наиболее сильных мест книги – первый монолог Иова – вопль отчаяния, исторгающийся из души растерзанного невыносимыми пытками, безвинно страдающего человека. Иов и теперь не богохульствует, но в яростных проклятиях им дня своего рождения, в страстных призывах смерти, которая к нему не приходит («О, если бы благоволил бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня!»), уже загорается мятежная искра. Это чувствуют его друзья, каждый из которых поочередно вступает в спор с ним, стараясь доказать, что страдания, им испытываемые, посланы ему богом не зря, а, конечно, за какие-то его грехи, что он должен смиренно признать это, прекратить свое «пустословие» и терпеливо, в надежде на последующую божью награду, переносить свою судьбу. Рассудительные речи друзей, общие места и формальные прописи, которыми они «утешают» Иова, только еще больше растравляют его физические муки и душевные терзания. Действительно, их ханжескими словами прикрыты бессердечие, черствость душевная. В их поучениях сквозит порой даже некая самоудовлетворенность, самодовольство: их друг, которого все почитали непогрешимым, образцом добродетели, на деле, как они теперь считают, ничем не выше их, грешных. И Иов остро ощущает и болезненно переживает это. «Слышал я много такого; жалкие утешители все вы», – негодующе восклицает он. «Как же вы хотите утешать меня пустым?.. Вы нападаете на сироту и роете яму другу своему». И спор с друзьями он превращает в своего рода философский диспут о важнейших вопросах бытия. Речи Иова становятся все «неистовее», в своих ответах друзьям он уже имеет в виду не столько их: на «состязание» с собой он вызывает самого бога – «вседержителя». Искра разгорается в богоборческое пламя. Теперь он не только жалуется на то, что сам терпит муки без всякой вины. Он берет под сомнение, осуждает весь существующий миропорядок, при котором зло торжествует на свете, при котором добродетельные страдают, а порочные благоденствуют. И слова его обретают такую силу, что бог вынужден принять вызов и сам включается в спор. «Из бури» звучит его грозная речь. Смысл ее – утверждение своего величия как творца вселенной, могучие образы и великолепные картины которой им развертываются, и ничтожности по сравнению с ними человека. В результате Иов отрекается от своих обвинений и раскаивается в них, хотя большая этическая проблема, им поставленная, в сущности оставлена богом без ответа. В какой-то степени бог даже признает правоту исступленно страстных речей Иова: с избытком вернув ему все утраченное, он, наоборот, «загорается гневом» на его, казалось бы, столь благонамеренных и здравомыслящих «друзей», ибо они говорили «не так верно», как мятущийся и мятежный Иов.
Своим грандиозным – космическим – размахом, смелой постановкой острых религиозно-философских и, главное, этических проблем, напряженным внутренним драматизмом и предельно эмоциональной взволнованностью книга Иова привлекала к себе многих самых выдающихся деятелей мировой литературы. Гёте она подсказала завязку «Фауста» (пролог на небе), Байрон называл ее «самой первой в свете драмой и, может быть, самой древней поэмой».[108]108
И. П. Эккерман. Разговоры с Гёте. М. – Л., «Academia», 1934, стр. 267, 863.
[Закрыть] У нас Ломоносов переложил несколько ее глав стихами.
Очень сильное впечатление произвела книга Иова и на Пушкина. «Он учится по-еврейски, с намерением переводить Иова», – сообщает в октябре 1832 года П. В. Киреевский H. M. Языкову. Действительно, Пушкин приобрел французскую Библию с параллельным древнееврейским текстом (в библиотеке поэта имеется также стихотворный перевод книги Иова на французский язык, Париж, 1826, и специальная работа об элементах еврейского языка профессора Лондонского университета Hurwitz'a, Лондон, 1829). А в одну из своих записных книжек (как раз в том же 1832 году) поэт вписывает буквы древнееврейского алфавита, указывая их звучание, названия и соответствия буквам греческого алфавита.[109]109
«Исторический вестник», 1883, кн. XII, стр. 535; «Рукою Пушкина», стр. 24–25, 60–63.
[Закрыть] Но еще задолго до этого, начиная именно с 1826 года, мы не раз встречаем в поэзии Пушкина переклички с мотивами книги Иова, а порой и прямые реминисценции из нее. С особенной силой сказалось это в стихотворении на день рождения. Ломоносов в своей «Оде, выбранной из Иова» («О ты, что в горести напрасно на бога ропщешь, человек…») переложил в стихи речь бога. Пушкинское стихотворение является своеобразной аналогией первому, наиболее эмоционально окрашенному монологу Иова, в котором он проклинает «день свой» – свое рождение, всю свою жизнь: «Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева?» (мотив, здесь, как и в ряде других мест, явно перекликающийся с формулой Агасфера) – горестно вопрошает Иов. «На что дан страдальцу свет и жизнь огорченному душою?..На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого бог окружил мраком?» (глава III, 3 и 11). «И зачем ты вывел меня из чрева?» – обращается он далее прямо к богу (X, 18). И сравним пушкинское:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Строки эти не являются ни переложением (как у Ломоносова), ни «подражанием» (как в пушкинских стихотворениях на мотивы «Песни песней») Библии. В отличие от «Пророка», они (за исключением одного только совпадающего слова «воззвал») лишены специфической «библейской» окраски. Перед нами – непосредственное, глубоко лирическое излияние горьких мыслей и чувств поэта. Но не только по интонации (серия вопросов), а, главное, по всему своему содержанию они представляют собой прямую параллель сетованиям многострадального Иова – совпадение в высшей степени знаменательное, может быть ярче всего показывающее, как трудно и тяжко ощущал себя поэт в окружавшей его в это время действительности. Неслучайность же данного совпадения очевидна из того, что именно в эту пору, как мы дальше непосредственно убедимся, Пушкин, безусловно, вспоминал и даже скорее всего перечитывал историю библейского Иова.
Еще больше неслучайность этого подтверждается характерным эпизодом, связанным с данным пушкинским стихотворением. После появления его в печати (в «Северных цветах на 1830 год») одно из высших духовных лиц в стране, московский митрополит Филарет, славившийся своим красноречием (его проповедническое искусство высоко ценил и Пушкин), придумал своеобразное опровержение. Сохранив почти полностью внешнюю форму стихотворения (его построение, лексику, рифмовку), он, слегка изменив текст, придал словам автора прямо противоположный, религиозно-христианский характер. Жизнь дана не случайно и не напрасно, не без тайной божьей воли осуждена она и на казнь. Виноват в этом сам поэт: «Сам я своенравной властью || Зло из темных бездн воззвал; || Сам наполнил душу страстью, || Ум сомненьем взволновал». Наконец, в последней строфе поэт призывает «забвенного» им бога, дабы он просветлил его ум и очистил сердце. Всего за год с небольшим до этого благополучно кончилось столь грозное для Пушкина дело о «Гавриилиаде». Выступление митрополита могло бы навлечь на него новые и весьма серьезные неприятности, тем более что с доносительским отзывом о тех же самых пушкинских стихах поспешил выступить Булгарин.[110]110
Вас. Гиппиус. Пушкин в борьбе с Булгариным в 1830–1831 гг. «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», кн. 6. М. – Л., Изд-во АН СССР, 1941, стр. 236–237.
[Закрыть] Но Филарет не стал делать из этого никакого шума, поручив лишь близкой знакомой Пушкина и своей горячей поклоннице Е. М. Хитрово показать ему свое переложение. «Стихи христианина, русского епископа в ответ на скептические куплеты! – это право большая удача», – узнав об этом, писал ей не без иронии Пушкин (XIV, 57, 398). Однако, когда он прочел их, они явно произвели на него очень сильное впечатление. Поэту, который в эти годы ощущал себя все более внутренне одиноким, все менее понимаемым окружающими, почуялось в них подлинное сочувствие.
Помимо того, мы знаем, хотя бы по тому же «Воспоминанию» (а это далеко не единственный пример), как мучительно сам Пушкин был не удовлетворен той жизнью, которую вел, с какой тоской об этом думал, как жгли и терзали его «змеи сердечной угрызенья». Причем чтение их как бы снова погрузило поэта в тот образно-художественный мир, которым он был проникнут, когда слагал свои стихи на день рождения. Все это и послужило толчком к написанию им ответных «Стансов» (под таким названием стихи были сперва опубликованы) Филарету – «В часы забав иль праздной скуки» (19 января 1830), которые Белинский относил к числу лучших пушкинских лирических стихотворений и даже склонен был считать (это является уже односторонним преувеличением), что именно в них выражается с особенной силой «призвание Пушкина, характер и направление его поэзии», которая якобы «выказывается более как чувство или как созерцание, нежели как мысль» (VII, 343–344). Но по предельной искренности поэтического выражения чувства, охватившего в данный момент поэта, по энергии самоосуждения, по высокому душевному порыву стансы «В часы забав иль праздной скуки», как и стихотворение «Дар напрасный, дар случайный», действительно принадлежат к замечательнейшим лирическим созданиям Пушкина.[111]111
В отличие от Белинского, исследователи в наше время или проходят мимо этого стихотворения, или дают ему неверные, как я считаю, истолкования. Так, автор новейшей монографии о лирике Пушкина полагает, что, поскольку поэт находился «в очень сложных и трудных условиях, когда с него фактически не было снято обвинение в авторстве „Гавриилиады“», он «учел серьезность создавшегося положения и ответил Филарету стихами». Этим явно берется под сомнение искренность ответа (Б. П. Городецкий. Лирика Пушкина. М. – Л., Изд-во АН СССР, 1962, стр. 358). В. В. Вересаев, наоборот, правильно подчеркивает, что стихотворение так искренне и сильно, что в нем никак нельзя видеть светски-расчетливого комплимента духовному сановнику. В то же время, ссылаясь на слова Вяземского, что Пушкин был «задран стихами его преосвященства», и на отзывы поэта о Филарете, из которых видно, что «лично к Филарету Пушкин питал очень мало уважения», Вересаев истолковывает стихотворение в духе своей концепции «двух планов», как плод чистого «воображения», не имеющий никакого отношения к реальному, биографическому факту («В двух планах», стр. 53–54). Однако слово Вяземского «задран» совсем не свидетельствует о возмущении Пушкина стихами Филарета (иначе действительно ответ ему был бы крайне странным), а, видимо, значит примерно: задет за живое, взволнован. Что касается пушкинских отзывов о Филарете, они относятся к значительно более позднему времени – 1834–1835 годам. Да и вообще Филарет представлял собой в ту пору фигуру довольно своеобразную, – по словам Герцена, «какого-то оппозиционного иерарха»: «Он был человек умный и ученый, владел мастерски русским языком, удачно вводя в него церковно-славянский… умел хитро и ловко унижать временную власть; в его проповедях просвечивал тот христианский, неопределенный социализм, которым блистали Лакордер и другие дальновидные католики. Филарет с высоты своего первосвятительского амвона говорил о том, что человек никогда не может быть законно орудием другого, что между людьми может быть только обмен услуг, и это говорил он в государстве, где полнаселения – рабы» (VIII, 130–131).
[Закрыть] К этому лишь остается добавить (для чего, заходя года на полтора вперед, и сделан этот экскурс), что пушкинские «Стансы» вместе с вызвавшими их стихами Филарета, в порядке внутренних художественных ассоциаций, точно соответствуют финальному акту все той же драмы библейского Иова. Там, в ответ на проклятия им своей жизни и судьбы, звучит божий глас; здесь, в ответ на аналогичные этому пушкинские стихи на день рождения, поэту звучит «арфа серафима», «с высоты духовной» простерта умиряющая его «буйные мечты» рука. Там: «…я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (XLII, 6), здесь: «Твоим огнем душа палима || Отвергла мрак земных сует». Наличие же этих несомненных соответствий лишний раз, как уже сказано, подтверждает, что в кругу аналогичных ассоциаций складывались и пушкинские «скептические куплеты» – стихотворение «Дар напрасный, дар случайный». Причем поэт логически развивает в них то, что, по существу, следует из «проклятий» Иова («Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек»; III, 3), прямо, без всяких обиняков отвечая на его недоуменный вопрос: «Кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны?» (IX, 17). Власть, воззвавшая поэта к жизни и осудившая ее на казнь, – власть враждебная. Примерно об этом же писал Пушкин еще в период следствия над декабристами Вяземскому, сравнивая «судьбу», тяготеющую над человеком, с «огромной обезьяной, которой дана полная воля» (XIII, 279). Вместе с тем в пушкинских стихах на день рождения нет ничего от благополучного библейского финала. Заканчивается оно горестнейшим признанием: «Цели нет передо мною: || Сердце пусто, празден ум || И томит меня тоскою || Однозвучный жизни шум», – признанием, в котором звучат уже не «вопли» испытуемого богом Иова («Нет мне мира, нет покоя, нет отрады: постигло несчастье», III, 26), а томления и безысходная тоска пушкинского современника, мыслящего русского человека второй половины 20-х годов XIX столетия. Недаром этот глубоко личный мотив будет вскоре объективирован Пушкиным, зазвучит с полной силой из уст пустившегося в «странствия без цели» Онегина.
Эпитет «однозвучный» (в творчестве Пушкина он встречается всего три раза и все три в одинаковом психологическом звучании) прямо ведет нас к «Зимней дороге» («Однозвучный жизни шум», – вспомним: «Колокольчик однозвучен»). Только здесь то, что связывалось с утомительной дорожной ездой (хотя уже и там под этим чувствовался более глубокий подтекст), прямо, в порядке широкого художественно-философского обобщения, распространяется поэтом на весь его жизненный путь. И уже не печаль, грусть, скука, как это было в «Зимней дороге», владеют душой поэта, а тяжелая, томительная, опустошающая тоска. Так круг тем и мотивов, начатый «Зимней дорогой», продолженный замыслом поэмы об Агасфере, «Тремя ключами», «Воспоминанием», замыкается стихотворением «Дар напрасный, дар случайный». Путь пессимизма, отрицания жизни, ее цели, ее смысла оказался пройден Пушкиным до самого конца, доведен до своего логического завершения.
Во всех этих стихотворениях непосредственно отразились мучительные переживания и тяжелые раздумья поэта о своей судьбе; вместе с тем они явились исключительно ярким выражением уже многократно указывавшегося мной тягчайшего общественного кризиса, глубокой депрессии передовых кругов тогдашнего общества. Но Пушкин сумел не только сообщить этим настроениям последекабрьской эпохи исключительную поэтическую силу, но и поднять их на высоту громадных художественно-философских обобщений, гениально отразивших, говоря словами Белинского, «диссонансы жизни», «трагические законы судьбы» и потому получивших неизмеримо более широкое – общечеловеческое – значение. Именно к этим потрясающим лирическим стихам-исповедям больше всего можно отнести его же утверждение: «Миросозерцание Пушкина трепещет в каждом стихе, в каждом стихе слышно рыдание мирового страдания, а обилие нравственных идей у него бесконечно…» (XI, 482). Недаром пушкинские «Три ключа» были, по свидетельству Некрасова, любимым стихотворением Белинского. «Но каковы его „Три ключа“? – восклицал в одном из писем сам критик. – Они убили меня и я твержу беспрестанно – „Он слаще всех жар сердца утолит“» (XII, 18). А Некрасов в той же дневниковой записи, сделанной им совсем незадолго до смерти, 16 июня 1877 года, отметил: «Я… когда-то очень любил стихотворение Лермонтова „Белеет парус одинокий…“ и т. д. А теперь все повторяю: „Когда для смертного умолкнет шумный день…“»[112]112
Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений, т. XII. М., Гослитиздат, 1953, стр. 27.
[Закрыть]
В стихотворении «Дар напрасный, дар случайный» духовный кризис поэта достиг высшей точки, дошел до последней черты. Но тут-то Пушкин снова, как в годы михайловской ссылки, выказал себя «богатырем духовным». Апогей кризиса явился и началом выздоровления. Выйти из «онегинских» настроений, одержать мужественную духовную победу и над самим собой и над окружающей мрачной действительностью, восторжествовать над настроениями тоски и отчаяния снова помог Пушкину его патриотизм, его вера в силу нации, в народ. Месяц спустя после стихов на день рождения Пушкин опять, вместо горестных воспоминаний о своей личной, не так, как надо, прожитой жизни («с отвращением читая жизнь мою»), обращается творческой мыслью к одной из самых героических страниц прошлого родной земли, возвращается к работе над «Полтавой» и на этот раз с необыкновенной стремительностью ее завершает. Мажорный, торжествующий пафос великого народно-исторического подвига, пронизывающий собой ряд мест поэмы и составляющий основной тон ее третьей – финальной песни, наглядно свидетельствует, что работа над ней стала для поэта источником нового душевного подъема, снова вызвала прилив бодрости и сил.
3«Полтава» была закончена в середине октября, в ноябре – начале декабря переписана набело; а 9 ноября того же 1828 года Пушкин создает стихотворение «Анчар», казалось бы не имеющее никакого отношения к только что написанной поэме, но на самом деле находящееся с ней в несомненной внутренней связи.
«Анчар» принадлежит к числу настолько значительных во всех отношениях стихотворений Пушкина и его творческих созданий вообще, что заслуживает подробного и специального рассмотрения. В отличие от многих других пушкинских стихотворений, «Анчар» неоднократно подвергался специальному исследовательскому изучению. Однако оно велось, причем именно в сравнительно недавнее время, чаще всего так неправильно и с таких позиций, что, как это ни парадоксально, результатом своим имело не раскрытие исключительно большого идейно-художественного смысла произведения, а, наоборот, затемнение этого, в сущности видного простому, невооруженному глазу, смысла, имеющего важнейшее значение для определения общественно-политической позиции Пушкина в годы после разгрома декабрьского восстания. Это привело к попыткам перенести одно из самых сильных и художественно значительных гражданских, «вольных» стихотворений поэта в отрешенную сферу так называемого «чистого искусства». В связи с этим произошло нечто еще более парадоксальное. Советское пушкиноведение сделало по сравнению с пушкиноведением дореволюционным огромный шаг вперед в текстологическом отношении. Именно в советские годы творчество Пушкина впервые смогло быть дано читателям не только в максимально полном своем объеме, но и освобожденным от всякого рода цензурных пропусков, замен, искажений. Сказанное относится буквально ко всему пушкинскому творчеству, но как раз за исключением «Анчара»! Текст «Анчара», который начиная с 1870 года правильно печатался в дореволюционных изданиях Пушкина, в подавляющем большинстве советских изданий, наоборот, публиковался в вынужденно-цензурном, то есть явно ослабленном виде. Привожу стихотворение так, как оно впервые было опубликовано в альманахе «Северные цветы на 1832 год» (вышел в свет около 24 декабря 1831 года):
АНЧАР, ДРЕВО ЯДА
В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит – один во всей вселенной.
Природа жаждущих степей
Его в день зноя[113]113
Зноя – видимо, опечатка, а если даже и вариант, то случайный и неустойчивый: во всех автографах Пушкина, так же как в цензурной рукописи, по которой стихотворение было напечатано в третьей части «Стихотворений А. Пушкина» 1832 года, – гнева.
[Закрыть] породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.
Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой, прозрачною смолою.
К нему и птица не летит
И тигр нейдет – лишь вихорь черный
На древо смерти набежит
И мчится прочь уже тлетворный.
И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей уж ядовит
Стекает дождь в песок горючий.
Но человека человек
Послал к Анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.
Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;
Принес – и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.
А Царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы,
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.
Однако в представленной в цензуру рукописи третьей части «Стихотворений А. Пушкина» (разрешена цензором к печати 20 января; вышла в свет в последних числах марта 1832 года) рукою П. А. Плетнева, который вел это издание, помимо несущественных мелких поправок были внесены два серьезных изменения: во-первых, из заглавия были убраны и отнесены в подстрочную сноску слова древо яда и, во-вторых, – и это особенно важное исправление! – слово Царь в первом стихе последней строфы было исправлено на Князь. Сделаны были оба эти изменения, можно с уверенностью сказать, не только с ведома Пушкина, но и прямо по его поручению. Совершенно очевидно это в отношении второй поправки, поскольку слово Князь вместо Царь имеется в черновых автографах «Анчара». Но столь же несомненно (дальше я подробно остановлюсь на этом), что оба эти изменения, в особенности второе (замена «Царь» на «Князь»), носили вынужденный характер. Это было ясно даже дореволюционным редакторам изданий Пушкина. В течение довольно долгого времени в собраниях его сочинений (первом посмертном, 1838–1841; в издании Анненкова, 1855; Геннади, 1859) явно по таким же цензурным соображениям «Анчар» печатался в том политически ослабленном виде, какой Пушкин был вынужден придать ему при повторной публикации (в третьей части «Собрания стихотворений»). И только во втором издании Геннади 1870 года редактору удалось воспроизвести первоначальный текст «Северных цветов». С этого времени именно данный текст правильно давался в качестве основного во всех последующих дореволюционных изданиях. Однако редакторы первого советского однотомника сочинений Пушкина, выпущенного Госиздатом в 1924 году, многократно переиздававшегося и на ряд лет ставшего основным изданием пушкинских сочинений, Б. В. Томашевский и К. Халабаев снова вернулись к вынужденно ослабленному тексту «Анчара» издания 1832 года.
Вскоре после этого появилась в печати статья Н. В. Измайлова «Из истории пушкинского текста. „Анчар, древо яда“», в которой давалось обоснование опубликованному Томашевским и Халабаевым в качестве последней воли поэта, а на самом деле вынужденно измененному тексту стихотворения.[114]114
«Пушкин и его современники», вып. XXXI–XXXII. Л., Изд-во АН СССР, 1927, стр. 3—14. В выходных данных этого сдвоенного выпуска указано: «Начато набором в 1914 г.».
[Закрыть] Указывая, что «мрачное и загадочное творение Пушкина, – „Анчар, древо яда“ – этот таинственный образ, порожденный в далеких пустынях Востока, прошедший на пути к творческой обработке его нашим поэтом через истолкование науки и поэзии Запада, – всегда рассматривался комментаторами и исследователями Пушкина как одно из звеньев в ряду его „идеологических“ стихотворений, как одно из сильнейших проявлений его свободомыслия в зрелые годы», – Н. В. Измайлов продолжает: «Художественное задание в стихотворении затушевывалось, на первый план выдвигалось задание общественно-политическое, в духе протеста против деспотизма» (3). Решительное оспаривание этой «давно возникшей традиции» и составляет пафос статьи Н. В. Измайлова.
Пытаясь доказать, что сделанная при повторной публикации стихотворения замена слов Царь на Князь была свободным волеизъявлением Пушкина, не вызванным никакими внешними причинами (я постараюсь показать дальше всю неосновательность этого), автор пишет, что имеющееся в черновике «понятие Князь явилось здесь в соответствии с общим построением стихотворения. Пушкин старался придать ему вполне конкретные, этнографически-локализованные черты, выдерживая в духе восточной легенды, а не отвлеченной аллегории» (7). Неясно, почему автор считает понятие Князь соответственнее восточной легенде: в применении к главам первобытных восточных племен оно не менее условно, чем понятие Царь. Но самое главное, что Измайлов совершенно не объясняет, почему же Пушкин, печатая в первый раз стихотворение, изменил имеющееся в черновиках и куда более политически нейтральное слово Князь на Царь, то есть, с точки зрения исследователя, нарушил «дух восточной легенды» и пустился в область «отвлеченной аллегории». Ведь уж для такой-то замены (в противоположность последующей замене слова Царь на Князь) никаких внешних цензурно-политических побуждений, понятно, быть не могло!
При изучении произведений художественного слова очень полезно бывает обращение к их черновым рукописям, дающее возможность войти в творческую лабораторию писателя, проникнуть в самый процесс его творчества. Выясняя, от чего писатель отказывается, что отбрасывает в ходе работы над данным произведением, что прибавляет, что и как изменяет, начинаешь лучше понимать существо авторского замысла и связанную с этим телеологию – целенаправленность – творческого процесса. Но при этом, конечно, никак нельзя подменять окончательный текст, в котором авторский замысел и выразился с максимальной идейно-художественной силой, предварительными, черновыми его вариантами. В особенности недопустимо делать это в том случае, если мы не имеем никаких оснований подозревать внешнее принудительное давление на волю автора, наличие связанной с этим автоцензуры и т. п. А именно таким неправильным путем и идет далее Измайлов в своей попытке полностью отклонить общепринятое до этого истолкование «Анчара» как замечательного образца гражданской поэзии Пушкина и, взамен этого, вскрыть то, что он называет «художественным заданием» поэта. Строка о рабе: «И тот послушно в путь потек» – в черновиках имела варианты: «И смелый», «И тот безумно в путь потек —», «И тот за ядом в путь потек —». А вместо строки: «И к утру возвратился с ядом» – было: «И возвратился с ядом», «И возвратился безопасно», «И возвратился с ним послушно». Исходя из этих черновых вариантов, Н. В. Измайлов пишет: «Выделим промежуточную редакцию, на которой Пушкин не остановился, но которая для нас именно интересна: „Но человека человек || Послал к Анчару самовластно, || И тот за ядом в путь потек – || И возвратился безопасно“. Итак, – заключает исследователь, – по первоначальному замыслу, посланный раб возвращается „безопасно“, доставив своему господину яду для стрел. Этим меняется вся концепция стихотворения: в нем нет помину ни об „идеях свободы, гуманности“… ни о „самодержавии и рабстве“; не стоит в центре стихотворения мысль о „роковой, губительной для человеческого счастья власти человека над человеком“. Не раб – случайный исполнитель – герой его. Два образа в нем противопоставлены: Анчар, древо смерти, воплощение неумолимой судьбы, и Князь – человек, повелевающий самой судьбою и смертью. Развивается же столкновение человека с роком на образном фоне восточной легенды, поразившем художественное воображение Пушкина. Позднее поэт убедился, что безопасное возвращение раба ослабляет впечатление; он ввел мотив его смерти для усиления трагического эффекта, но это не изменяет дела по существу: раб остается все тем же пассивным и послушным орудием, погибающим между двух сил. И напрасно искать у Пушкина сочувствия погубленной человеческой жизни» (12–13).
Заменить окончательный текст «Анчара» черновыми вариантами, якобы только и вскрывающими подлинное «художественное задание» поэта, – на это, хотя это и было бы логически последовательно, Измайлов, понятно, не идет. Никак не объясняет он и того, зачем Пушкину понадобилось при отделке стихотворения затемнить этот будто бы первоначальный замысел. Но вообще так истолковывать смысл «Анчара» – это значит прямо поставить все с ног на голову. Что же касается утверждения автора, что в стихотворении Пушкина «напрасно искать…сочувствия погубленной человеческой жизни», – достаточно напомнить строки о «бедном рабе», умершем «у ног непобедимого владыки», чтобы стала ясна вся безнадежность отрицания одной из самых существенных основ пушкинского творчества – его пронизанности «добрыми чувствами» – и, наоборот, истолкования «Анчара» в совершенно чуждом Пушкину, по существу ницшеанском духе культа героя – «сверхчеловека» (дальше в рассуждениях автора появляется и само это слово).
Н. В. Измайлов один из видных и авторитетных современных исследователей-пушкинистов. И не стоило бы специально останавливаться на этой давней его статье, если бы она не явилась основанием для неверного печатания текста «Анчара» в подавляющем, как я уже сказал, большинстве советских изданий Пушкина, в том числе наиболее авторитетном академическом полном собрании его сочинений[115]115
После моего доклада об «Анчаре», прочитанного на Седьмой Всесоюзной пушкинской конференции в 1955 г., в дополнительный том к шестнадцатитомному академическому изданию Пушкина было внесено исправление: вместо «князь» следует читать «царь». Пушкин. Полное собрание сочинений. Справочный том. Дополнения и исправления. Указатели подготовили С. М. Бонди и Т. Г. Цявловская-Зенгер. Изд-во АН СССР, 1959, стр. 25.
[Закрыть] и соответствующих этому комментариев, и в особенности если бы в некоторых работах последнего времени не возникли, в порядке неожиданного рецидива, тенденции к «разобществлению» (слово Горького) как этого, так и некоторых других особенно значительных стихотворений Пушкина, проникнутых высоким гражданским духом и пафосом подлинной народности.[116]116
Так, автор заметки об «Анчаре» в широко известном «Путеводителе по Пушкину» (1930) почти буквально повторяет основные положения статьи Измайлова. По этому же пути идет, по существу, В. Г. Боголюбова («Еще раз об источниках „Анчара“». «Пушкин. Исследования и материалы», т. II. М. – Л., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 310–323). Мои возражения автору см.: Д. Благой. Литература и действительность. М., Гослитиздат, 1959, стр. 344–345.
[Закрыть]
Неверно, как правило, решался и вопрос о литературных источниках «Анчара». Строя национальную русскую литературу, Пушкин не только продолжал и развивал отечественные традиции, но и опирался на богатейший опыт предшествовавшего и современного ему мирового литературного развития. Сопоставление в сравнительно-историческом плане его произведений со схожими или параллельными явлениями других литератур само по себе весьма плодотворно, ибо дает возможность нагляднее установить не только индивидуальное своеобразие, но и национальную самобытность его творчества. Однако, вместо такого сопоставления, большинство комментаторов того же «Анчара» шло по столь распространенному одно время в нашем старом литературоведении пути механического накапливания все новых и новых литературных параллелей, в результате чего замечательнейшие и оригинальнейшие в целостном существе своем создания русского национального гения представали в качестве своего рода мозаики всякого рода «влияний» и «заимствований». Так, в связи с «Анчаром» назывался ряд произведений западных поэтов – Эразма Дарвина, Байрона, Кольриджа и других, – в которых имеются упоминания об ядовитом дереве, растущем на острове Ява (местное название – «погон-упас», что значит «дерево яда»; это название также было известно Пушкину: в его рукописной тетради с черновиками «Анчара» за несколько страниц до них записано его рукой: «Upas, Анчар»). Измайлов оговаривает, что в своей статье он оставляет в стороне вопрос об источниках «Анчара», но тут же, в соответствии с общим ее духом, выражает уверенность, что они, «несомненно», находятся «в западной литературе», и сообщает, что «разысканию их посвящена в настоящее время совместная работа Н. В. Яковлева и пишущего эти строки» (3). Работа данных исследователей на эту тему не появилась, но в 1934 году в пушкинском томе «Литературного наследства» была опубликована «Заметка об „Анчаре“» Д. П. Якубовича, автор которой в качестве возможного литературного источника «Анчара» называет мелодраму английского драматурга XVIII века Джорджа Кольмана «Закон Явы». Сюжет мелодрамы не имеет решительно ничего общего с «Анчаром», за исключением того, что король Явы в качестве наказания, равносильного смертному приговору, посылает героя собрать и принести ему яд с «древа Явы». Но, указывает Якубович, в одном «стихотворном монологе» героя «легко усмотреть черты, близкие „Анчару“». Действительно, в этом монологе содержится описание «древа Явы», которое «на много верст грозит погибелью и… все растущее своим дыханьем губит. Из чьих пределов даже хищный зверь… уходит прочь, трепещет». Дальше упоминается об обычае на Яве, согласно которому приговоренному к смерти преступнику даруется жизнь, если он принесет яд, текущий из этого древа, чтобы король мог обмакнуть в него свои стрелы.[117]117
«Литературное наследство», т. 16–18, 1934, стр. 872–876.
[Закрыть] Сходство здесь, несомненно, есть. И тем не менее Пушкину, для того чтобы написать свое стихотворение, отнюдь не обязательно было вдохновиться мелодрамой второстепенного английского драматурга, о самом знакомстве поэта с которой никаких данных у нас не имеется. Наоборот, есть полное основание предполагать, что подробные сведения о древе яда он получил из другого источника, притом не принадлежащего к художественной литературе.