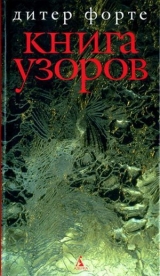
Текст книги "Книга узоров"
Автор книги: Дитер Форте
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
6
Подземный лабиринт, непостижимый даже для того, кто проводил свою жизнь в кромешной тьме, подобно горняцким лошадям, среди подъемных, вентиляционных и слепых шахтных стволов, среди горизонтов, пластов, очистных забоев, квершлагов, вентиляционных дверей и околоствольных дворов, кто, обливаясь потом, задыхаясь, ползал на карачках и лежа вгрызался в гору. Жизнь, слабо освещенная звездным небом шахтерских ламп там, под землей, ламп, которые передвигались вместе с работающими людьми, скапливались, складываясь в маленькие млечные пути, медленно перемещались по звездному небу подземелья, меняя за смену свое положение, вспыхивали то там, то тут, выходя на предписанную орбиту, а потом незаметно гасли во тьме горы. Этот ход вещей ничем не отличался от передвижения светил там, на земле, где звезды, подобно горняцким лампочкам, следовали по своим траекториям, не освещая тьмы, не напоминая своим сиянием, что там, под землей, тоже сейчас есть люди, – и вот все сливалось в единую ночь, в непроглядный мрак, в котором жизнь течет ровно и монотонно, и вся она – одно непрерывное движение, состоящее из работы и сна, внутреннее, из-за своего однообразия почти неуловимое движение в лабиринте, из которого нет выхода. Жизнь, от которой не уйти, жизнь, в которой ты – пленник, орбита, с которой не сойти. Неисчислимы и вечны огоньки шахтерских ламп в подземелье – неисчислимы и вечны звезды на ночном небе.
Йозеф Лукаш, у которого был свой огонек и свое место на звездном небе подземелья, когда он по ночам в постели, мучаясь одышкой, не мог заснуть, считал вовсе не божьи звездочки на небе, нет, он считал дни, когда ему довелось увидеть солнце, и, сколько бы он ни считал, всегда получалось, что их очень мало. Если Господь Бог создал звезды не для бела дня, то Йозефа Лукаша Он явно создал не для солнца, Он поместил его на небосвод подземелья, где Йозеф серьезно и сосредоточенно, шаг за шагом и год за годом, при свете своей лампы молотком, кайлом и киркой выполнял свою работу. Когда после смены он поднимался на поверхность, была уже ночь, и тогда он, погрузившись в любимые мечты, долго еще, часами, сидел у окошка своей хибарки, смотрел на округу, освещенную слабым светом звезд, на террикон, который рос с каждым днем, в том числе и благодаря его труду, и был уже выше того маленького домика, в котором он жил. Наподобие большой, тяжелой дамбы эта гора породы ползла на поля, разделяла реки и озера, которые образовывались из-за оседания земли. Земля, которая частенько врывалась в пустые штольни, оседала, если под слоем земли образовывались пустоты, – и тогда менялись русла рек и ручьев, возникали озера, в которых отражалось звездное небо, и Йозефу иногда казалось, что он сидит где-нибудь в дельте Обры между плотиной и водным пространством, которое то и дело меняет свои очертания.
Йозеф Лукаш, забойщик из Дальбуша, староста среди шахтеров, они сами его выбрали, несмотря на то что он был вестфальчиком – так называли всех, кто пришел из Восточной Польши. Ведь никто, кроме него, не умел так жестко и непреклонно вести со штейгером битву за зарплату. Никто, кроме него, не мог так точно определять, сколько угля здесь можно добыть, какой слой породы надо снять, рыхлая она или твердая и сколько времени нужно на постройку крепи. А если штейгер пытался зажать их заработок, Йозеф умолкал и терпеливо, не шевелясь, не говоря ни слова, начинал смотреть на штейгера. И штейгер понимал, что у такого человека, который буквально окаменел, который сам превратился в гору, много не выспоришь, и в конце концов требуемые деньги отдавал.
Он был среди них самым молчаливым и самым терпеливым, он мог сутками, не проронив ни слова, сидеть около угля в шахте и выжидать, когда, по его мнению, подземная погода станет благоприятной и можно будет орудовать молотком и киркой или когда устроить взрыв.
Он всю жизнь проработал забойщиком в Дальбуше и умер в своей кровати, которую придвинули к открытому окну, чтобы его забитые сажей легкие «ощутили хорошую погоду», как он сам выразился. Он умер, глядя на горящие на небосводе шахтерские лампочки, которые медленно гасли в утренних сумерках, умер от нескончаемого приступа кашля, выплюнув всю кровь своей жизни.
7
Густаву Фридриху Фонтана, машинисту локомотива прусского королевства, родившемуся в 1840 году в Изерлоне, суждено было, как и его отцу, начать и закончить свою карьеру в фирме «Киссинг и Мелльманн». Фирма экспортировала знаменитые кофейные мельницы с одногорбым верблюдом на этикетке по всему миру, вплоть до Южной Африки, имела филиалы и склады образцов в Париже, на рю де Паради, 21, в Амстердаме, на Бинненкант, 8, в Берлине, на Риттер-штрассе, 10 и 12 (в первом этаже), на Нойе-Петер-штрассе, 11, и Альте-Петер-штрассе, 43, во втором этаже, – то есть была фирмой с мировой известностью, в которой у его отца была небольшая доля капитала. Поездки агентов фирмы и их письменные рапорты об этом, которые его отцу приходилось изучать, создали в воображении юного Фонтана фантастический образ мира, который постепенно перерос в его заветную мечту. Хотя упомянутые адреса были адресами наиболее знаменитых филиалов, все-таки Фонтана не собирался стать управляющим одного из магазинов. Мир представлялся ему гораздо более подвижным, полным зкзотики и сюрпризов. Гордая, тщательно и заботливо выстроенная империя «Киссинг и Мелльманн» казалась ему какой-то душной крепостью. Он выучился на гравера – в угоду своему отцу, в угоду фирме «Киссинг и Мелльманн» и еще потому, что стать машинистом локомотива можно было, только получив законченное образование в области металлообработки. Позже отец одобрил его выбор: ведь в этой новой и, надо признаться, захватывающей профессии машиниста локомотива дух авантюризма и дух порядка так причудливо переплетались, что любой порядочный бюргер был бы доволен.
Вот так тяга к свободе обернулась строгой деловитой жизнью хорошо осознающего свой долг чиновника с годовым доходом в триста талеров – их выплачивали раз в год. Он женился на Генриетте Вильгельмине Айхельберг, дочери Карла Айхельберга, владельца фабрики металлических изделий в Изерлоне, купил впоследствии дом в Берлине, формально был членом тамошней общины гугенотов, и когда, стоя перед зеркалом, он застегивал пуговицы на своем мундире, проводил по ним для контроля рукой, привычным точным движением надевал фуражку и выпячивал грудь, то он был весь – воплощенная надежность.
Первые годы своей службы он провел в Дюссельдорфе, где на своем любимом «1-А-1» ездил по маршруту Кельн – Минден, который пролегал через всю Рурскую область – через Дуйсбург, Оберхаузен, Гельзенкирхен, Дортмунд, мимо шахт и стремительно растущих рурских городов, мимо гор угля, для вывоза которого и была, собственно говоря, проложена эта ветка.
Во время франко-германской войны 1870–1871 годов он перегонял эшелоны с солдатами на фронт, во Францию, через только что достроенный новый железнодорожный мост. Назад, в Дюссельдорф, он вез убитых и раненых и, выглядывая из локомотива, наблюдал, как выгружали солдат, которые еще совсем недавно ликовали и размахивали флагами, а теперь лежали тихо и неподвижно на носилках или в гробах.
Позже он стал водить локомотив «1-Б» прусских железных дорог из Берлина в Познань, видел на вокзалах толпы людей, окрыленных надеждой, которые стремились на запад, а потом разрозненные кучки разочарованных, которые возвращались с запада. Он видел страну, которая простиралась до горизонта и за горизонт, одинаковая и неизменная, и через много часов пути нисколько не менялась, бескрайняя, бесконечная, и рельсы несли его в эту бесконечную пустоту.
Он верил в будущее, чувствовал себя частью нового, стремительно меняющегося мира и радовался точной, безошибочной работе техники.
Когда его сын, тоже машинист локомотива, врезался в тупиковый упор и погиб из-за того, что кто-то ошибся и неправильно перевел стрелки, он до срока вышел на пенсию. Теперь он редко выходил на улицу, отрастил длинную белую бороду, глаза прятал за толстыми очками, а по вечерам завел обыкновение не менее часа читать Библию. Потом он заводил свои железнодорожные часы и, коротко кивнув жене, шел в спальню, раздевался, тщательно развешивал одежду на тяжелых стульях темного дерева с красной обивкой, ложился в постель и потом до утра, ночи напролет, слушал знакомые звуки, долетавшие с соседнего вокзала, заглушаемые тяжелыми портьерами и темной массивной, дубовой мебелью, и думал о своем. Отправление поезда, прибытие поезда, рычаг отпустить, регуляторы открыть – он ощущал легкое сотрясение колес, когда звякали хрустальные подвески на его ночнике, видел на потолке блики от прожекторов проезжающих мимо поездов; полосы отраженного света пробегали по цветастым обоям, он слушал жалобные, отчаянные свистки локомотивов.
Однажды утром его нашли в постели мертвым. Выражение лица у него было самое благостное.
8
Мария была доброй и кроткой, она последовала за своим Йозефом из далекой польской глубинки, где Йозеф с нею и познакомился, когда отправился из Гельзенкирхена в паломничество, в Ченстохову. По-немецки она почти не говорила, у нее была мелодичная польская речь, черные волосы, карие глаза, и на мир она смотрела с извечной печалью. Даже если она улыбалась, глаза ее с задумчивостью и тоской смотрели куда-то мимо, в другой мир, которого здесь, в шахтерском поселке, она не находила.
Она заботилась о муже, о сыновьях, но этого никто вокруг не замечал, она работала с утра до ночи, надежная, как часовой механизм, работала со спокойным терпением и молчаливой внутренней выдержкой, которую никогда не теряла на протяжении всей жизни. Она точно и серьезно выполняла изо дня в день свои обычные обязанности, полностью погружаясь в ту работу, которую делала в данный момент, причем делала всегда с такой тщательностью, будто каждое движение, наизусть ей знакомое, она выполняла впервые в жизни и потому сосредоточивалась на нем полностью, да, она всегда радовалась своей работе, и это придавало ее однообразному труду особую значимость, то достоинство, которое, пожалуй, ощущала только она.
Выпекая свой польский хлеб, тесто она месила целый час, не спуская с него глаз, да так усердно, будто это был некий святой обряд, с гордым смирением всецело отдаваясь служению тем людям, для которых работала, и в этом самозабвении не было ей равных.
Когда она стояла у плиты и орудовала раскаленными горшками, снимала их с огня или ставила на огонь, чтобы вовремя подать еду на сияющих тарелках; когда ей приходилось отдраивать на стиральной доске черные от угля, задубевшие от пота штаны и рубахи мужа и сыновей; когда она выжимала мокрое белье, выкручивая его своими сильными руками, а потом развешивала каждую вещь в определенном порядке на веревке в саду; когда гладила высохшее белье тяжелым утюгом, зашивала прорехи тонкими стежками; когда она с величайшей аккуратностью, с точностью до сантиметра, складывала те из вещей, которые называла своим приданым и на которых вышила свою монограмму – несколько простыней, пододеяльников, полотенец, – приглаживая их огрубевшими руками, потом укладывала их в особый ящик комода, опять легонько поглаживая ткань рукой, чтобы края белья легли ровнее, – это были для нее минуты счастья, которыми она наслаждалась в полном одиночестве и которые каждый день наполняли ее радостью.
Шахтерский поселок, который стоял среди чистого поля, недалеко от самой шахты, составлял весь ее мир. Она никогда в жизни его не покидала. Всю свою жизнь провела она в этом гетто из красного кирпича, где говорили в основном по-польски, жилье давали далеко не каждому, только забойщикам с большим стажем, и все они отлично говорили по-немецки, но польский был им все равно роднее, и дома они разговаривали по-польски, ведь дом есть дом. А если случалось ехать в Гельзенкирхен, то там тоже можно было пойти в польские лавки, где продавцы говорили по-польски, или в польский банк, если надо было отправить деньги на родину. Но Мария даже в Гельзенкирхен не ездила; если же надо было выправить какие-нибудь бумаги, она перепоручала это Йозефу, а сама оставалась в поселке. Она покупала все, что надо, прямо здесь, она знала каждый дом, каждого человека, знала о превратностях судьбы каждого в этом маленьком мире. Если она и выходила из дому, то только для того, чтобы проверить, не высохло ли белье, ровненько развешанное на веревке в саду, чтобы присмотреть за свиньей или насыпать корм курам, которые беспокойно квохтали в загородке. Она стояла и смотрела, когда Йозеф по вечерам копал огород, чтобы посадить картошку и капусту. По воскресеньям она наряжала детей, надевала свое лучшее платье и шла гулять по поселку, а когда погода бывала особенно хороша, то и по окрестностям, но не увлекалась, поскольку с одной стороны от поселка находилась шахта, а с другой – город и у Марии не было никакого желания видеть ни то ни другое. Ведь она осталась здесь потому, что ничего другого не искала, мир вне поселка и шахты для нее не существовал. Существовала только ее семья, дети, муж, дом, в котором все они жили. Большие города, железная дорога, корабли, другие страны и континенты – все это не имело для нее никакого значения, они ее не интересовали. Не читала она и газет. Она считала, что знает все, что ей нужно для жизни, и все, что происходит в мире и может повлиять на нее, она вовремя почувствует. Если случался кризис, мужу приходилось по праздникам выходить на работу или платили маленькую зарплату, она все равно была уверена, что справится с невзгодами, и не боялась. Если же заработки росли, она продолжала экономить, ни одного пфеннига не тратилось на безделицы. И далее если бы под гнетом обстоятельств рухнуло все, она выдержала бы и тогда, когда мужество теряли абсолютно все, – она встала бы утром и занялась делами насущными и никогда не задумывалась бы о завтрашнем дне, она работала бы целый день, а вечером, чуть живая от усталости, падала бы в кровать.
Вот так она и выносила все, что выпадало ей на долю, – и жизнь, и смерть, она по-прежнему трудилась, и отношение ее к работе не менялось. Она ухаживала за мужем и сыновьями, когда из забоя они возвращались полумертвые или смертельно больные, ходила за ними до самой их смерти, ухаживала и потом, когда они уже лежали на кладбище. Она работала ради своих внуков, постепенно состарилась, волосы у нее поседели, но держалась она всегда прямо, и ее старушечьи глаза по-прежнему печально, с тоской смотрели на мир, и когда однажды она заметила, что силы покинули ее, что работа теперь сильнее ее, что прежде в их поединке победительницей выходила всегда она, а теперь работа победила, то она опустилась на пол в углу спальни и стала биться головой о стену – и убилась до смерти.
9
Если смотреть с железнодорожного моста, то город странной кривой загогулиной лежал на берегу Рейна, который описывал здесь большую дугу. Рейн был могущественнее, чем город, он подчинил город (себе, и тот прижимался к реке с некоторой угодливостью, склонялся к ней подобно кривой башне городского собора Святого Ламберта, словно делавшей легкий книксен с вечной просьбой о том, чтобы следующее половодье затопило Нижний Рейн, но пощадило бы Дюссельдорф.
Лицом к суше, отвернувшись от Рейна, чтобы напрочь забыть о властительной реке, стояли небольшие домики, хозяева которых жили повернувшись спиной к воде и к плотинам. Они жили, работали, устраивали праздники, и надо сказать, праздников было немало. Поскольку времена были таковы, что особых причин для смеха не было, а за городской стеной тоже дивиться было нечему, ведь никаких крупных событий не происходило, – у жителей развилась замечательная способность прежде всего как следует посмеяться над собой, а также над мелкими превратностями жизни. Поэтому пьяный сосед с благостным выражением лица представлял для них замечательный повод для веселья, который нельзя было упустить. Такое веселье могло продолжаться годами, а чтобы не огорчать соседа, чтобы и он мог повеселиться вовсю, все вокруг напивались тоже и больше всего любили, если хозяйка после этого везла пьяного хозяина в тачке домой, а он бы еще и песни распевал. Соседи потом много лет подряд со смехом вспоминали о таких вот происшествиях. Забавы жителей были весьма скромны, но поскольку они обставлялись всяческими церемониями и граждане предавались им с большой обстоятельностью, то в городе уж никак не могло появиться слишком строгого отношения к труду, для такого отношения просто не было никакой почвы.
Не успевали горожане приняться за какое-нибудь дело, чтобы со всей ответственностью, то есть никуда не спеша, его выполнить, как начинался какой-нибудь карнавал, или ярмарка, или стрелковый праздник, к этому можно добавить целую серию именин в честь всех святых и не очень святых, христианские и нехристианские праздники, торжества в честь создания разнообразных обществ и юбилеи, когда уже сама обстоятельная подготовка к торжеству превращалась в праздник. А кроме того, были ведь еще и семейные праздники, на которые съезжалась вся окрестная родня, чтобы отметить дни рождения, именины, крестины, похороны, стараясь заодно и Дюссельдорф посетить. Не успевали у городских ворот проститься с одним родственником, как являлся следующий, везя гостинцы – сало и ветчину, картошку и капусту, а если в кои-то веки вдруг совсем никаких праздников не было, тогда хозяин какого-нибудь трактира откупоривал новую бочку, и огорчить его невниманием было никак нельзя.
Временами, когда с кем-нибудь случался удар, человек с удивлением обнаруживал, что жизнь-то прошла, но все равно умирал стойко, потому что здесь глубоко укоренились взгляды, которые были возведены в ранг своеобразной философии; один из постулатов гласил: «Ничего не поделаешь, такова жизнь. Прими ее такой, какая есть, и не робей, живи». Возразить на это было нечего, да никто и не возражал, истинность постулата признавали все. Так что и плохие, и хорошие времена они принимали с равным благорасположением, ибо, во-первых, изменить все равно ничего было нельзя, во-вторых, что есть, то есть, а в-третьих, что ты ни делай, все будет неправильно. Вооруженные жизненной философией, которая благополучно передавалась из поколения в поколение, горожане, как правило, с благодушием переносили уготованные им невзгоды – будь то собственная судьба или же политические перемены. Случались хорошие времена – и все считали, что, конечно, могло быть и лучше, но придется довольствоваться тем, что есть. А случались худые времена – и все считали, что все могло быть и хуже, поэтому надо радоваться тому, что есть. Таким образом, все предпочитали в жизни золотую середину, и это заставляло воспринимать события с изрядной долей скепсиса, но и с неменьшей долей юмора. «Питер, Питер, не робей, чарку полную налей!» – с такими самодельными плакатиками, которые всем очень нравились и надежно гнали всякую тоску прочь, все эти Питеры и их жены расхаживали по городу и провозглашали, обращаясь друг к другу: «Если нельзя ничего изменить, значит, так тому и быть».
Вот так оно и случилось, что в течение десяти дней этот город отпраздновал сначала возвышение их курфюрста до короля Баварии, потом – его свержение, после этого – появление нового Великого герцога, после чего приветствовали Наполеона, поэтому не оставалось времени, чтобы протрезветь и задуматься о том, принадлежали ли они теперь к Великому герцогству Берг, или же к Баварии, или к Франции. Простому обывателю бросалось в глаза только разнообразие и быстрая смена денежных знаков, которые он с ходу переводил на бочонки пива и только так мог оценить их стоимость, – и всегда получалось, что на каждую новую монету, которую власти вручали горожанам, можно было купить все меньше пива, и это был прекрасный повод тут же обменять новые деньги на можжевеловую водку и пиво. Жить в свое удовольствие – священнее этого постулата для них ничего не было, и священник мог манить их хоть райскими кущами, хоть грозить им адскими муками, все равно святое правило жизни: «Кому нужна плохая жизнь» – для граждан этого столичного города-резиденции никак не противоречило Божественным законам. И если бы какой-нибудь чужак во время этих непрерывных празднеств обратился к горожанам с вопросом, что они думают по поводу политических событий в своем городе и не смущает ли их то, что город при каждом удобном случае меняет правителя, то он получил бы чистосердечный ответ: «Ох, не стоит так беспокоиться на этот счет!»
Именно такой вот образ жизни горожан побудил Фридриха Фонтана, младшего сына Густава Фридриха Фонтана, поселиться в Дюссельдорфе и первым делом купить себе соломенную шляпу. Он лихо заломил ее на своей «балде» – так он обычно называл свою голову, – полный решимости провести грядущую жизнь без труда, забот и огорчений.








