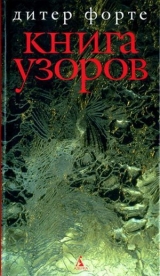
Текст книги "Книга узоров"
Автор книги: Дитер Форте
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
24
«Тяжелую, кровавую жертву принесла община этой долгой войне, самой большой и самой чудовищной в мировой истории. Сотнями исчисляются мужчины и юноши из Ротхаузена, которые на полях кровавых сражений принесли в жертву во имя Родины и Отечества самое ценное и дорогое – свою жизнь. Пусть многочисленные имена дорогих нам покойных навеки золотыми буквами будут вписаны в историю нашей общины».
Эти слова написал учитель Тобиен в той книге, которую вручили Марии в торжественной обстановке, с надписью от бургомистра. История общины Ротхаузена близ Гельзенкирхена в ржаво-красном переплете, таком же красном, как земля, на которой все они жили, книга истории той общины, у которой вовсе не было никакой истории до тех пор, пока в ее непаханой земле не нашли уголь и пока на угодьях Дальбуша не сделали проходку первой шахты, а потом появились и другие шахты, и среди разбросанных там и сям крестьянских лачуг возник первый шахтерский поселок, прямо через поля были наскоро проложены рельсы новой железной дороги, а вокруг все росли и росли шахты. Подобно тому как росли поселки золотодобытчиков вокруг золотоносной жилы в легендарной Америке, здесь, на легендарном западе Германского рейха, на Руре, города вокруг угля и железа быстро срастались в один гигантский город. История домишек, прилепившихся к шахте Дальбуш, завершалась великой войной, а в напечатанном красивым шрифтом приложении, где был изображен орден Железного Креста, содержался «почетный перечень павших воинов, которым сия книга да послужит вечным надгробием», как писал учитель Тобиен, и в этот список имена отца Марии Йозефа Лукаша и брата ее матери Франца Новака были навеки внесены не золотыми, но тяжелыми черными буквами. «Вечная наша память и благодарность павшим героям. Склонимся перед их именами. Пусть сей пример безграничной самоотверженности послужит гражданам образцом для подражания, образцом верного служения обществу, и тогда всходы нового времени, укрепленные героической гибелью этих честнейших людей, принесут нетленные плоды во благо и процветание нашей общины и нашей Родины».
Многие поговаривали, что учитель Тобиен уже произносил все эти слова на открытии памятника героическому кайзеру у главных ворот шахты. Героического кайзера переплавили, герои мертвы, а оставшиеся в живых сидели в ратуше на памятном вечере, все рядочком, словно на церковной скамье, собрались все близкие и дальние, самые близкие и совсем дальние родственники, которых нужно было называть «дядя» и «тетя», двоюродные и троюродные, и разбирались во всем этом хитросплетении родства только старики, родственники в большинстве своем жили в Гельзенкирхене или неподалеку от него, они образовывали разветвленный клан и, несмотря на все невзгоды, держались вместе, словно связанные единой нитью.
Рядом с Марией сидела тетя Жозефина, сестра матери, подарившая ей однажды маленькие сережки, за которыми они специально ходили в ювелирную лавку, где Марии проткнули мочки ушей, это было такое яркое воспоминание. У тети Жозефины было, как все говорили, фарфоровое личико, она была очень хороша собой, вышла замуж за учителя танцев, «не самый удачный брак», говорили все. Теперь на фарфоровом личике появились первые тонкие трещинки, Мария хорошо их разглядела, в уголках рта и глаз собрались морщинки, а веки непрерывно подрагивали, словно у куклы, которую все время вертят и не дают ей покоя. Ее муж на вечер не приехал, «он не любит нашу семью», говорили все. Он был лютеранской веры и вместе с тетей Жозефиной содержал школу танцев, Мария это знала, большую часть они сидели одни в большом арендованном ими зале и ждали, не заглянет ли к ним какой-нибудь смущенный юнец, чтобы научиться танцевать вальс и фокстрот.
Тетя Серафина, другая сестра матери, была незамужем, «ведь порядочные мужчины нынче перевелись», как все вокруг утверждали. Она находила отраду в церкви, куда наведывалась ежедневно, наряжаясь всегда с такой тщательностью, будто Иисус ждет там только ее одну. Она помогала всем, все ее любили, она ходила за больными, помогала по хозяйству, но стоило какому-нибудь мужчине положить ей руку на плечо, как она тут же вырывалась, бежала в церковь и исповедовалась.
Рядом с Паулем Полькой сидела его жена Анна, которую Мария тоже называла «тетя», хотя теперь она стала ей вместо матери. Все говорили, что она «работает за двоих», – «а говорит за четверых», всегда добавлял Пауль Полька, потому что она не могла работать молча, она делала что-нибудь и говорила, говорила, а голос у нее был не слабенький, поэтому все в доме слышали, что она сейчас делает, летом же, когда все окна были открыты, вся улица была в курсе ее дел. «Но уж сердце у нее зато какое доброе», говорили все, и это была правда, она заботилась обо всех и каждом, и Мария так мечтала, чтобы она побольше заботилась о ней и о Гертруд, но Анна больше всего любила высунуться в открытое окно, упереть локти в подоконник, она болтала, болтала, примечая все, что происходит на улице, и денно и нощно всем сердцем принимала участие в чужих заботах.
Тетя Кэте и дядя Генрих, собственно говоря, к их роду не принадлежали, но к ним относились как к близким родственникам и на семейном совете к ним прислушивались, почему – Мария не знала. Дядя Генрих, машинист паровоза, считался человеком, повидавшим мир, а тетя Кэте деятельно участвовала в судьбе всех детей рода.
Для Марии лица всех родственников, одетых в черное, постепенно слились воедино, они сидели прямо, с серьезным, озабоченным выражением лиц, все в один ряд, женщин было больше, чем мужчин, они «погибли на войне», так про них говорили, женщины прижимали к лицу носовые платочки, взволнованно всхлипывали, а немногочисленные мужчины, у одного из которых была только одна рука, а вместо другой пустой рукав, всунутый в карман пиджака, мужчины сидели с равнодушными лицами, нетерпеливо ожидая того момента, когда снова можно будет курить.
Мария никак не могла себе представить, что ее отец теперь – герой и Родина вечно будет о нем помнить, наверное, это просто так было написано в книге. Она часто по вечерам листала эту книгу, сидя на кровати, подобрав под себя ноги, при свете керосиновой лампы, и закладывала страницы письмами и открытками от отца и матери, и все написанное в них и в книге сливалось теперь воедино. Став взрослой, она могла поклясться, что последнее письмо отца напечатано в этой книге, но на самом деле это было не так. В этой красивой книге ничего не говорилось о ней, о Марии, и ее истории, ничего там не было о тех людях, которых она знала, о ее родителях, дедах и прадедах, о том, откуда они пришли, там были только сведения о росте численности общины да о постоянно увеличивающихся масштабах рудника и неуклонно растущей добыче угля, там было названо количество тонн, которое приходится на каждую шахту, и средняя цена, а также выражалась благодарность дирекции, которая, выйдя на заслуженный отдых после плодотворных трудов в Дальбуше, переселилась в Дюссельдорф.
Поэтому она все внимательнее вчитывалась в длинный перечень героев, ведь эти имена ей хоть что-то говорили, правда, кое-какие из этих имен пока еще представлялись ей совсем не героическими, зато они живо вставали в ее памяти: стоило ей только закрыть глаза, как мертвый герой с недокуренной папироской во рту спешил по главной улице, потом стоял у стойки в трактире, горланя песни, или фланировал в компании других шахтеров мимо главных ворот. Она добросовестно сосчитала все имена, потому что учитель Тобиен забыл это сделать, и у нее получилось 759 погибших. Столько домов у них и не было, сотни две – не больше, ну, на худой конец, четыреста, значит, на каждый дом приходилось по два человека погибших, да если добавить к этому раненых, ну, скажем, по четыре на каждый дом, и тех, что вернулись домой инвалидами, тогда получается целая шахтерская смена всех шахт Дальбуша, сколько же это семей-то всего, которым пришлось теперь перебиваться без мужа или без сына.
Германского имперского рейха больше не было, так говорилось в книге, но и род Лукашей почти прекратился, хотя об этом говорил только перечень героев. То и другое было тесно связано, хотя можно было подумать, что никакой связи здесь нет, – вот что было самым ошеломляющим во всей этой истории. Они пришли сюда в пору создания Германского рейха, и они умерли вместе с ним.
III
Время замерло
1
Открытая гноящаяся рана переливалась всеми цветами ореола святости – от синего и красного до зеленого и желтого с розовыми и фиолетовыми полутонами, это была настоящая радуга, в центре которой багрянцем пламенела рана; ее часто выставляли напоказ, как святые мощи, которые в положенный им час освободятся от тонкой пелены, и хлынет алая кровь, утверждая вечную истину и бессмертную память.
Густав, подвернув повыше штанину, таскался от кабака к кабаку, ведь эта рана была знаком чести и достоинства, в Обербилке она считалась пожизненным орденом, что вы хотите, герой революции, слуга Отечества, значит, всю жизнь пиво бесплатно, все признательно похлопывают по плечу, подмигивают доверительно с видом заговорщика, поднимают на прощание сжатый кулак, а те, кто там не был, интересуются и задают вопросы. Он сопровождал свои ответы размашистыми жестами, говорил с ораторским запалом, да, конечно, поражение, но не бесчестье; у тех и артиллерия была, и боеприпасов навалом, но город-то был в наших руках, мы провозгласили свободу да еще и бой приняли. В этом месте его речи неизменно раздавались аплодисменты, и все еще раз пропускали по рюмке водки ради такого случая, а Густав шел дальше.
Этим утром он, вытянув ногу на деревянной скамье, сидел в пивной «Роте Капельхен», так называлась забегаловка на углу, состоявшая из стойки-бастиона и трех маленьких столиков вдоль одной скамьи. И днем и ночью один и тот же мглистый свет погружал лица мужчин, брезжащие за пивными кружками и стаканами со шнапсом, в мягкую расплывчатость алкоголя, и только раздвижное окошко на улицу, через которое любопытные мальчишки просовывали внутрь стеклянные и фарфоровые кувшины, а потом забирали их, наполненные пивом, только это окно и связывало забегаловку с внешним миром, потому что дверь завешена была тяжелым, неподъемным войлоком.
«Все истории, вместе взятые, есть лишь одна единая история, но жизнь рассказывает множество историй и сбивает людей с толку, однако все истории приходят к нам из дальних краев, из Страны Соломона, они-то и есть та самая история людей и человечества, все, что произошло и что еще произойдет, – все есть в этих историях. Нужно верить в эти истории как в истину, ибо истина всегда была просто-напросто историей, но именно она наполняет жизнь, мир и даже самих богов своим светом. Я написал все это каллиграфическими буквами и собрал в одну книгу, где мирно спят все истории этого мира, чтобы люди с трепетом склонились перед ними и чтобы истинное знание о мире расцветало в умах и сердцах уверовавших».
Эти чеканные строки, которые у стойки в кабаке пана Козловского взывали к совести человечества, пытаясь достучаться до каждого сердца, служили прежде всего продаже маленькой белой книжонки за двадцать пять пфеннигов, которую все уже прекрасно знали и в которой много говорилось о скором конце света. Продавал их проповедник Кальмеской, как его называли люди, единственный в мире последователь Соломона, как он именовал себя сам. Он расхаживал в длинной черной сутане, как итальянский священник, без носков, в открытых стоптанных сандалиях, а волосы никогда не стриг, и они курчавыми локонами падали ему на плечи. На груди у него висела большая аспидная доска на красной веревочке, и каждый день он красным мелком угловатыми буквами аккуратно выписывал на ней одно из изречений царя Соломона, а вечером, поплевав на доску, стирал его рукавом сутаны, который был перепачкан мелом всех оттенков, чтобы на следующее утро написать новое изречение. Вооружившись таким образом, он разгуливал по улицам, останавливался, чтобы прохожие смогли прочитать изречение, и был очень доволен своей деятельностью. Он знал, что является единственным соломонистом в мире, священником, верующим и ведающим в одном лице, но он воплощал в себе Церковь будущего, и это придавало ему уверенности, тем более что уже почти сто тысяч человек, по его подсчетам, прочитали его изречения, а в том, что слово Соломоново окажет свое действие на тех, кому явлен уже свет истины, у него не было ни малейшего сомнения.
Биг Бен, который верил только тому, что видел, но не мог отрицать того факта, что в данный момент видит на доске слова: «Не злоупотребляй ни справедливостью, ни мудростью, ибо иначе ты погибель готовишь себе», и для проповедника уже одно это доказывало, что слово оказывает действие, так вот, Биг Бен больше верил в дела. Биг Бен в своем роскошном мундире стоял у стойки, как маршал Красной армии, он даже кивнул, соглашаясь, потому что тоже не отказался бы от хорошей истории, и заказал Козловскому джин на всех.
Если ему случалось работать, то он работал портье в разных ночных клубах и в своем ярко-красном мундире с золотыми позументами и шнурами выглядел «как генерал-квартирмейстер всех медных дверных ручек и распашных дверей» Дюссельдорфа, он жил «чаевыми буржуазии», а если на чай давали слишком мало, то он брал несчастного буржуа во фраке за грудки и кричал, что ему, мол, самое время строить Ноев ковчег и сажать на него хотя бы несколько дам и господ, трезвых или пьяных – неважно, чтобы сохранилось хотя бы несколько образчиков этой разновидности людей, потому что грядет девятый вал пролетарской революции.
А мундир он не снимал целыми днями, ведь другой приличной одежды у него не было, и дети с восторгом смотрели на него на улице, думая, что это цирковой шталмейстер. Жил он у своей матери, которая целые дни просиживала у окна за занавеской, напоминая сморщенную изюминку, и экономила каждый пфенниг ради своего сына, и, надо сказать, ей удалось скопить денег, чтобы сын съездил в Лондон, там он обозрел Национальную библиотеку и тот самый зал, где работал Карл Маркс, вернулся домой и сообщил: «Да, этот дядька прочел много книжек».
И каждый день он рассказывал свою любимую историю о том, как однажды, когда великий Крупп вошел в двери отеля «Брайденбахер», Биг Бен на минуточку, просто так, поднял его на руки. Крупп три минуты просидел у него на руках, не шевелясь. А когда Биг Бен снова спустил его на пол, Крупп снял перед ним цилиндр, вручил ему свою визитную карточку и тут же, с ходу, предложил ему место на вилле Хюгель. Он, Биг Бен, отклонил это предложение под тем предлогом, что на этой вилле все равно скоро будет устроен дом отдыха для трудящихся. Крупп ответил, что это совпадает с его планами и что он был бы очень рад избавиться от старой развалюхи, но сказал, что если до этого дойдет, то он просит зарезервировать для него, Круппа, местечко на вилле Хюгель. И он, Биг Бен, ему это пообещал. А потом они оба, рука об руку, Крупп во фраке и он в своем мундире, прошли через весь Старый город и заглядывали в каждую забегаловку, куда Крупп раньше и войти-то не решался. В завершение сего похода они посетили даже местную пивнушку «Де сиббе лююс», а закончили свои приключения в «Хансенс Пенн». «Хансенс Пенн» была та самая пивная, где хозяин ночью натягивал веревку от одной стены до другой, продернув ее под мышками у посетителей, которые явно собирались здесь уснуть, и таким образом всего за пять пфеннигов они могли здесь отоспаться в слегка подвешенном положении. Каково же было ликование присутствующих, когда утром, как только хозяин выдернул веревку, Крупп свалился в уже приготовленный тазик для умывания. Разумеется, все понимали, что на самом деле такой истории быть не могло, но уж больно она была хороша, к тому же это была история Биг Бена, и всем хотелось слушать ее без конца. Удивляло только то, что в конце рассказа Биг Бен показывал всем присутствующим визитную карточку Круппа.
За столом рядом с Густавом, в поле зрения знаменитой раны, сидел полицейский Шмитц; поблагодарив, он отказался от предложенной ему рюмки джина и продолжал в задумчивости ковырять яйцо вкрутую, пытаясь совместить и сложить воедино, как мозаику, все те четыре истории про ногу Густава, которые всякому были известны, потому что он был полицейский и ничего, кроме полицейского протокола, вообразить себе не мог.
Вильгельмина готова была поклясться, что эта рана была у Густава еще в раннем детстве. Биг Бен был уверен, что это дело рук реакционера, который попал в Густава камнем. Пан Козловский готов был руку дать на отсечение, что Густав просто свалился с лестницы, когда спускался в винный погребок. Густав, после некоторого раздумья, решился в пользу той версии, что он только протянул руку за супом, стоя у раздачи, у котлов солдатской полевой кухни, как сбоку рикошетом ударил осколок, бог его знает откуда, и…
У полицейского, таким образом, было четыре истории, которые с точки зрения процедуры криминального расследования назывались противоречивыми, но он уже усвоил, что в этой части мира, где ему пришлось нести свою службу, жизнь состояла из сплошных противоречий. Да что там говорить, и его собственная личность складывалась из противоречий, ведь полицейского Шмитца на самом деле звали Гранжан О'Фаолэн. Его дед приехал из Ирландии, работал инженером у Мальвани и через некоторое время, поскольку люди не могли выговорить его имя и, к его досаде, называли его просто «англичанин», переименовал себя в Смита, а из Смита получился потом Шмитц. Когда его дочь вышла замуж за бельгийца, инженера по имени Гранжан, все по-прежнему пользовались фамилией Шмитц, потому что и бельгийское новое имя не так-то просто было выговорить, а их сын, который чтил имена своих предков и всегда подписывался полным именем «Гранжан О'Фаолэн», – и есть наш полицейский Шмитц. Этим полным именем он подписывал все протоколы, когда же в полицейский участок прибывал новый стажер и, наткнувшись на странное имя, вопрошал: «Это кто же у нас такой?» – старшие товарищи успокаивали новичка, поясняя: «Так это же Шмитц».
Полицейский по имени Шмитц-Гранжан О'Фаолэн гордился своими курчавыми рыжими волосами, поэтому частенько снимал фуражку, с удовольствием проводил рукой по «кудряшкам», как их здесь называли, и отправлялся на обход своего участка, взирая на все с беспечным спокойствием, потому что его изобретательность в трактовке законодательной сути каждого деяния была поистине неисчерпаема. В небрежной позе, чуть склонив голову, наблюдал он за ходом многочисленных драк, прикидывая, спортивная ли это схватка или все же умышленное членовредительство, ведь в этом квартале было немало боксеров, а когда стоящие рядом зрители убеждали его, что участники драки, которые в данный момент вовсю бьют друг друга по физиономии, это на самом деле добрые друзья, то он прекращал схватку добродушным возгласом «брейк!» и шел дальше.
Так что в этом квартале были свои, особенные порядки. Тут и не всякое воровство считалось воровством. Все зависело от обстоятельств. Если украл безработный, а у него семья, то это не воровство, а если кто-то злоупотребил доверием своих же товарищей, то наказанием ему было всеобщее презрение, которое длилось годами, и этого бывало вполне достаточно, привлекать его к суду не было необходимости. А если кто-то, кровопийца и мучитель, недоплачивал своим же рабочим, то хуже воровства не было, и уж к такому обязательно наведывались в контору и обчищали ее как полагается, это называлось строгать спички, да и обстановочка в конторе после такого налета выглядела соответствующе. Таким образом, все делалось здесь как полагается и в соответствии с твердыми представлениями о справедливости, и полицейскому приходилось с этим считаться, тем более что людей в форме здесь вообще не очень-то жаловали, никто не мечтал стать жандармом, все предпочитали быть не казаками, а разбойниками.
Гранжан О'Фаолэн был исключением, он здесь родился, был гражданином страны, ему доверяли. Если он проявлял интерес к какой-нибудь истории, к какому-нибудь загадочному ограблению, которое не сходило со страниц газет, то он всегда получал честный ответ, ему подробно, в деталях, рассказывали, что произошло на самом деле и кто в этом участвовал. Так прямо записывать все это и протокол было нельзя, что побуждало Шмитца-Гранжана О'Фаолэна к употреблению витиеватых восточных выражений и восточной же интерпретации определенных правонарушений относительно собственности. За его рапортами, которые отличались сногсшибательными оборотами речи и особой человеколюбивой логикой, с прямо-таки философским интересом следил весь полицейский участок. Прочитать там можно было, к примеру, следующее: «Краденое было найдено в полном объеме, поскольку обвиняемый (ранее судимый) смог, приведя улики, доказать, что обокраденный (ранее судимый) сам совершил кражу этого краденого, поскольку фактический обокраденный (ранее судимый) вопреки нашим утверждениям утверждает, что он обокраден не был, и заявил о своем намерении оспорить наше утверждение в высших инстанциях, и посему краденое согласно официальным предписаниям с правовой точки зрения надлежит рассматривать как найденное, и в случае неявки каких-либо прочих владельцев по истечении установленного законом срока оно будет поделено поровну между тремя вышеозначенными лицами. Притязаний на вознаграждение за найденное никто из заинтересованных лиц не предъявлял».
В остальном же полицейское управление было в высшей степени довольно его работой. Если заваривалась серьезная каша, то есть имущественное преступление было налицо, и ребятки всерьез поработали у одного из ювелиров на Кенигсаллее или в драке один другому череп проломил, тогда преступник находился мгновенно, глядь – а он уже в наручниках, и Шмитц всегда прекрасно знал, какую птичку и где ему надо ловить, тут он мог рассчитывать на полное взаимопонимание у себя на участке, все-таки он был полицейским и дело свое знал крепко.
Козловский, который, стоя за своей грандиозной дубовой стойкой, начал уже проявлять нетерпение, выразился в том смысле, что, наверное, достаточно будет маленького протокольчика, – «и написать туда всю эту обычную чепуху». Гранжан О'Фаолэн с ним не соглашался: «Закон, закон прежде всего, а в данном случае мы имеем дело с военно-уголовным правом, тут шутки в сторону, вздернут – и все, тут хитрить нельзя», при этом он встал, взял из миски на стойке еще одно яйцо вкрутую и снова сел.
Поляк Козловский, отец которого был чернорабочим и оставил крохотное наследство, взял в аренду эту забегаловку на углу, которую все называли не иначе как «Дас роте капельхен» – «Красная часовенка», потому что, с одной стороны, здесь раньше была штаб-квартира Союза Спартака, а с другой стороны, Козловский оборудовал здесь самый настоящий домашний алтарь, ибо, говоря про себя: «Я поляк, и больше ничего, поляк до мозга костей», он был человеком весьма консервативным, поэтому в одном из углов своей забегаловки в полном соответствии с традициями своей родины устроил этот самый домашний алтарь. Распятый Иисус, увитый священными ветвями самшита, образ Девы Марии Богоматери Ченстоховской, портрет Его Святейшества Папы Римского, флаг Польши и флаг Германии, все это было слегка покрыто копотью, но зато из своего угла Козловский хорошо видел все свои реликвии. Подо всем этим еще недавно висел кроваво-красный плакат с призывом ко всем поспешить на митинг, где будут выступать Роза Люксембург и Карл Либкнехт, но, когда пришли солдаты, плакат спешно сорвали, и на четырех кнопках, которыми он был приколот к стене, до сих пор оставались обрывки красной бумаги, так что любому завсегдатаю было ясно, какой дух по-прежнему витает в этих стенах и что на этом месте по идее должно висеть.
Строгим католиком Козловский не был, но великому лону всеобъемлющей Матери-Церкви он ущерба наносить не хотел, как, собственно, и постоянных посетителей своих ущемлять не собирался, а они состояли исключительно из социалистов да коммунистов; когда он читал их программы, то находил в них много, по его словам, евангелического, но все-таки все они, как он считал, оставались христианами в этих программах. Церковь, по его мнению, заведовала жизнью вечной, а всякие там партии – жизнью повседневной, поэтому он цедил пиво из бочки, занимая промежуточное положение между Христом и Либкнехтом, Марией и Розой, одной партии ему было мало, он был и на той и на другой стороне.
Большинство постоянных клиентов Козловского снисходительно игнорировали его домашний алтарь при условии, что он будет развешивать все их плакаты, и он их всегда развешивал. Кроме того, его пивной подвал представлял собой надежное бомбоубежище, и никакая граната его не брала, у него были сносные отношения с весьма терпимым священником – и то и другое было немаловажно в известных случаях, а если в пылу пламенной общей сходки кто-нибудь начинал кричать, что-де этого парня, там, вверху на кресте, надо бы повернуть лицом к стене, Козловский кричал в ответ, что этому-то парню, который там, наверху, в любой момент можно доверить партию, в отличие от пресловутого Ленина.
Пан Козловский состоял из двух шаров, один сверху, поменьше, с добродушным выражением вареной свеклы, другой снизу, побольше, – тот был скрыт мощной стойкой. Эти два шара, связанные между собою и неподвижные в соответствии с неким законом инерции, могли молниеносно прийти в движение, элегантно огибали угол стойки, и тогда руки, балансируя и одновременно загребая наподобие лопат для угля, отвешивали затрещины направо и налево. Поскольку такие затрещины могли повредить барабанную перепонку или же так свернуть челюсть, что после этого три дня кряду приходилось питаться одной только жидкой манной кашей, забегаловка пана Козловского была вечным оазисом мира.
Биг Бен воспылал тем же нетерпением, что и Козловский, и сказал, что с этим делом нужно покончить немедленно. Пан Козловский позволил себе приблизиться к истине еще ближе и напомнил о падении с лестницы, да еще в столь юном возрасте… Кальмеской процитировал царя Соломона: «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки». Тут Гранжан О'Фаолэн, покончив со вторым яйцом вкрутую, вынул свою авторучку, отвинтил колпачок и официально, по-деловому, ответственно и аккуратно запротоколировал результат, запечатлевая его для вечности: «Рикошет в момент раздачи супа», а в скобках добавил: «Старая рана, полученная в детстве при падении с лестницы» – и подписался.
История есть история, можно в нее верить, а можно и нет, но иногда верить приходится. Отныне в нее верили все, хотя каждый знал свою версию, но теперь в ходу были две основные, одна настоящая и другая тоже настоящая. И это было совсем немного, ведь в квартале водились люди, у которых было по четыре разных биографии, и в каждом кабаке их называли разными именами, и при каждом перекрестном допросе в официальных инстанциях все четыре судьбы переплетались, превращаясь в непроходимые джунгли жизни, в которых можно было найти сотню убежищ и сотню выходов из каждого положения, и это длилось до тех пор, пока бедняга уже сам не начинал сбиваться и не мог понять, кто он такой на самом деле, и уже отказывался что-либо говорить, потому что его жизнь окончательно запуталась и между рождением и смертью он не находил уже ни одной точки опоры, за которую мог ручаться, ничего такого, что он сам мог принять за свет истины, и поэтому под конец ему оставалось либо со всем согласиться, либо все оспорить.
Полицейский Шмитц захлопнул папку, и на этом официальная часть закончилась, а разговор вновь вернулся к великой революции, к неисчерпаемой теме того года, и к вопросу, который был непосредственно связан с нею: как могло так случиться, что добровольческий корпус завоевал Обербилк, эту неприступную крепость? У каждого наготове был стандартный ответ: «Пушки, пушки»; «Надо было штурмовую группу против пушек бросить»; «Вместо того чтобы плакаты развешивать, надо было гранатометы купить»; «Связки гранат швырять в них с железнодорожной насыпи»; «С насыпи пулеметы строчили». Последнее мнение касалось и полицейского Шмитца, который лежал во время штурма на насыпи между рельсами, в общем-то на нейтральной полосе, и перед ним была поставлена задача оборонять вокзал. Он не знал, что ему делать, душа рвалась на две части, с этой стороны коммунары, там солдаты, а он лежит на путях со взведенным затвором, надо стрелять, но в кого?
В этот момент в пивную ворвались люди и закричали: «Фэн разыгрывает сумасшедшую!» Такого никто не хотел пропустить, все заторопились, зрелище получилось замечательное: Густав с засученной штаниной, Биг Бен в парадном мундире и Кальмеской в черной сутане и с аспидной доской на груди сломя голову бегут по улице. Шмитц-Гранжан О'Фаолэн отправился на свой пост, ведь тут дело было приватное и его не касалось.
Еще издали они увидели Якоба, отца Фэн, маленького тщедушного человечка, который, как взлохмаченный ворон, свешивался из окна и каркал: «Густав, Густав!» – подпрыгивая и размахивая руками, указывал на какую-то кучу барахла на улице и при этом чуть не вываливался наружу. Отец Фэн подметал улицы и был честнейшим человеком в мире, как он сам всех уверял, он по собственной инициативе рассказывал всем и каждому, что он-де чего только не находил и все честно возвращал: жемчуг и бриллианты, золотые украшения и часы, позолоченные портсигары и серебряные булавки для галстуков, бумажники и портмоне, полные купюр, документы и валюту, и он мог бы разбогатеть, мог завести себе собственный дом и хозяйство, но нет, все найденное он честно отдавал, он – честнейший человек на свете, и этого ему вполне достаточно.
Фэн, его дочь, у которой Густав жил и которая обеспечивала его всем необходимым, разошлась, как говорится, не на шутку. Рослая, сильная женщина, которая, когда входила в раж, от избытка энергии могла перетаскать из погреба на второй этаж центнера так два угля не запыхавшись, Фэн на этот раз опять вошла в раж, сняла большое зеркало с туалетного столика и выбросила его через окно на улицу, вынула выдвижные ящики и тоже все их пошвыряла вниз, потом одним рывком подняла туалетный столик, поставила его на подоконник, наклонила, двинула вперед и предоставила силе тяжести доделать начатое.
Когда собравшиеся убедились, что от Фэн пока ничего угрожающего ожидать не приходится, они срочно позвали Густава. Густав поднялся по лестнице: «Ты чего?» Фэн сидела в кресле развалясь, забросив ноги на подоконник: «А ничего. Еду я сготовила. А звать неохота было. И в кабаки чтобы ты больше ни ногой».








