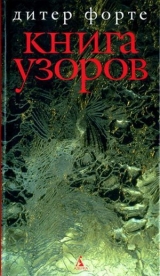
Текст книги "Книга узоров"
Автор книги: Дитер Форте
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
2
Дома стояли вплотную к башне копра. Кривые, черные от сажи стены лепились друг к дружке, невидимые в ночной темноте. Когда черные фигурки начинали двигаться, выходили из дверей, коротко кивали друг другу, молча брели к копру, то навстречу им шли другие фигурки, которые быстро исчезали за приоткрытыми дверьми, и их призрачные движения расплывались на фоне обшарпанных черных стен.
Колония домов росла по мере увеличения числа рабочих. А рабочие все прибывали и прибывали, они попадали сюда случайно, особо не выбирая, и так же случайно, кое-как, возводились стены, целый лабиринт из закопченных камней, который сводил вместе самые разные языки и становился темницей для людей из разных стран.
У Йозефа Лукаша тоже была за этими стенами своя койка, которую он покидал ночью и ночью же в нее возвращался, а между этими двумя ночами простиралась тьма горы, в глубь которой он забирался каждый день. Пятнадцати лет от роду он впервые вместе с другими, вцепившись в подъемную клеть, медленно соскользнул в глубину, глухой грохот стоял у него в ушах, спертым воздухом трудно было дышать, влажное тепло, поднимавшееся из шахты, грузной тяжестью наполняло его тело, скованное страхом. Образок Черной Мадонны, висящий у него на шее, прилип к груди, он тупо смотрел на шахтерскую лампу в своих руках, которая казалась ему последней надеждой в этом черном адском столпотворении. Это был свет, который он взял с собой оттуда, сверху, и который во время работы постоянно напоминал ему о том, что есть не только тьма горы, но еще и свет дня.
Он навсегда запомнил свой первый спуск вниз, который показался ему бесконечным, хотя все это было уже далеко в прошлом, вспоминал свой страх, парализующий ужас этого спуска, приведший к тому, что, когда он добрался донизу, пришлось поддерживать его под руки, вспоминал отчаяние и дурноту в тот момент, когда он осознал, как глубоко под землю спустился.
Со временем это стало для него привычной, неизменной ежедневной работой, весь этот изнурительный труд в штольнях, в узких, обвалившихся проходах, где передвигались только согнувшись, а гам, где пласт становился совсем узким, работать можно было только лежа, в пыли, в грязи, в сырости, хватаясь в темноте за деревянные опоры или за породу, лежа на спине, на боку.
Во время коротких перерывов он смотрел на свет лампы, пока глаза не заболят, и видел солнце, отражающееся в водах Обры, вспыхивающее на воде, в которой быстро мелькали рыбы, сухо шуршал камыш, квакали лягушки, над которой кричала птица, делая в воздухе широкие, спокойные круги.
Потом снова наступала темнота, голоса и стук работающих молотками, стучащих и бранящихся мужчин вокруг него, глухой шорох отваливающегося угля, неумолимость горы, которая, пребывая в своей вечной ночи, ничего не отдавала даром, ни единого камня, ни куска угля. Перед ним была гора, в которой приходилось пробивать себе путь, опустошая ее непрерывными ударами молотка, вытаскивая один кусок за другим, гора, которая старалась ничего не отдавать. Потея от напряжения, она окатывала непрошеных гостей водой, одним махом заваливала карликовые штольни, которые они пробивали в ее великанском теле. Эта гора была так сурова, непреклонна и жестока, что часто у них оставалось только одно желание: заложить взрывчатку, устроить невиданный взрыв и смести эту гору с лица земли, чтобы в черную адскую дыру проникло наконец-то солнце, чтобы хлынул туда воздух и чтобы уголь лежал прямо на поверхности.
Но Йозеф Лукаш прекрасно знал, что за день он может пройти лишь несколько метров, что, трудясь непреклонно и терпеливо, работая равномерно день за днем, он лишь на несколько метров продвинется вперед. За этим трудом пройдет вся его жизнь, жизнь его детей, как и жизнь тех, кто придет следом за ним, а гора отдаст им за все это время совсем немного. Гора победит их всех, теперь он точно знал, но все равно они будут каждый день спускаться в штольню, это он тоже теперь знал. Все это было как жизнь: точно так же бесцельно и так же полно смысла. Йозеф Лукаш был теперь шахтером и гордился этим.
По воскресеньям он в черной тужурке и черных штанах, заправленных в сапоги, гулял с приятелями из своей смены по окрестностям, которые были столь же черны, как и одежда людей. Черны были дороги – по ним постоянно возили уголь, черны были луга, кусты и деревья – они почернели от угольного ветра, который дул с отвала. Они уже не замечали этого, ведь гора была черная, значит, и природа – черная, а небо – серое и на нем в дымной завесе – черное солнце.
Во время одной из таких прогулок Йозеф повстречал Марию, дочь шахтера, на которой вскоре и женился. Они переселились в один из тех маленьких домишек, которые строило правление шахты, и у них родились сыновья, и сыновья тоже стали шахтерами.
Сам Йозеф, как он и ожидал, остался в горе, с которой в последнее время сроднился, в которой он каждый день отбивал положенные метры породы, а когда гора с гулким треском раздавила все штольни и опоры, он почти не удивился, он принял это как свою судьбу, определенную ему горой. Никто никогда не узнал, сколько он еще жил, заваленный внутри горы; прошли годы, пока шахту снова открыли. Было найдено несколько тел, Йозефа Лукаша среди них не было, никто никогда не объявлял, что он умер, он лежит в горе, в местечке Даброва.
3
– Фонтана, Фонтана… Да-да, припоминаю, все документы на него должны были сохраниться. Этот Фонтана был из тех самых итальянцев и французов, которые жили у рыночной площади. Да, припоминаю. Дом «У старого собора», Марктплатц, 504, после смены номеров он числился под номером девять. Красивый дом. Говорят, он заработал много денег на оформлении дворца в Бенрате, лионский шелк туда поставлял, он ведь по шелку был мастер. А потом все свое состояние потратил на книги. Странный человек.
Дело свое он очень рано продал фирме «Кантадор и Циолина», переселенцам из Италии, которые тоже торговали шелком и ввозили шелк из Италии. Дом после его смерти отошел к одному из дальних родственников, о котором мало что известно, – к лейтенанту Диппи. Похоже, он только тратил деньги, и больше ничего. Был поклонником Дюссельдорфского театра, который располагался прямо напротив дома, а также любителем прочих развлечений. Кроме того, был постоянным посетителем у Лакомбле. Это такая кофейня на рыночной площади, с читальней, где можно было найти любые газеты и журналы. Так или иначе, в скором времени Кантадор получил в свое распоряжение также и дом и стал управлять лавкой в первом этаже. Торговля шелком и галантерейными товарами. Большой, солидный магазин, не какая-нибудь мелкая розничная лавчонка. Посетители – респектабельные семьи, господа муниципальные советники, да и сам бургомистр не раз захаживал. Пока не случилась вся эта история с Лоренцем.
Пруссаки появились здесь не так уж давно, в любом случае жители Дюссельдорфа считали, что без пруссаков жизнь была лучше. У нас был Кодекс Наполеона, а потом пришли эти со своим прусским земельным правом. Поэтому революцию сорок восьмого года здесь, конечно, встретили с восторгом. Дюссельдорфцы избрали Лоренца Кантадора руководителем гражданского сопротивления, и пошло-поехало. Революционные речи, Берлин высылает войска, жители Дюссельдорфа разрывают приказы о мобилизации в клочки, город в осаде. Дом Кантадора на рыночной площади становится главной штаб-квартирой. То и дело здесь бывают Лассаль и Фрейлиграт. Кантадор был вождем демократов. У Лассаля и Фрейлиграта за плечами был Рабочий союз и народный клуб. Они сидели в библиотеке и дискутировали ночи напролет. Лассаль писал статьи одну за другой, Фрейлиграт – стихи. В Дюссельдорфе его стихотворение «Мертвые – живым» знали наизусть все.
В сорок девятом году ситуация резко осложнилась. Доктор Нойнциг, школьный приятель Гейне, стоя на балконе второго этажа дома Кантадора, провозгласил революцию – можно сказать, прямо из кабинета покойного Фонтана. И снова события покатились своим чередом. Строительство баррикад, нападение на военных часовых, уличные бои… Армия стреляет по городу из пушек, много убитых и раненых, военно-полевые суды объявляют смертные приговоры, многих сажают в тюрьму – скверный год. Правительство объявило Дюссельдорф главным очагом анархии и беспорядков во всей монархии. Видимо, именно так оно и было, и на каждого жителя приходилось тогда по солдату. Когда Кантадор и Лассаль хотели устроить сбор денег в пользу семей расстрелянных граждан, им почти ничего не удалось собрать: столь велик был страх.
Кантадор находился под военным надзором. Он бежал в Америку и принял участие в Гражданской войне; говорят, что он командовал полком. Неизвестно, когда он умер и где похоронен. С торговлей шелком тоже было покончено, ведь всякий, кто переступал порог магазина, считался противником монархии. Магазин закрыли. Обыски шли один за другим, во время них был конфискован и вывезен архив и библиотека Фонтана. При Кантадоре все это еще сохранялось. Теперь книги полетели через окно на улицу, рыночные торговки вырывали страницы и заворачивали в них капусту, а документы, скорей всего, попали в Берлин, в Тайный государственный архив.
Тайный архивный советник и библиотекарь доктор Лакомбле, потомок того Лакомбле, что держал кофейню на рыночной площади, позаботился об этих документах. Он привел архив в порядок, многое перепел и попытался завершить начатую Фонтана работу. Кроме того, он кое-что мне рассказал, разные там истории из старины, про Италию, про Францию, я до сих пор некоторые помню. А зачем вам все это?
Нотариус шарил своими рыбьими глазками, спрятанными за толстыми стеклами очков, по стопкам документов, и его лысина покачивалась. Он вздыхал, вынимал из шкафа очередную папку, снимал очки, носовым платком протирал стекла, снова надевал очки и придирчиво смотрел на своего посетителя, который спокойно сидел в кресле у письменного стола и настойчиво задавал вопрос за вопросом, в этом кабинете, где на стенах были панели из темного дерева, где было душно и пыльно, а шкафы долгие годы никто не открывал, и где старик нотариус рылся, как в гербарии, громоздя горы бумаг на своем столе. Нотариус со стоном опустился в скрипучее кожаное кресло, которое стояло рядом с большой, по всей видимости висевшей прежде на стене, а теперь упавшей вниз, потемневшей картиной «Вид города Дюссельдорфа», и возвел взгляд к потолку, явно подчеркивая этим муки воспоминаний.
– Так зачем вам все это? Ведь это все давно забыто и прошло.
Густав Фонтана встал, застегнул темно-синий мундир – это была форма машиниста локомотива прусского королевства – и сказал:
– Именно потому, что это забыто и прошло.
Нотариус носовым платком отер пот со лба:
– Если бы революция по чистой случайности не началась в доме вашего двоюродного дедушки, все бы сохранилось, но теперь…
Густав Фонтана стоял перед столом нотариуса в задумчивости:
– Возможно, это вовсе не чистая случайность.
– Что вы имеете в виду?
– Все это не забыто, не прошло и не случайно.
– Такое высказывание впору вашему сумасбродному деду.
Густав Фонтана пожал плечами, провел рукой по двойному ряду пуговиц – пуговицы двумя дорожками разбегались к плечам, – надел форменную фуражку с крылатым колесом на кокарде и пошел к дверям нотариальной конторы.
– До завтра.
– Я все вам выпишу, что надо, – прокричал нотариус вслед.
4
«Мария и Йозеф, Мария и Йозеф» – стучали на стыках рельсов своими неутомимыми молоточками колеса мчащегося поезда. Мария и Йозеф – это было единственное, что не поддавалось забвению, столетиями никому и в голову не приходило выбрать другое имя. Мария и Йозеф, рождение и смерть, вода и суша, бескрайние болота, рыбаки на широких реках, крестьяне на маленьких клочках земли. Потом – большие плотины, которые построили в этой стране чужеземцы, хозяева нового мира, которые принялись делить воду и землю, разрушили древнее раздолье, воду по каналам пустили в море, а на узких полосках земли меж рек и озер поселили людей.
Они пришли сюда из бескрайней Польши, из Богемии, из просторов восточных земель. Мария и Йозеф обрабатывали землю, добивались от нее урожая, работали на ней как проклятые до самой своей бедняцкой смерти. Долгая, однообразная жизнь – но они забывали об этом, когда рассказывали друг другу бесчисленные истории. Чем страшнее нужда, беды и голод, тем чудеснее и волшебнее эти истории. Истории, которые были уже неотделимы от их жизни, смешивались с нею и заменяли ее, которые были старше, чем живущие сейчас люди, которые продолжали жить, когда об этих людях уже никто не помнил.
Мария и Йозеф, округ Лодзь, округ Краков, округ Лемберг, поденные рабочие на полях и переселенцы, которые кочевали, колеся по всей стране, и оседали в глуши, осваивая все новые клочки земли. Переселенцы из Богемии, торговцы хмелем и табаком. В роду у них всегда были свои священники. Мелкие крестьяне, жившие в дельте Одера и Обры, в районе Познани, в округе Бомст, немцы или поляки – они сами никогда не знали, кто они.
А когда землю снова поделили, на этот раз ее получили господа, которые жили в Берлине и полей своих никогда в глаза не видели, владельцы поместий, не знавшие толку ни в историях, ни в песнях, – и тогда совсем маленькими сделались поля у тех, кто на них работал.
Вот так стояли они на пашне, согнувшись в три погибели, уткнувшись глазами в землю, забыв про небо, которое, впрочем, тоже забыло про них, не чувствуя солнца, которое жгло им спины, мотыжа эту черствую землю и переваливая ее корявыми лопатами, убирая урожай с помощью старых, затупившихся кос и шатких граблей, стояли на этой тощей земле, которая за один день могла опять превратиться в болото и сгноить весь урожай.
Многие из них произносили загадочное слово «Америка», показывали рукой куда-то за горизонт, в поднебесные дали, и в один прекрасный день исчезали, а потом изредка слали письма, которые ходили по рукам, не обещая рая на земле.
Многие предпочитали махнуть на все рукой, они шли в поместье и нанимались на любую работу, какую им давали, на любых условиях, не сопротивляясь, покоряясь тому, что они называли судьбой, столь же неотвратимой, как лето и зима, как солнце и снег.
Но он не хотел становиться в очередь, которая каждую весну выстраивалась перед помещиками и их инспекторами, в ту длинную очередь – слишком длинную, как считали те, перед кем вышагивали эти люди, чтобы много часов спустя наконец-то решиться и выбрать себе служанку или работника, тех, кто будет возведен в высокий ранг услужения при господском дворе, тех, кто благодарно прижмется губами к протянутой господской руке в готовности отдать все, саму жизнь отдать за этого господина, выбравшего их в этом году.
Его отец ушел в шахтеры, в Даброву, не из-за денег, которые он там зарабатывал, нет, из гордости, из-за необузданной, никаким голодом и никакой нищетой неодолимой гордости. Это была гордость, которая питала всю его жизнь, гордость за свою работу, за то, что он может так много работать, чтобы кормить себя и свою семью на этой земле, несмотря ни на что, и, если надо, работать круглые сутки без сна, быть несгибаемым в труде, которым он побеждал свою судьбу, противопоставляя ей свою гордость, силу и выдержку. Он знал, что согнуть его может только смерть, и, пока он был жив, он стоял гордо выпрямившись.
Йозеф Лукаш, забойщик из рудника Кенигсхютте, стоял в последнем тамбуре поезда и сквозь узкое окно смотрел на железнодорожный путь, змеящийся и исчезающий среди фабрик, труб, домов, на быстро и неумолимо исчезающие между сигнальных огней рельсы, убегающие туда, откуда он пришел, и все стремительнее удаляющиеся вместе со шпалами и стрелками, по которым пробегал поезд. Быстро убегающая назад лента из гравия, деревянных шпал и рельсов, которая приковывала к себе взгляд и влекла за собой назад, вдаль, где рельсы спокойно и неподвижно лежали на насыпи, как будто никакой поезд по ним не мчался, как будто там, за горизонтом, где эти рельсы составляли прочный, надежный путь, лежало прошлое, и до него было рукой подать, и оно всегда было там, незабываемое и вечное, то прошлое, из которого он пришел.
Прозрачное голубое небо над бескрайними просторами болотистых земель, спокойный полет орла, крик полевого луня, который взмывал в воздух, гонясь за болотным лунем, оба поднимались высоко-высоко и потом камнем падали вниз. Токующие кроншнепы, которые, дребезжа клювами, сидели на маленьком холмике, из года в год всегда на одном и том же холмике среди высоких трав дельты, теплые и влажные земли которой привольно раскинулись под полуденным солнцем.
Когда поезд, резко дернувшись, остановился, Йозеф Лукаш оправил черную горняцкую тужурку с серебряными пуговицами, надел шахтерскую фуражку с серебряным галуном, с серебряным значком в виде молотка и кирки, украшенную пучком белых перьев. Он хотел ступить на новую землю при полном параде, со всеми атрибутами своей профессии – в наряде прусского горняка, он хотел вступить в будущее с той же гордостью, какой отличался его отец. Он выглянул из окна вагона и по складам прочитал название города: «Гельзенкирхен».
5
Загорелся сигнальный огонь «Путь открыт», начальник станции взмахнул флажком, Густав Фридрих Фонтана повернул рычаг на «полный вперед», отпустил тормоза и медленно открыл регулятор подачи пара. Пар с шипением пошел в цилиндры, и его локомотив, фыркнув, тронулся с места, таща за собой состав, свистя и выпуская клубы пара, выкатился из-под навеса вокзала, выполз из черно-белого облака дыма, который окутывал его коконом; коротко вскрикнул свисток, с ликованием воспевая свободу и долгожданное путешествие.
Он еще больше открыл регулятор пара, поставил рычаг на уровень нормального наполнения, и машина, разгоряченная, кипящая, дрожа от вожделения, заспешила вперед, покатилась, загремела, загрохотала по стрелкам, выбираясь на свободный, убегающий вдаль путь, потянулась прочь, словно готовая вот-вот взорваться, разгоняясь во всю силушку, магнетически притягивая рельсы, которые быстро исчезали под нею, а через секунду уже оставались позади.
Фонтана наслаждался этим мгновением разгона, этим кратким мигом, когда машина вольно набирала полный ход, а после этого оставалось только послеживать за ней, примечать сигналы, расстояние, которое преодолевалось с бешеной скоростью, боковые пути, которые с нахлесту, как удар кнута, исчезали под локомотивом, стрелки, со стуком пролетавшие под ним. Он чувствовал, как прогибается под ногами железный пол, как дух захватывает на поворотах, как жар обжигает тело, когда кочегар отворяет дверцу топки и забрасывает в красную пламенеющую дыру влажный черный уголь, и дыра, плюясь искрами, глотает подкормку. Он приоткрывал регулятор, и цилиндры выпускали маленькие белые облачка пара, шток поршня мощно ходил туда-сюда, а шатун толкал колеса, которые крутились на блестящих рельсах, как будто на одном месте, но все-таки они толкали поезд вперед, уверенно вели его через хитросплетение рельсов, сдерживали силу машины, выбирали верный путь, ведущий к свободе движения по рельсам, которые, подобно нитям основы, протянулись по всей стране и скоро опутают всю землю, которые ведут в будущее, которым можно довериться, которые соединяют города и страны, а все эти нити удерживает один навой, он их туго натягивает; и точно так же, как когда-то раньше ткацкий челнок с клацаньем проносился через все нити, – так и концы рельсов ритмичным стуком отвечали машине, которая по ним скользила и, подчиняясь стрелкам, перебегала на новую нитку путей.
Вертелись колеса, и шипение улетающего пара увлекало за собой людей, перевозило их в другие страны, вызывало передвижение целых народов. Фонтана видел, как они входят в вагоны и выходят из них на вокзалах; они устремлялись с востока на запад, с юга на север, и машина увозила их далеко, через весь свет, который представал перед их взором, раскрывался перед ними во всем своем многообразии. Люди, знавшие прежде только свою исконную, привычную родину, люди, для которых весь мир сосредоточивался на небольшом пространстве вокруг их собственного дома и на узком круге их жизненного опыта, теперь оказывались на родине других людей, оседали там, но зачастую никак не могли пустить корни, оставались чужими, безродные и бесприютные, отправлялись дальше, в другие места этой земли, в поисках родины, пытаясь превратить в новую родину все более отдаленные и чужие местности.
Поезд катился мимо всех этих деревень и городишек, которые бог его знает где находились, которые не образовывали больше единственного средоточия жизни на этой земле, которые теперь просто оказывались в одном из пунктов на пути следования поезда и были в лучшем случае станциями, на которых он делал остановку, маленькими цветными пятнышками, легким узором, нанесенным на ткань земли, ворсинками на тонкой тугой нити, натянутой между двумя конечными пунктами… Поезд ткал свой узор по всему свету – из стали и угля, из самого движения, из людских надежд.
Фонтана любил это неугомонное движение, этот ткацкий челнок, снующий туда и сюда по заданной траектории, любил момент отправления и свободу самого путешествия, которая тем не менее была строго ограничена и во времени, и в пространстве, ведь с виду свободная удалая гонка, безоглядное упоение неуемной силой заканчивалось с точностью до секунды на запланированном заранее вокзале, на заранее известном пути, в заранее известном месте, – как заканчивал свой ход челнок там, где заканчивался предписанный узор. Все это требовалось выполнить в точности, все точно рассчитанные движения следовало исполнять согласно предписанию, и когда он смотрел на свои железнодорожные часы, сверяясь с расписанием и глядя на подрагивающую секундную стрелку, которая вела за собой минутную, а та завершала час, то он мечтал уже о новом отправлении, о том мгновении, когда ощутит свободу и рванется вперед.








