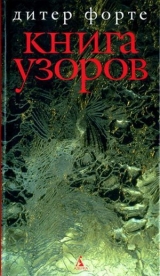
Текст книги "Книга узоров"
Автор книги: Дитер Форте
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
8
Мария взрослела, и красота ее была исполнена нежной меланхолии. Иногда она часами неподвижно сидела в своем кресле, глядя прямо перед собой, и, если кто-нибудь заговаривал с ней, она отвечала неохотно и не сразу, а когда осторожно интересовались, не случилось ли чего, может быть, болит что-то, она решительно отвечала «нет», отрицательно мотая головой, и снова углублялась в свой воображаемый мир, который находился в стороне от мыслей и чувств окружавших ее людей. Думает ли она о чем-нибудь, спросил ее как-то доктор Леви, она опять сказала «нет» и покачала головой и сидела, неподвижно глядя в пустоту, не шевелясь, словно под гипнозом, напоминая сомнамбулу, нежные черты ее лица как будто расплывались, темные глаза становились еще темнее, черные гладкие волосы были откинуты на подголовник кресла, тонкие руки она скрещивала на груди, словно защищаясь от чего-то. Мечтательная отрешенность прекращалась внезапно: Мария резко вставала, бежала вниз, врывалась на кухню и уже через несколько секунд принималась за приготовление еды.
Необычайно стройная и хрупкая, она носила давно вышедшие из моды платья графини, сшитые из дорогих тканей, она подгоняла их по фигуре, добавляла новые детали, и они снова становились модными. Больше всего она любила перешивать бальные платья графини: тончайший шелк, светящийся рубином, бирюзой и кобальтом, диковинные изысканные узоры, парча, расшитая золотом и серебром, шелковый атлас с вплетенными прямо в ткань жемчужинами, – и поэтому выглядела Мария, как царица Савская, о чем графиня однажды неодобрительно заявила во всеуслышание, в присутствии гостей, ибо Мария носила фартук только на кухне, а выходя в гостиную, немедленно его снимала, и Спорить с ней было бесполезно, графиня давно отказалась от любых попыток, как она выражалась, предписывать что-либо своей Марии.
Мария делала только то, что хотела, и ничего с этим было не поделать, тут она была непоколебима. Она не терпела никаких указаний, она сама знала, что надо делать, таков был ее обычный ответ. Когда графиня поначалу попыталась настоять на том, чтобы при гостях Мария обращалась к ней не на «вы», а в третьем лице, как это принято было в старину, то разразился скандал, и графиня долго еще сожалела, что ей пришло в голову выразить такое желание.
Мария вела хозяйство, она очень быстро этому обучилась, и вела она его так, как считала нужным. Она решала, какие необходимо сделать покупки, что сегодня будет на обед; когда случались приемы, она решала, какое блюдо за каким подавать, командовала поварихой, накрывала на стол и присматривала за тем, чтобы все шло как надо, вплоть до кофе и коньяка. Она определяла, когда пора делать генеральную уборку и когда – приглашать прачку. И поскольку Мария, несмотря на свою хрупкость и грациозность, могла неутомимо работать по двенадцать часов кряду, не чураясь никакой работы, следила за порядком в доме так, словно этот дом был ее собственный, то уже давно не находилось ни единого человека, который осмелился бы ей в чем бы то ни было перечить. Это был ее дом, и здесь все решала она.
Завоевать благосклонность Марии можно было только осторожными похвалами ее кулинарному искусству, но, если хвалили слишком откровенно, она сердилась, подумаешь, она и сама знает, что неплохо готовит, но, если хвалили умеренно и с толком, она коротко кивала, и если человек похваливал не раз, сохраняя достойные рамки, то он имел шанс подружиться с Марией. Она придавала большое значение хорошим манерам и презирала грубость чванливых краснощеких обжор, требовавших добавки.
Истинным искусником в умении осторожно находить контакт с Марией был доктор Леви, настоящий гурман, человек, для которого еда была частью культуры и которого Мария по этой причине выделяла, позволяя ему такие высказывания, каких не потерпела бы ни от кого. Когда однажды Мария вошла в гостиную в золотой парче и с волосами, коротко отстриженными под мальчика, у него непроизвольно вырвалось: «О, явление народу принца Александрийского». У графики перехватило дыхание от испуга, она не решалась разжевать кусочек песочного печенья, который только что положила себе в рот, Мария оценивающим взглядом пробежалась по гостиной, убеждаясь в том, что все чашки и блюдца, все поддонники и чайники, каждая сахарница, каждый молочник, каждый графин для рома, для ликера, каждая вазочка для печенья и для фруктов, каждая пепельница, все вазы и каждый цветок в каждой вазе занимают свое предназначенное им место. Выходя из гостиной, она быстро оглянулась и рассмеялась. Доктор Леви, почувствовав облегчение, разразился своим знаменитым оглушительным хохотом, хохотал он даже немного громче, чем обычно, тут же стыдливый смешок издала графиня, сидя по-прежнему с кусочком печенья во рту, наконец смеялись уже и гости, графиня была рада, что Мария рассмеялась, потому что в противном случае всем пришлось бы срочно убираться подальше. Позже графиня одарила доктора Леви, который столь легкомысленно поставил под угрозу мир и спокойствие в доме, строгим взглядом.
Однако эта игривая, а при гостях графини подчеркнуто легкомысленная манера доктора Леви, от души недолюбливавшего это собрание призраков, как он его называл, иногда наталкивалась на непоколебимые правила, которых придерживалась Мария. Когда однажды он выразил желание, чтобы роскошный рождественский стол на польский лад, эта череда блюд, одно вкуснее другого, ослепительный бордовый борщ, пироги с луком и сметаной, голабки с салом и майораном, неизменный карп и, наконец, в довершение этого великолепия, медовый пирог собственной выпечки, – короче, чтобы вся эта роскошь повторялась по большим праздникам, ведь жалко, что только на Рождество Христово бывает так вкусно, Мария холодно ответила ему, что все это – традиционная еда, а традиции следует соблюдать, иначе получится, что у нас каждый день Рождество.
Графиня поспешно взяла доктора под ручку, обмахнулась своим кружевным платочком и попросила его никогда не заводить с Марией разговоров о традициях, потому что это дело заранее проигрышное. Доктор Леви на этот раз сдался, задумчиво отметив, что польский рух – это, похоже, такая штука, которая сидит у людей в голове и в сердце и не связана с границами земель, и чем чаще ее передвигают по карте туда-сюда, тем надежнее укрепляется она в самом существе каждого человека.
Раз в месяц в доме появлялась гельзенкирхенская родня, толпа мужчин и женщин, одетых в черное, они налетали вдруг, как птичья стая, спрашивали всех о здоровье, с завистью разглядывали на кухне ветчину и колбасы, прибывшие из поместья, торжественно, черной вереницей сидели на стульях вдоль стены, словно грачи на жердочке, если заговаривал один, все тут же начинали галдеть наперебой, и поскольку все хотели сказать одно и то же, пытаясь завершить одну и ту же фразу, то постепенно, в зависимости от количества прибывших, складывался более или менее внятный хор. Они недобро косились на Марию, замечая, как быстро она взрослеет, и находили, что Мария выбивается из общей стаи, что из нее получилась эдакая райская птица, пестрые крылышки которой никак не уместятся в их ровном чернокрылом ряду, на их общей жердочке. Прежнее различие между Лукашами подземелья, работавшими во тьме, и Лукашами наземными, жившими на свету, вновь обозначилось.
Пауль Полька, которому вновь удалось собрать свои мысли в кучку, никогда не расставался теперь со своим кларнетом и носил его под мышкой в черном футляре, независимо от того, где был и что делал: сидел ли за домом в саду, прогуливался ли мимо шахты или же сидел вечерком у своего глухого отца за рюмкой шнапса или кружкой пива. «Кларнет у него всегда под мышкой», – хором уверяли все гельзенкирхенцы. «А ночью лежит наготове у него в постели», – добавляли они, ведь когда подкрадываются сны, выползая из заваленного бункера, он тут же спускает ноги с кровати, хватает кларнет и наигрывает несколько тактов. «И только тогда снова засыпает», – кричали хором гельзенкирхенцы.
Пауль Полька, который всегда говорил, что Мария унаследовала мягкий, мечтательный облик своего отца, его черные волосы, но, надо надеяться, к ней не перешла его меланхолия и что, надо надеяться, ей передалась хоть отчасти жизнерадостная натура ее матери – страсть к танцам и пению; итак, Пауль Полька, одолев всеобщее недовольное бурчание и уверенно солируя среди стихших голосов, громко заявил, что если речь идет о Марии, то ведь любую мелодию можно сыграть по-разному, главное – не сбиться с такта. Хор гельзенкирхенцев запортил свое выступление тем, с чего начал, говоря, что Мария похожа на отца «как две капли воды» и поэтому остается надежда, что ее гельзенкирхенская натура еще проявится.
Пауль Полька достал из футляра кларнет и, церемонно поклонившись, сыграл на прощание «Еще Польска не сгинела», и это был достойный реверанс в сторону «фон» Лукашей, а те выслушали песню с надлежащей благосклонностью. Затем вся стая удалилась, хлопая крыльями и щебеча, и во всеобщем гомоне слышалось все время одно и то же: «выбилась из общей стаи» и «похожа как две капли воды»; они уносили с собой ветчину и колбасы и вскоре исчезали за горизонтом, в последний раз помахав Марии, лицо которой белело в увитом плющом окне, а отзвуки их голосов быстро терялись под просторным небом Нижнего Рейна.
Над предчувствиями Марии, которые впоследствии не раз спасали жизнь ей и ее детям, все поначалу только смеялись. «Сегодня приедут гельзенкирхенцы», – она это знала, сама не понимая почему, но всегда оказывалось, что она права, – гельзенкирхенцы действительно приезжали. Наступали и другие события, которые Мария предсказала мимоходом, не думая, просто подчиняясь какому-то чувству. Мария не любила об этом говорить, это было ей скорее неприятно, тем более что все над ней подшучивали. Подшучивали до того самого дня, когда графиня сломала ногу: Мария умоляла ее не выходить в этот день из дому, рыдая от ярости, и не потому, что графиня обозвала ее глупой польской гусыней, а потому, что она села в коляску, не обращая внимания на предостережения Марии, и ее повезли лошади, при взгляде на которых сразу становилось ясно, что несчастье непременно случится. Когда графиню со сломанной ногой вытащили из-под опрокинутой коляски, она поклялась себе, что отныне будет прислушиваться к предостережениям Марии, но слова своего не сдержала. Когда летом они садились в поезд на Берлин, чтобы добраться до Познани, Мария, уже сев, внезапно вскочила со своего места, схватила вещи, выпрыгнула и, громко крича, стала требовать, чтобы графиня немедленно вышла из поезда, который принесет им несчастье. Тогда графиня схватила зонтик и, высунувшись из окна вагона, стала больно лупить им Марию, но Мария стояла на перроне как вкопанная, не шевелясь, и графиня, яростно молотя ее, так вывернула себе руку, что ее, стенающую от боли, пришлось вывести на перрон. До следующего утра дело оставалось неясным, а утром все прочли в газете, что в Марконии сошел с рельсов поезд, и доктор Леви, сверившись с железнодорожным расписанием, установил, что именно в этом поезде и предстояло ехать графине и Марии, и тут уж ему пришлось признать, что произошло настоящее чудо.
Поползли пересуды. Но Марии трудно было в точности описать свои предчувствия. Провидицей она не была, у нее просто появлялось какое-то смутное чувство, которое она не могла объяснить. Иногда это было недомогание, которое длилось неделями, и Мария все время находилась в подавленном состоянии до самого момента несчастья, и после этого недомогание тут же проходило, так что лишь потом становилось ясно, что оно означало, хотя за несколько часов до несчастья ее состояние настолько резко ухудшалось, что можно было определенно догадаться, когда оно случится. Или же озарения у нее возникали молниеносно, как это случилось в поезде, и тогда нужно было мчаться туда же, куда мчалась Мария, например на другую сторону улицы, а через секунду фургон с пивом врезался в прилавок ровно в том месте, где вы только что стояли.
Мария объясняла свои смутные чувства так: всеобщее несчастье, которое правит миром, вдруг начинало сгущаться вокруг нее. Ибо мир так или иначе казался ей постоянной, ежедневно и ежечасно повторяющейся катастрофой, воплощением хаоса, беспорядочными остатками незавершенного акта творения, где царили несчастье и разрушение, болезни и бедствия, страдания и смерть. Что такое счастье, она не знала. Чувство счастья было ей незнакомо, поэтому не было и предчувствий, которые указывали бы на радостные и приятные события. Радость и счастье всегда возникали только на фоне самых страшных ударов судьбы и были поэтому сомнительны, вызывали раздражение, казались обманной завесой, за которой скрывается несчастье. И если Мария с раннего утра порхала по дому, пела и смеялась от переполнявшей ее радости, она никогда не забывала добавить: «Пусть птичка утром радостно поет, под вечер в лапы кошке попадет».
Такими вот присловьями, запас которых был неисчерпаем, которые собирали и передавали из поколения в поколение, Мария сопровождала все события дня и ночи, ведь как только заканчивался день, сразу наступала ночь, а от ночи, кроме сна, ничего хорошего ожидать не приходилось, потом проходила ночь, опять начинался день, и было не угадать, что он принесет, оставались только предчувствия, и если верить этим предчувствиям, то ничего, кроме страшных событий, Марию впереди не ожидало. Защитой от таких событий могли служить только мудрость веков и меры предосторожности. Если дорогу перебегала черная кошка, нужно было немедленно повернуть назад, зайти в дом и начать весь путь сначала. Трубочист приносил несчастье, если шел тебе навстречу, но если он нагонял тебя, то надо было идти с ним в ногу, не отставать, и тогда через год ты найдешь клад, но при этом нельзя оглядываться на него через плечо, иначе на тебя немедленно обрушится несчастье. Если же в ухе зазвенело, «в левом вести золотые, в правом – черные, худые», то надо быстро подумать о любимом человеке, иначе вскоре ты останешься на свете один-одинешенек. Кладбище можно обходить только слева направо и ни в коем случае не справа налево, но только в нечетные часы, в четные – нельзя, тогда мертвецы тебя не тронут. А если в дом прокрался черт и из-за этого то и дело бьется посуда и не сохнет белье, то надо в полночь взобраться на крышу и налить в каминную трубу святой воды, вот и все, тогда черт сто раз подумает, прежде чем еще раз заявиться в твой дом. А вообще черт в любом обличье остается чертом, и если в темноте идешь через лес, то «нужно язык попридержать да что есть мочи домой поспешать», – вставляла свое веское слово графиня. И если день проходил без больших неприятностей, что для Марии было настоящим чудом, то случалось это только благодаря волшебной защите и благословенному действию всех этих древних поверий, и усилить их можно было крестным знамением, призывая на помощь нужных святых или же Святую Марию Матерь Божию, а еще – многократно повторяя одно и то же заклинание, но говориться все должно точно, без ошибок и оговорок, тут если ошибешься, скажешь не так, то слова не подействуют.
Всем этим присловьям конца и края не было, они рассчитаны были на всю долгую жизнь, и, вооруженная всем этим богатством, Мария, казалось, могла жить спокойно, но не успевала она с горем пополам пережить день, как начиналась ночь, а за нею опять день, и кто его знает, как оно обернется, разнообразные ужасы поджидали Марию на каждом шагу, но она не чувствовала себя несчастной, ведь она была исполнена решимости все на свете преодолеть, да и нрав у нес был стойкий, непреклонный, жизнь била через край, и до чего Мария любила всякие танцы, песни, на месте ей никогда не сиделось.
Все это у Марии уравновешивалось для нормального мыслящего человека совершенно непонятным и поэтому загадочным образом, в каких-то высших сферах, и равновесие между не такими уж важными повседневными делами и сутью своей жизни она находила в непостижимом, прямо-таки мистическом спокойствии. Судьба наверняка готовит ей еще немало испытаний, которые поставят под угрозу всю ее жизнь. Она это знала. Она это предчувствовала. Она бы не смогла все это выразить, но ощущала очень отчетливо. И тут было еще нечто такое, что никто не смог бы себе представить, потому что у большинства людей не хватало для этого фантазии и никто особенно не задумывался о том, чего можно ожидать от человечества; и даже если люди задумывались об этом, то никто из них все равно не заглядывал так далеко, как эта сновидица в своих кошмарных видениях. Мария ожидала от этого мира только самого худшего, кто-нибудь другой, нося в себе подобные мысли, давно бы расстался с жизнью, но Мария нашла для себя точку гармонии. Да, она ожидала самого худшего, и пусть оно настает, все равно когда, ведь она знала, что оно настанет, и еще знала, что она с ним справится, что она справится с чем угодно.
Если заклинаний было недостаточно, она со свечой в руках отправлялась в часовню Штоффелер возле кладбища, на ту окраину Обербилка, которая находилась в низине, в то место между часовней и кладбищем, между крещением младенцев и погребением умерших, где царили чудеса и поверья, увечные и паломники, молва и женские пересуды. Нижняя окраина была противоположностью верхней окраине жилого квартала, где царили разум и рациональность, труд и производство, шум, лязг и огонь заводов, где правили мужчины.
Путь сюда из Кайзерверта был дальний, но часовня Штоффелер была посвящена четырнадцати святым чудотворцам. Когда-то раньше здесь хранилась щепка от креста, на котором распяли Спасителя, это тоже придавало часовне святости, но все-таки святые чудотворцы были для жизни важнее: Мария точно знала, кто из них в какой беде помогает, и понимала, чего просить у Ахатия, Эгидия, Варвары, Блазия, Христофора, Кириака, Дионисия, Эразма, Евстахия, Георга, Катарины, Маргариты, Панталеона, Вита.
Но это она делала только в самых крайних случаях, больше она ни за чем в церковь не ходила, она не бывала ни на службах, ни на исповеди, ни у причастия. Мария исповедовала свою собственную веру, которая была ближе к тому древнему священному польскому дубу, чем любая церковная колокольня из камня при всей ее древности и почтенности, несмотря на священный трепет, который она внушала. То, что она пользовалась святой водой, было своеобразной данью уважения, зато священники вызывали у нее скорее неприятное чувство, ведь она выросла среди шахтеров и видела, как они мылись дома в чане с водой, и приходилось тереть им грязную спину, поэтому попытка какого-то мужчины велеречиво обращаться к людям, стоя перед самым алтарем и изображая эдакого ангела, казалась ей таким лицемерием, что она если и бывала в церкви, то садилась в самый последний ряд, и никакими силами нельзя было ее переубедить и уговорить сесть поближе. Все, кто ее знал, видели ее в церкви только в последнем ряду. Тем самым она избавлялась и от назойливых монахов, ходивших с церковными кружками, но, если кто-нибудь из них все-таки приближался и требовал у нее денег для церкви, одного взгляда Марии было достаточно, чтобы он поспешно ретировался.
У Марии был свой собственный бог, и все самое важное она решала с ним один на один, у нее была и своя собственная градация грехов, она знала, когда нужна была тихая молитва, а когда за невольную ложь приходилось расплачиваться тяжким трудом. Тут у нее никогда не было никаких сложностей, она была сама по себе, и никто не смог бы разобраться в этом сугубо личном храме веры, никто не понимал систему, по которой Мария строила свою жизнь и которая, согласно ее представлениям, состояла из труда, честности, скромности, порядочности и правдивости и в справедливости которой ни один человек и ни один священник никогда не мог ее упрекнуть.
Но свечка в часовне Штоффелер все равно в эту систему входила, такая помощь разрешалась в крайних ситуациях, в самых тяжелых случаях, и прежде всего Мария приходила сюда, чтобы воззвать к помощи Четырнадцати святых угодников. «Успокоительный чай из четырнадцати трав» – так однажды назвал эти походы доктор Леви, а Мария в ответ заметила, что умным людям часто недостает самого важного – способности понять суть вещей.
В те дни, когда Мария отправлялась в часовню Штоффелер, графине приходилось довольствоваться сухомяткой, потому что такой поход длился целый день, с утра до вечера, причем Мария времени не жалела и частенько шла обходными путями. Например, она по пути всегда навещала колонну Девы Марии возле церкви Святого Максимилиана. Дева Мария одиноко стояла на мощной, высокой колонне, скрестив на груди руки, словно ей было холодно, она стояла слишком высоко и была недосягаема для взывающих к ее помощи, длинные волосы ниспадали на плечи и спину, и венец из остроконечных звезд сиял у нее на голове. Она смотрела вниз, на землю, от которой люди ее оторвали, смотрела почти вертикально вниз, и, если встать у самой колонны и поднять голову вверх, можно было сразу погрузиться в мир видений, потому что лицо Девы Марии смотрело тогда прямо на тебя, а если на небе быстро бежали облака, то фигура святой начинала двигаться, она парила над тобой, улетая вместе с облаками, голова начинала кружиться, и можно было, теряя равновесие, так и свалиться на землю. Мария всегда стояла и смотрела до тех пор, пока не пошатнется, и в самый последний момент перед падением ей все-таки удавалось удержать равновесие. Ей это очень нравилось.








