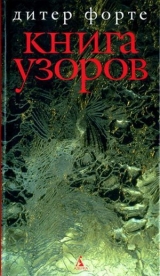
Текст книги "Книга узоров"
Автор книги: Дитер Форте
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
35
Жан Поль, самый упорный, решительный и принципиальный из всех троих братьев, женился в Изерлоне на молодой девушке, дочери аптекаря из Монпелье. Ее родители погибли во время бегства из Франции, и в Базеле она присоединилась к семейству Фонтана. Вместе с нею он вырастил четверых сыновей и двух дочерей, вместе с нею он попытался возродить дело Фонтана. Он был одним из «антрепренеров», которые за городом, а чуть позже в Фабричном городке у Западных ворот развернули свои мануфактуры, стали ткать шелк, хотя при этом прежние богатые ткани сходили с их станков крайне редко – теперь почти всегда требовался товар среднего качества, прежде всего для модных аксессуаров. Мода на всевозможные пряжки, которые прикреплялись на шелковые ленты, юбки и платки, вынудила фирму завести устойчивые связи с граверами и поставщиками металлической фурнитуры, которых в Изерлоне было хоть пруд пруди. Когда в моду вошли большие шляпы и юбки на обручах, фирма Фонтана стала сотрудничать с мастерской по изготовлению проволоки, а это ремесло в Изерлоне процветало с давних пор. Вместе они стали выпускать каркасы, обтянутые шелком, проволочные основы для дамских шляп, которые затем украшались шелковыми лентами и пересылались в Голландию и Лондон. Для юбок на каркасе они придумывали все более смелые конструкции, а предназначались эти каркасы для таких юбок, на которые шло много метров шелка среднего и высокого качества.
Когда Жан Поль умер, дело перешло к сыновьям, они отчасти вернули себе самостоятельность, стали изготовлять канделябры и столовые подсвечники из бронзы – изящные произведения, для создания которых требовались хорошие модельщики, формовщики и граверы. Шелка производили все меньше, потому что спрос был очень неустойчив. Непрерывные колебания налогов, изменение таможенных правил, континентальная блокада и таможенный союз, войны и нашествие Наполеона поставили шелковые мануфактуры под угрозу. К тому же появился новый конкурент – хлопок, новые автомагические станки ткали хлопок словно по мановению волшебной палочки, он быстро распространялся по Европе и постепенно проник на те рынки, которые считались законодателями мод. Даже привезенный из Лиона жаккардовый станок – автоматическая ткацкая машина, способная создавать сложнейшие узоры, уже не могла поправить дело.
Внуки Жана Поля покинули французское гетто гугенотов, они породнились с семьями изерлонских купцов и говорили в быту на смеси немецкого и французского. Фонтана сделались прусскими подданными. Один только Иоганн Фонтана сидел за старинным ткацким станком и ткал старинные шелковые ткани для узкого круга своих заказчиков. Его тело двигалось, как маятник, тот самый, древний как мир маятник ткача: сначала правая рука, потом левая, потом нога, челнок, батан, основа, правая рука, левая рука, нога, челнок, батан, основа и так без конца – та самая однообразная череда движений, из которой рождались узоры и ткани для королей, которая породила коронационную мантию императора Священной Римской империи Германской нации в 1133 году в благословенном Палермо. Когда в 1806 году Священная Римская империя Германской нации перестала существовать, а знаки имперского достоинства, в том числе и мантия, навсегда отправились в кладовые дворца Хофбург в Вене, ткацкая мастерская Иоганна Фонтана также прекратила свое существование.
36
Нельзя сказать, что Машенька находилась в вечном унынии, нет, скорее, она гордилась тем, что ее всегда постигали несчастья. Всю жизнь ей постоянно не везло. Она сообщала об этом всем, кто с нею разговаривал, и жила в неизбывной уверенности в том, что все, чему еще суждено случиться, принесет ей одни несчастья. Она была довольна этим, можно даже сказать, что она была счастлива.
Если в поле или дома происходило что-то неожиданное, она говорила со спокойной покорностью: «Такое могло случиться только со мной». Это говорилось со стоическим спокойствием, она была даже рада случившемуся, ведь она все предвидела и предсказывала все заранее своим насмешникам. Она несла свое пожизненное несчастье с гордой покорностью, а силы и выдержки у нее становилось все больше, ведь чтобы вынести все эти несчастья, приходилось быть очень сильной, и она была сильной.
На поле она поднимала сразу два снопа и смеялась над теми, кто мог унести всего один; сильно взмахивая своей большой косой, она скашивала вдвое больше травы, чем другие женщины, а когда требовалось дотащить до сарая телегу, с верхом груженную сеном, то она впрягалась в нее сама вместе с работниками. Вечером, когда все уже в изнеможении лежали в постелях, она прибиралась в доме, скребла, мыла, посмеиваясь над лентяями, которые после работы в поле, кряхтя, потирали ноющие поясницы.
«По мне, так работы много не бывает» – таково было ее жизненное правило, и она его гордо придерживалась, вот почему по деревне часто разносился клич: «Машенька, иди-ка сюда, подмоги!»
Машенька помогала всегда и всем. Если заболевала какая-нибудь крестьянка, Машенька между делом брала на себя и ее домашнее хозяйство, если какая-то женщина лежала в родах, Машенька выполняла роль акушерки, корова начинала телиться, когда хозяин был в поле, – она и тут помогала. Если что-то случалось с работником, она выгребала вместо него навоз из коровника, и все видели, что она делает эту работу быстрее и тщательнее, чем злополучный лентяй работник. И чем больше сил ома отдавала другим, тем больше энергии у нее прибавлялось.
Помогала она всем с большой охотой, но по вечерам каждый день жаловалась мужу, что всякий, кто нуждается в помощи, всегда приходит только к вей и ей приходится помогать всем и каждому. Но если кто-то шел за помощью не к ней и просил не ее, а кого-то другого, то на следующее утро она шла к этому человеку, вставала в дверях горницы и спрашивала, почему не послали за нею, неужто она чем-то не угодила.
«Машеньку трудно понять», – сказал Йозеф о своей жене Марии, когда она в очередной раз села в угол, заливаясь слезами и сетуя на весь свет, потому что ее не позвали, а ведь на нее сваливается в жизни так много несчастий, и всякий об этом знает, ну могли бы пожалеть ее и позвать, все всегда шли только к ней, ей приходится помогать всем и каждому, а теперь она, значит, никому больше не нужна, вот ведь всегда так – одни несчастья, и больше ничего.
Только Йозеф понимал бедняжку Марию. На ее долю в жизни приходилось ровно столько же счастья и горя, как и на долю всякого другого человека, но счастье свое она тут же забывала или, может быть, вовсе не замечала его, не хотела замечать и обижалась, если ей об этих моментах напоминали. Она старалась оттеснить их на задворки своей души, зато постоянно и самозабвенно предавалась воспоминаниям о каждой неудаче, каждой трудности, каждой ошибке, она старалась всегда помнить о них, всегда держать их перед глазами, чтобы всякий раз делать один и тот же вывод: если были несчастья в прошлом, то будут они и в будущем.
Она появилась на свет только для того, чтобы работать, быть несчастной и чтобы ее эксплуатировали другие, это была ее несокрушимая вера, и чем больше ей приходилось переносить, тем больше жизненных сил у нее прибавлялось, тем больше было оснований для гордости. Святая Мария Богоматерь Ченстоховская, образ которой висел у нее над кроватью, знала это.
Но и вера ее была столь сложна и непостижима, что ни один священник не мог ее понять. В церковь она не ходила, хотя горя за это натерпелась немало. Она верила в Господа Иисуса Христа отдельно от всех, по своему собственному разумению, и общалась с Ним сама. Перечень грехов у нее тоже был свой, у нее был свой взгляд на то, что считать смертным грехом, а что – простительным. В своем отчете перед Господом она списывала со счетов мелкую случайную ложь, а Господь, в свою очередь, обязательно зачтет ей многочисленные несчастья, тяжелую работу и нелегкую жизнь, ведь Господь призревает вовсе не тех, кто хотя и в церковь ходит, но в целом ведет развеселую жизнь и даже в страду по воскресеньям не выходит в поле.
«Какая есть», – говорил Йозеф о Марии, прощал ей все и любил ее. В пятьдесят лет она по-прежнему обгоняла в работе любого мужика, в шестьдесят оставалась самой сильной женщиной во всей деревне, и, если какой-нибудь работник из имения отпускал на ее счет глупую шутку, затрещину он получал основательную. Машенька приближалась к спокойному закату дней своих, и была такая старость для нее страшнее самого черта, но Господь внял ее молитвам и в награду за ее тяжелую, несчастную жизнь одарил ее наконец несчастьем истинным, сокрушительным и бесповоротным, единственным настоящим несчастьем за всю ее жизнь.
Когда однажды весенним вечером они с Йозефом возвращались с поля, она увидела, как из-за рощицы, отделявшей их от деревни, поднимается столб дыма. Предчувствуя недоброе, они что есть духу помчались вперед. Машенька подхватила юбки и, не обращая внимания на тяжелую ношу за плечами, полетела к лесу, далеко опередив Йозефа. При этом она кричала во все горло так, что крик ее разносился далеко но окрестным полям. И вот наконец показалась деревня. Она увидела, что их изба вся объята пламенем. Машенька бросилась на землю и закричала. Она так громко кричала и так сильно билась, катаясь по земле, что никто не решался к ней приблизиться. Утихомирилась она только глубокой ночью, потом еще три дня непрерывно всхлипывала и подвывала себе под нос. Через три дня она встала, перекрестилась и, с молчаливой покорностью погрузившись в свое горе, принялась за строительство новой избы. Она хотела возблагодарить Господа за то, что Он доказал всем деревенским насмешникам: воистину именно она наделена величайшим в жизни несчастьем.
Йозефа как обухом по голове ударило, он сидел всe больше у соседей на кухне, лишившись дара речи, и вскоре умер. Машенька построила свой дом один, в свои семьдесят лет она стояла на крыше нового дома и крыла его соломой, которую работник подавал ей снизу, а когда все было готово и дом выглядел так, как она хотела, Мария вошла внутрь и повесила у печки образ Черной Мадонны, спасенный соседями из огня.
Остаток жизни она просидела перед домом, гордая, прямая, из-под черного платка у нее выбивались седые волосы, круглое курносое лицо излучало добродушие, глаза приветливо сияли, завидев прохожего; и каждому встречному она рассказывала о своем несчастье.
Когда ее внук Йозеф, тогда уже взрослый мужчина, который жил далеко от этих мест и работал в шахте, решил как-то раз навестить ту деревню, где вырос, и увидел Марию перед самой ее смертью, он знал, что Господь справедлив. Но он видел, что справедлив-то Господь только в несчастьях и страданиях, и рай на земле – не Его рук дело.
А истинное горе Машеньки заключалось в том, что дом, который она построила, был совершенно никому не нужен, так что весь ее труд оказался бессмысленным. Лукашам больше нечего было делать в этих местах. Помещики скупили землю, и всем, кто не хотел работать на барщине, пришлось уйти. Поэтому, когда дом сгорел, оставалось одно – отправиться в чужие края.
Но Машенька ничего этого не замечала. Она сидела перед пустым своим домом, денно и нощно ждала возвращения семьи, благодарила Господа и была счастлива.
II
Жизнь продолжается
1
Месье Фонтана, придворный поставщик и торговец шелком, коллекционер и ученый человек, каждое утро, в восемь часов, под мурлыканье репетира выходил из своего дома «У старого собора» на рыночной площади столичного города Дюссельдорфа, где располагалась резиденция курфюрста, чтобы совершить обычную свою и, «к сожалению, весьма необходимую для исправной работы организма прогулку». Это означало, что он со скорбным лицом несколько раз обходил по периметру парапет в форме каре вокруг изваянной шевалье Групелло конной статуи курфюрста Иоганна Вильгельма.
Солнечными, жаркими днями он неизменно хотя бы раз притормаживал возле гостиницы и снимал треуголку, чтобы поболтать с каким-нибудь приезжим французом или итальянцем, остановившимся здесь или по соседству с рыночной площадью. В хмурые, пасмурные дни он угрюмо вышагивал необходимое расстояние, следуя старинному флорентийскому девизу: «Sine sole sileo» – «Без солнца я молчу».
В своей желтой шелковой жилетке, красных шелковых чулках, черных бархатных панталонах и зеленом бархатном камзоле он выглядел как старый попугай, залетевший сюда из экзотической страны, и, подобно старому попугаю, он, состарившись, громко разговаривал сам с собой, когда «в голове внезапно всплывали строки из книг». В такие минуты он зачастую до того погружался в себя, что недоуменно спрашивал своего слугу Жана, ожидавшего его у дверей дома, совершил ли он уже свой моцион. «In effigie, господин мой, – отвечал в таких случаях Жан с неизменным местным акцентом, – прошли четыре раза по периметру».
В дождливые дни, когда вдобавок какой-нибудь озорник из числа рыночных грузчиков пускал ему под ноги пустой бочонок из-под сельдей, чтобы сбить его с мысли и с маршевого шага, Фонтана бывал крайне неприятен для окружающих.
Постукивая черным посохом эбенового дерева с серебряным набалдашником, он торопливо вышагивал по периметру площади, не срезая углов, четко разворачиваясь всякий раз под прямым углом, и на своеобразной смеси французского, итальянского, голландского и немецкого громко бранил весь свет, все времена, коррумпированные правительства и тупых верноподданных, и всех он объявлял умалишенными, дошедшими до последней степени глупости идиотами, которым следовало бы задницу начистить как следует, и заявлял, что человечество погибло безвозвратно, оно стремительно катится в пропасть, и всё на свете террибль, всё без исключения ужасно, и баста. И всякий раз, выкрикивая свое «террибль» и «баста», он с таким грохотом опускал посох на булыжную мостовую, что вскоре отворялись окна ратуши, и тогдашний мэр, как дюссельдорфцы именовали своего бургомистра, громко кричал ему вниз, не соизволит ли он всемилостивейше удалиться в свой дом и не будет ли он так любезен дебоширить там, у себя. В ответ месье Фонтана издевательски помахивал треуголкой, награждал мэра обидным титулом «базарная баба» и, в последний раз провозгласив: «Людишки глупые, отребье, жалкий сброд», гордо выпрямившись, покидал площадь и удалялся в свой дом.
После этого он всегда еще раз показывался в окне второго этажа, громкий крик «Террибль, баста!» проносился по всей площади, после этого Фонтана собственноручно закрывал ставни, ибо как-то раз служитель уже запустил в его окно ключом от ратуши и разбил стекло. Фонтана в ответ зашвырнул в окно ратуши здоровенный том Ломбардской хроники в кожаном переплете и серебряном окладе. Только после длительных переговоров между Фонтана и мэром господа муниципальные советники смогли переступить порог ратуши, а Фонтана – продолжить изучение хроники.
После всех этих происшествий месье Фонтана, которого на площади все именовали не иначе как «жалкий сброд», велел своему камердинеру Жану запереть себя в кабинете, строго наказав ему отпереть замок только через восемь дней, потому что-де в данный момент мир стал для него непереносим, ему необходимо сосредоточиться и вообще он хочет остаться наедине с книгами.
Приказ хозяина касательно восьми дней Жан воспринял буквально и, злясь на Фонтана за задержанное жалованье, проигнорировал его новый приказ: отворить дверь досрочно. Тогда месье Фонтана спустился по водосточной трубе со второго этажа, позвонил у входной двери, и, когда ничего не подозревающий Жан открыл дверь, Фонтана пинками препроводил его в погреб и там запер. В отместку Жан умудрился проглотить всю кислую капусту, которая хранилась в погребе в дубовой бочке, что также возымело весьма неприятные последствия.
Прославилась эта парочка на весь город также тем, что с самыми серьезными намерениями подала в магистрат прошение, чтобы конную статую курфюрста развернули наоборот. Беда в том, писал в прошении Фонтана, что металлический жеребец весь год мчится по направлению к его дому, а это рано или поздно добром не кончится. Когда мэр ответил ему, что в таком случае ему придется весь год взирать на конскую задницу, которая сейчас обращена к зданию театра, Фонтана злорадно ответил, что было бы неплохо, если бы все жители города обратили свои взоры именно на этот предмет.
Звездными ночами Фонтана забирался с лампой в руках на чердачный этаж, под самую остроконечную крышу и часами наблюдал в чердачное окно звездное небо. Он сидел у окна в своем красном шелковом шлафроке, переводил подзорную трубу, купленную у какого-то голландского капитана, со звезды на звезду и предавался размышлениям.
Если же небо затягивалось тучами, Фонтана спускался в кабинет, набитый глобусами, атласами, тяжелыми хрониками в металлических окладах, альбомами с образцами тканей, которые принадлежали старинным семьям ткачей-шелкопрядильщиков. В этой горе книг, образовывавших кручи и пещеры, мог разобраться только сам месье Фонтана, потому что со временем здесь образовались лишь одному ему известные ходы и впадины, теперь одной комнаты уже, конечно, не хватало, книжный массив расползся и заполнил собой все помещение, и Фонтана терпеливо карабкался по книжным кручам.
Он переводил хроники с греческого и латыни на французский и итальянский, потом – на немецкий, сравнивал отдельные фрагменты со старинными рукописями, письмами и посланиями, сопоставлял расстояния и даты по глобусам и атласам, расшифровывал неразборчивые буквы, слова, фразы и непонятные сокращения, сравнивал узоры тканей, способы плетения нитей, сочетания цветов и переносил выводы в свою собственную хронику, над которой работал вот уже двадцать лет.
Когда утром на рассвете Жан приносил на подносе завтрак, он порой заставал хозяина возле глобуса. Погруженный в размышления, Фонтана крутил глобус все быстрее и быстрее, континенты и моря сливались в единую пестрящую картину, а Фонтана сидел, бормоча: «Африка, Америка, Азия, Европа. – Потом тыкал пальцем в крутящийся глобус и спрашивал Жана: – Ну-ка, глянь, Жан, к чему это все приведет, а?» И Жан каждое утро отвечал одно и то же: «Ну, мой господин, вы прям такие вещи спрашиваете, кто ж его знает». Тогда месье Фонтана выходил из состояния задумчивости и спрашивал Жана:
– Скажи, Жан, где я нахожусь?
– В Дюссельдорфе, мой господин.
– А что я тут делаю, в Дюссельдорфе?
– А Бог его знает.
– А как я попал сюда?
– Ох, мой господин, этого-то и сам Господь Бог не знает.
Потом он снова сидел один-одинешенек, погруженный в свои хроники, где повествование скакало от одного события к другому, от одного героя к другому, где рассказывались истории, смысла которых он не понимал, но они сохранились, потому что их кто-то записал, а значит, какой-то смысл в них был. Он сравнивал их с историями, которые знал сам, с историями, которые кто-то рассказывал ему, хотя зачастую он уже не помнил, кто что говорил, какое событие когда происходило, путал людей, времена и события, ведь ему рассказывали то, что услышали еще от кого-то, а этот кто-то тоже рассказал с чужих слов, а те слова тоже опирались на чей-то рассказ.
Это была мозаика, части которой сразу же вываливались у него из рук, едва только начинали складываться в ясную картину, и какими бы точными ни были отдельные детали, но они все равно почему-то не подходили друг к другу, хотя и составляли единую картину и, несомненно, были частью общего целого. Всякий раз возникали все новые пробелы, всякий раз ускользала истина, которая лежала в основе этих картин, истина, которую он искал.
Важное терялось, а о второстепенном хотя и сообщалось подробно, но смысла было не уловить, в лучшем случае рождалось лишь смутное предчувствие его во всех этих историях о гордости и разуме, об уверенности и сомнениях, об унижении и выдержке, о бедности и несчастьях, о смерти и жизни, об этой неотступной пляске смерти, которая затевалась все вновь и вновь, и стремительно несся хоровод. Человек на секунду попадал в освещенный круг, и черты его были хорошо различимы, узнаваемы только на один миг его жизни, затем отступали опять, вытесненные другой жизнью, а ее в свою очередь заслоняла следующая. Несвязные фрагменты, и все же в каждом из них отчетливо проступало свое особое отношение к миру, своя позиция. Она могла быть нечеткой в деталях, ее можно было проследить только в смене поколений, в последовательности историй и событий. Позиция, о которой ничего не было написано, она не была для них заповедью, ее не формулировали вслух и не удерживали в памяти, она просто-напросто существовала и всякий раз либо определяла события, либо имела отношение к тому, что происходило, а если и не определяла, то помогала переносить происходящее, передавалась следующим поколениям и становилась их внутренней сутью.








