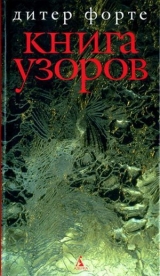
Текст книги "Книга узоров"
Автор книги: Дитер Форте
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
4
Да, и его тоже звали Йозеф Лукаш, потому что всех Лукашей звали Йозефами, а их жен – Мариями, но этот был с особой частичкой «фон»: Йозеф фон Лукаш, именно частичка «фон» оторвала эту ветвь семейства от всех прочих. Она создавала дистанцию, которая все увеличивалась, и вместе с тем нельзя сказать, что родня не гордилась этим сильным стволом, который вырос среди ветвей старого фамильного древа, питаясь от корней его, простиравшихся с вершины холма до самой реки, сильным стволом, отягощенным тяжелыми плодами, пустившим уже свои собственные корни, превратившимся в новое дерево, которое отнимало свет и почву у старого материнского дерева, некогда вольно росшего на этом холме.
Когда-то они жили в одной деревне, родились на той же самой земле, их хоронили на том же кладбище, они вместе возделывали землю и строили плотины, защищаясь от наводнений, заселяли новые земли, но потом у некоторых из них стало больше полей, возможно, оттого, что они больше думали о будущем, яснее мыслили, правильнее действовали, тогда как другие плыли по течению жизни, следили лишь за сменой солнца и луны и дальше ближайшего дня и ближайшей ночи не заглядывали. А поля из десятилетия в десятилетие все разрастались, огибая маленькие земельные наделы, а вскоре вбирали в себя и их, захватывали невозделанные луга, пустующие дома, им удавалось выстоять в неурожай, они все увеличивались, и только плотина служила им пределом.
И тут можно было говорить уже о поместье, и множество родственников работали в этом поместье, получая за работу деньгами или натурой, одни с завистью, потому что их собственное хозяйство свел на нет неурожай, другие равнодушно, ибо свою хибарку с огородом и землей они пропили, и нынешняя жизнь казалась им проще, заработок был надежный, работа от и до, крыша над головой обеспечена, а к ней еще и огородик в придачу, пока работаешь. Теперь уже как-то само собой разумелось, что надо работать в поместье, так уж повелось, вроде бы испокон веку так и было, время стерло все воспоминания, казалось, что поместье было всегда и с самого начала.
Но были и исключения, попадались люди, которые старались держаться своего первоначального надела, прочно сидели на земле, жили тяжким трудом, пытаясь сохранить хозяйство и выстоять в неурожай, а неурожай случался часто, и приходилось работать все больше и больше. Поэтому на окраинах больших угодий ютились маленькие островки, крохотные пятнышки рядом с гигантской территорией, которые совершали отважные наскоки на большое поместье, отстаивая свои старинные права относительно дорог, пастбищ, дров, воды, боролись упорно, а если забывали какую-то деталь, то из расписанных вручную заветных сундуков извлекали бумаги, доказывали, спорили, подавали жалобы, это была маленькая островная империя самостоятельных, упорных землепашцев, сильные ветви семейного дерева, которые предпочитали уехать и стать рабочими и ремесленниками в других странах, предпочитали по завещанию передать свои земли церкви, нежели уступить хоть одно из своих исконных прав большому поместью.
В поместье уважали эти права, никаких тяжб между членами семьи не было, все свято чтили старинное право родства, которое стояло выше раздоров и требовало единения. И хотя теперь уже не доводилось всем сидеть за одним столом, этого, скорей всего, даже старались избегать, но по праздникам все поздравляли друг друга честь по чести, подтверждая и укрепляя тем самым родственные связи; оказывая уважение родне, каждый упрочивал свою репутацию и пред небом и людьми честно и откровенно заявлял, что занимает должное место на этой земле. Так что согласно распорядку церковного календаря к церковным праздникам подносили подарки, соответствующие времени года: яйца, масло, кур, уток, гусей, рыбу, копченые колбасы и свиную ветчину. Когда красили яйца, то обязательно расписывали их, строго следуя традиционным орнаментам, кускам сливочного масла придавали красивую форму, изобретательно украшая их завитушками и инициалами семьи, кур дарили живыми, уток и гусей – ощипанными, готовыми к жарке, чтобы видны были размеры птицы, упругость мяса и количество жира. К лапкам и к шее привязывали разноцветную бумажную канитель, сами тушки помещали в ивовые корзины, которые торжественно несли в поместье, а навстречу уже шел управляющий с такими же точно дарами, ведь каждый, разумеется, старался выбрать в подарок самую лучшую птицу. Так что и те и другие угощались одинаковыми торжественно врученными яствами, сравнивали с собственными припасами, которые, конечно, были вкуснее, и вся эта символическая церемония обмена продовольствием укрепляла родственные связи навеки, до самого Судного дня.
И когда однажды вместе с дарами им вручили визитную карточку, на которой между именем «Йозеф» и фамилией «Лукаш» появилось словечко «фон», все были страшно удивлены, одни посчитали это наглостью и кощунством, другие вообще ничего не поняли и спрашивали, что это за «фон» такой, а некоторые говорили, что это от спеси, от заносчивости, мол, мало им того, что земли у них полно. С какой стати и откуда у них это словечко «фон», этого все равно никто не узнал, все восприняли его как добавку к имени, как до того привыкли к обилию земли у этих людей.
Йозеф фон Лукаш с ранних лет оставил поместье, он учился в университете, стал профессором, приезжал в гости только по большим праздникам, жил в городе Познани, где у него был польский книжный магазин, он даже открыл типографию, основал и стал выпускать литературные журналы: «Оредовник» и «Пжиятель люду», написал историю города Познани по-польски и по-немецки, выпустил историю всех церквей, опубликовал множество статей и несколько книг о диссидентах, то есть обо всех тех, кто не принадлежал к Польской католической церкви, о лютеранах и реформистах, о греках и армянах, о богемских братьях и Швейцарской евангелической церкви.
Его книгами были заполнены шкафы в усадьбе, все дивились: каких только плодов не приносит поместье! Управляющий же, если его спрашивали, сообщал, что этот самый Йозеф, который «фон», – историк и библиотекарь и заведует библиотекой графа Рачиньского в Познани. А графа Рачиньского, в свою очередь, знали все, он был из древнего польского дворянского рода, в особенности прославилась ветвь познанских католиков. Их было два брата, один писал и собирал книги, другой путешествовал и собирал картины. Тот, у которого книги, выстроил Золотую часовню на Соборном острове, и в ней стояли статуи первых польских королей – Мишко и Болеслава Хробры, и всякий хоть раз да видел эти статуи, ведь все там хотя бы раз молились. Да и библиотеку знали все, снаружи разумеется, и книг там было, поговаривали, видимо-невидимо, – одним словом, гордость Познани, все знали об этом и, конечно, тоже гордились. Если ехать от болотистых земель в низовьях Обры, то надо на телеге проехать по дороге императрицы Виктории, потом по Тиргартен-штрассе въехать в Берлинские ворота – и вот ты уже в Познани, а дальше поехать влево, мимо польского театра и городского немецкого театра к площади Вильгельм-платц, а на этой большой красивой площади, среди старинных деревьев и роскошных домов, выделялась своими мощными колоннами необозримая библиотека Рачиньского. Граф завещал ее городу и вскоре после этого застрелился у себя в поместье, говорили, что сердце его не выдержало страданий за Польшу, потому что он был польским патриотом. Напротив библиотеки был построен специальный музей для картин, принадлежавших его брату, а брат был прусским посланником, то есть вовсе не патриотом Польши, и картины свои завещал Пруссии, в связи с чем музей носил имя кайзера Фридриха. Вот так они и высились один напротив другого, эти два брата, увековеченные в двух зданиях – немецкого музея и польской библиотеки.
Здесь-то и служил библиотекарем тот самый Йозеф, который «фон». Он тоже был из патриотов, судя, по крайней мере, по журналам, которые он выпускал и которые после одного из многочисленных польских восстаний были запрещены властями Пруссии, и ему оставалось лишь вернуться к вечным вопросам о том, какие нынче виды на урожай пшеницы или картофеля. Позже, когда полякам стало житься совсем худо, а пруссаки так и норовили стать единоличными хозяевами, Йозеф фон Лукаш окончательно вернулся в деревню, стал сам управлять родовым имением. Он часто появлялся на полях, здоровался со всеми за руку, но был молчалив и частенько сиживал на скамье под древним дубом, который по-прежнему зеленел, раскинув ветви на вершине холма. Он сидел и задумчиво смотрел на красное закатное солнце, которое, вспыхнув последний раз, тонуло в черных водах Обры и, унося с собою дневной свет, оставляло обрские болота во тьме, а на небе оставался от него лишь слабый, едва угадываемый отсвет, который всасывали набегающие облака.
5
Густав спустился с крыши, на которую забирался всегда, если ему хотелось поразмышлять на воле, и через чердачный люк пробрался в хранилище, где стояли манекены из гипса и дерева и еще сияющие медью механические устройства небольшого размера, которые начинали негромко постукивать, если нажмешь кнопку. Он спустился во второй этаж, в свои комнаты, и включил маленькую лампочку, которая располагалась над батареей на подоконнике и по ночам освещала эмалированную табличку возле входной двери: «Густав Фонтана, прожектер». Он хотел, чтобы к нему можно было обратиться и днем и ночью, он, словно акушерка, всегда готов был помочь рождению новой идеи и молниеносно оформить послание в патентное бюро.
Охваченный страстью к изобретательству, которая царила в жилых кварталах Обербилка, он брался проектировать все – от разного рода механизмов до целых фабрик. Анархист по складу своего мышления, целеустремленный в своих действиях, общительный, остроумный, сообразительный, ироничный, принципиально ни во что не верящий, он был воплощением светского человека, которому ничто на земле было не чуждо, для которого большинство людей были никак не творения Господни, а проклятая свора непроходимых тупиц, которым никогда не суждено ничего понять, которые раз и навсегда впряглись в упряжь и тащат на себе карету с неким царствующим господином, обеспечивая вращение Земли, и поскольку этого не изменить, то приходится поразмыслить, как из всего этого выпутаться. Его образ жизни, манеры и знания позволяли ему без всякого труда перескакивать из высших слоев общества в низшие, и наоборот, сначала принять стаканчик шнапса в забегаловке на углу в компании рабочих, а потом с видом знатока потягивать искрящееся мозельское или душистое рейнское в компании советников коммерции.
Между тем он жил в квартире, которая для Обербилка считалась приличной, – в таких проживали зажиточные буржуа, – наголо брил голову и в основном проводил время, сидя на кожаном диване возле своей обширной библиотеки, которая, пополняясь по большей части книгами по естественным наукам, занимала уже почти всю стену, причем социалисты первой волны и Шекспир располагались в непосредственной близости от дивана – только руку протянуть. Стена напротив была затянута полотном с изображением города Дюссельдорфа, полученным в подарок от одного художника-декоратора. Поскольку предназначалась она для созерцания с расстояния в тридцать метров, то с кожаного дивана Густав мог видеть только мешанину ярких красок, в которых терялись очертания города. Часто в его жилище с улицы приходили дети и пытались отгадать, где на картине может быть река Дюссель, а где Рейн и башня Ламбертустурм, они принимались малевать сверху своими красками, прорисовывая контуры города, и со временем все линии удвоились, однако силуэт города не прояснился. Фантастическое полотно, на котором терялась граница между далеким и близким, идеально соответствовало ходу мыслей Густава, которые, не сковывая себя реальностью, открывали в этой картине собственную действительность.
Стоило с дивана бросить взгляд в окно, и взору открывался роскошный вид на дом напротив, который служил приютом сначала какому-то владельцу фабрики, потом – управляющему производством, потом – цеховому мастеру, далее – сразу нескольким мастерам и подсобным рабочим и наконец – только рабочим. Фасад сохранился во всем своем великолепии, и похоже, что фабрикант, который когда-то строил дом в полном соответствии со своими вкусами, воображал себя непобедимым охотником, ибо фасад был не просто украшен, он был весь утыкан тупо взирающими на вас, изваянными в камне головами лис, зайцев, кабанов, горных коз, косуль, благородных оленей, там были даже медвежьи головы и лапы. Расположение всех этих красот, а также обрамляющие их охотничьи псы, ружья, загонщики оленей и ловчие сети при первом же взгляде на них возбуждали подозрение, что ни архитектор, ни каменотес никогда в жизни не бывали в настоящем лесу. По воображаемым лугам фасада прелестным хороводом тянулись ангелочки, роняя цветы и вия венки, эдакая «дикая охота» фабриканта, они все вместе поддерживали герб рода – широкий щит, который водрузил сюда архитектор, питая лучшие надежды относительно родовитости своего хозяина, но, поскольку господин фабрикант ни титулом, ни благородством, по всей видимости, не вышел, сей щит, лишь слегка тронутый пометом гнездящихся под крышей голубей, по-прежнему оставался девственно-чистым и ровным, не тронутым резцом изобретательного творца, и привлекал взор своей голой незамысловатостью. «Иоанн Безземельный» – так прозвал Густав этот герб, как всегда памятуя о Шекспире. Он намеревался в будущем купить этот дом, собственноручно высечь на пустом месте герб семейства Фонтана, представляющий собой фонтан в лучистом венчике брызг, и собственноручно же сколоть с фасада всех зверей и ангелочков, обнажив скромный ренессансный фасад.
Лежа на своем кожаном диване, он мечтал о маленькой фабричке, где все ради интереса и удовольствия будут заниматься своими изобретениями, эти изобретения они все вместе без особого труда будут продавать, чем станут зарабатывать себе на хлеб, а ему обеспечат небольшой доход как скромному участнику всего процесса, и у него будет время, чтобы читать, размышлять и при случае что-нибудь изобретать, а эти изобретения будут, в свою очередь, развивать и доводить до ума все остальные, и так до конца дней, все они будут работать в едином коллективе над созданием полезных вещей, применяя законы механики, именно так он это формулировал. Будучи человеком, который отвергал любое ограничение своих мыслей догматическими истинами, он придерживался мнения, что в вопросе с перпетуум-мобиле не все детали продуманы, и пусть даже эта задача не имеет решения, но на пути к этому решению можно открыть кое-что новенькое. Поэтому каждый вечер он принимал свою «идеальную духовную позу», то есть удобно располагался на своем кожаном диване, ложился на спину и, вооружившись карманным фонариком, направлял луч на потолок, где с помощью кнопок были прикреплены разнообразные наброски, чертежи, планы, синьки. Освещая себе путь фонариком, он начинал мысленное путешествие по этому собору духа, по небосводу своих изобретений. Новые идеи он фиксировал на бумаге, сидя на полу, потом вешал их на потолок поверх прежних рисунков, снова ложился и долго размышлял, следуя за лучом фонарика, который вел его по идеальным фабрикам будущего. Каждые четверть года собор обрушивался: небосвод, окутанный облаком пыли и отягощенный некоторыми фрагментами потолочной лепнины, валился на пол, вновь возвращая идеи Густава с небес на землю и обогащая старьевщика новой порцией макулатуры.
Кухонное окошко в квартире Густава выходило на внутренний двор какой-то фабрики, где рабочие таскали трубы, с удовольствием швыряя их на землю и наслаждаясь оглушительным грохотом; небольшая фабричная труба днем и ночью пускала по ветру дым, и ветер задувал этот дым в кухни и спальни то с одной, то с другой стороны. Дома лепились к заводам и фабрикам, а фабрики и заводы строили рядом с домами, поэтому из квартир можно было видеть, что делают рабочие, а рабочие видели все, что делается в квартирах. Дом со всеми его пристройками и надстройками представлял собой многоликий пещерный город, для непосвященных это был лабиринт с многочисленными ходами и выходами, и трудно было сказать, сколько человек здесь живет. Лабиринт коридоров позволял придумывать все новые и новые комбинации из отдельных комнат и квартир, быстро возводили стену и точно так же быстро сносили, дверь закладывали кирпичами, зато где-нибудь в другом месте она появлялась, и таким образом из больших квартир делали маленькие, а их при необходимости снова превращали в большие. Кто у кого что снимал, сказать было сложно, порой две семьи занимали одну квартиру, порой у одного человека была целая большая четырехкомнатная квартира, и три комнаты он сдавал, иногда какая-нибудь семья отгораживала себе внутри большой квартиры маленькую. Густав и Фэн соединили много маленьких комнат и сделали себе многокомнатную квартирку, состоящую из множества коробочек. Своя комната здесь была у отца Фэн, дети Густава Фридрих, Элизабет и Жанно жили в комнатках мансардного этажа, и все как-то размещались в этом улье, который, благодаря посменной работе его жильцов, всегда был полон жизни – утром, днем и ночью.
Прямо под окном той комнаты, где жил Густав, висела жестяная табличка, на которой буквами разной величины, то красными, то зелеными, вкривь и вкось была выведена надпись: «Обронски amp; Болье. Колониальные товары». Так назывался магазин, где продавались овощи и фрукты, разные в зависимости от времени года, а кроме того, чечевица, горох, фасоль, ячневая крупа, мука, манка, сахар, соль, растительное масло, уксус, селедка и картошка. Но главным товаром, который здесь продавался, была все-таки картошка, и поэтому оставалось загадкой, какие же товары можно считать колониальными – ну разве что кофе в зернах. Фэн частенько помогала хозяевам в магазине, а если и не помогала, то все равно целыми днями паслась здесь, ведь сюда каждый день приходило так много людей. Если Густаву надо было поговорить с Фэн, ему стоило только постучать палкой по жестяной вывеске, и Фэн в ту же секунду высовывалась во входную дверь, запрокидывала голову и зычно произносила: «Ну чего?» Как правило, после этого разгорался жаркий диспут о том, в котором часу честным людям положено бывает обедать. Фэн неизменно завершала переговоры, произнося своим сочным голосом: «У меня еще никто с голоду не помирал».
Все любили этот магазинчик не только потому, что он был для людей чем-то вроде клуба, куда хотя бы раз в день наведывались все жители окрестных домов. Он был жизненно необходим людям в первую очередь по той причине, что здесь всем и всегда давали в долг, а тем, кто уже ничего больше не мог записать себе в долг, так как был безработным и его страничка в толстой долговой книге была уже исписана вся до краев, – таким людям предоставлялась официальная возможность украсть немного самых необходимых для пропитания продуктов. Обронски и Болье в таких случаях начинали чересчур усердно разглядывать свои весы, с интересом смотрели в окно либо принимались пересчитывать бутылки с уксусом и постным маслом, ибо они очень хорошо знали: как только у этого человека появится работа, украденные товары он оплатит в первую очередь, раньше тех, которые записаны в долг, а они будут разыгрывать ошарашенных продавцов и на чистейшем литературном немецком языке – поскольку оба были когда-то прежде придворными актерами, – строя удивленные мины, заведут свой обычный дуэт: «Да что вы! Разве вы еще что-то должны? Значит, мы просто забыли за вами это записать. Просим прощения за эту оплошность», – и таким вот простым способом они сберегали гордость мужчин и женщин, которые еще месяц или два тому назад, стыдясь всех и вся, молчаливо негодуя на свое горестное положение, сунули в продуктовую сумку или в карман штанов пару картофелин или морковок и, сторонясь прилавка и кассы, поджав губы, выходили из магазина. И поэтому обоюдная радость в день уплаты долга была искренна и неподдельна, покупатель, который столь долго ходил в безнадежных должниках, переступал порог магазина с кошельком в руках, чтобы все вокруг могли видеть: сегодня состоится оплата, Обронски и Болье пританцовывали за прилавком, как два медведя, и, сияя, поздравляли: «Что, снова получили работу? Ну, мы рады за вас», а краешком глаза примечали, как снова кто-то улучил момент и кинул за пазуху пару картофелин.
Так что у Обронски и Болье была постоянная и верная клиентура, которая приходила сюда и в худые, и в добрые времена, и благодаря ей магазинчик держался на плаву без всяких калькуляций и без бухгалтерского учета, ибо в этом оба хозяина ничего не смыслили, и слава богу, ведь покуда в кассе были деньги, оба свято верили, что у них есть прибыль, а в конце года сочиняли некую сумму, которую и заявляли налоговой инспекции как прибыль; их «обеспечение по старости», как они именовали свой магазинчик, процветало, тогда как с калькуляциями и бухгалтерским учетом они вылетели бы в трубу. Обронски и Болье, оба кругленькие, счастливые, неподвижно стояли за прилавком, а если кому-то из них приходилось покидать свое привычное место и выходить из-за прилавка, то они с танцевальной ловкостью, повиливая бедрами, обходили один другого, они даже сидели в одинаковых позах, словно два старых, заслуженных цирковых медведя, и различить их сразу можно было только по тому, что у одного был стеклянный глаз – по его словам, несчастный случай, сцена с фехтованием, – а другой носил барочный парик с локонами – из тщеславия, как он сам признавался. Поскольку всем покупателям известно было, где лежит товар, то каждый брал то, что ему было надо, клал на весы, Обронски взвешивал товар при помощи гирь, Болье записывал стоимость, и всякий раз, в зависимости от того, входил покупатель или выходил, они на театральный манер называли это «арриве» и «де-пар», они хором кричали: «Добрый день!» или «До свиданья!» Они сожительствовали, и все об этом знали, но это никого не смущало. На площадке за домом стоял их жилой вагончик, который они купили у циркачей. Они и жили в тесном кругу цыганских повозок, населенных бесчисленными семьями цыган, которые обитали здесь с самого начала, раньше других осев тут и обретя свою родину.
Если солнце стояло уже так высоко над домами, что лучи его падали прямо на жилые вагончики, большую часть года остававшиеся в тени, Обронски и Болье приводили в порядок свой вагончик, красили его заново и отправлялись в путешествие. Артистическая карьера друзей нашла свое воплощение в представлениях кукольного театра, которым они отдавались со всей страстью и непередаваемой грацией; они выступали с ними на ярмарках в маленьких деревеньках вокруг Дюссельдорфа, их там обожали, ждали каждый год с нетерпением, а они, дурачась, словно шаловливые дети, болтая во время представления на разные голоса, путешествовали по этому маленькому миру всегда с собственными спектаклями, самодельными куклами и костюмами. А когда лучи солнца снова начинали падать косо в окна вагончиков, они, обладая чувством трезвой реальности бывалых актеров, возвращались в свой магазин колониальных товаров, где Фэн, все лето отважно заменявшая их и в самые жаркие дни обслуживавшая покупателей, к негодованию Густава, в купальнике, передавала им из рук в руки толстую конторскую книгу, и оказывалось, что количество сделанных в долг покупок совпадает с перечнем товаров на складе, то есть все то, чему надлежало быть на полках, из магазина унесли, а касса была пуста, как никогда, ибо Фэн по натуре своей склонна была делать подарки.
Цыгане, которые жили на площадке за домом, круглый год развлекали жильцов своими искусствами. Шпагоглотатели и пожиратели огня, танцующие дервиши и разрыватели цепей во мгновение ока превращались в трехэтажную пирамиду и, с трудом удерживая равновесие, жонглировали всем, что им бросала публика; женщины пели странные песни на незнакомом языке, кружились под бубен, ударяя им по бедру, волнами пуская по воздуху разноцветные ленты, пускались в буйный восточный пляс. Еще женщины заходили в дома, чтобы погадать по руке, мужчины точили ножи и ножницы, а если после их визита в хозяйстве чего-нибудь недоставало, то звучало привычное, понятное только жителям этих мест: «Пойду-ка спрошу цыган». Иной раз пропажа находилась, иной раз нет; если вещь находилась, то ее с сияющей улыбкой отдавали обратно и говорили «спасибо». Если цыганам нужна была какая-то вещь, они смело брали ее там, где находили, без особого стеснения. Ведь если она понадобится, то ее хватятся и заберут обратно, значит, этому человеку она, оказывается, тоже нужна – вот и все. Если же владелец не объявлялся и тем самым откровенно заявлял, что в этой вещи вообще не нуждается, то рано или поздно она попадала к Обронски и Болье, у которых на сей случай был заведен особый уголок «подержанных вещей». И если кто-нибудь вдруг вопил: «Гляди, да это же моя кастрюля!» – то он тут же получал свою кастрюлю совершенно бесплатно. А случалось, что кто-то по дешевке выкупал вещи, которые когда-то ему принадлежали, просто потому, что уже забыл, что такие вещи у него были, тут действовал закон справедливого выравнивания. Но как только кто-нибудь прикидывался дурачком и начинал утверждать, что-де этот цветочный горшок на самом деле его, надеясь получить его даром, Обронски и Болье разгадывали хитрость сразу, их было не провести, такое поведение покупателя расценивалось как свинство, то есть, считай, злодейство. Такого покупателя вышвыривали из магазина немедленно.
Людей, подобных добряку Герману, в Дюссельдорфе называли «стильными попугайчиками». Собственно говоря, он был почтальоном, но, зайдя после почтамта домой, он ставил на пол тяжелую кожаную сумку с письмами, быстро разносил заказные, а остальные разбирали дети, игравшие неподалеку, да соседи – каждый выбирал в сумке письма, которые мог занести по пути.
А добряк Герман быстро переодевался, аккуратно вешал на плечики форму почтальона, надевал черный костюм из тика и вязаный джемпер и отправлялся «в турне», как он сам это называл, потому что по совместительству он был еще и торговым агентом, рекламирующим вещи повседневного спроса, такие как постельное белье, швейные иглы, английские булавки, расчески, фартуки, подтяжки, ремни, и оформлял и более крупные заказы по каталогам. Поэтому в своем квартале он знал всех и как почтальон, и как торговый агент, а все узнавали его и в форме почтальона, и в комбинезоне, он же комбинировал свои наряды и носил иногда джемпер с цветочками в комбинации с форменными брюками или форменную куртку с брюками из тика, но при этом был неизменно в белых гамашах поверх ботинок, волосы же носил сильно напомаженными. Вечером он в третий раз сменял свой наряд и облачался во фрак, составлявший предмет зависти всего квартала, и шел играть на скрипке в городские рестораны, на пианино ему аккомпанировал его старший брат, а около пианино всегда стояла почтальонская сумка, туго набитая нотами. Он ловко пиликал свое попурри, рассчитанное на любой возраст, и чутко подстраивался к публике, поэтому всегда создавал уместный фон к трапезе состоятельных граждан, он с чувством аккомпанировал разговорам серьезных дам и господ, чуть добавлял пыла, заметив в зале подвыпивших дельцов, а влюбленным парочкам наигрывал тихо и нежно.
В Обербилке ему все доверяли, он помогал составлять самые разные заявления, за небольшую мзду выступал посредником при оформлении страховок, служил кассиром и делопроизводителем в доброй дюжине разнообразных союзов. Поскольку он не мог разместить такое количество сейфов с деньгами в своей маленькой комнатушке, уже и без того доверху заполненной нотами, бельем, заявлениями, страховыми полисами и недоставленными письмами, то стал хранить доверенные ему деньги все вместе в одном сейфе, который Фэн прятала в своем платяном шкафу. Он уже так давно снимал у них комнату, что стал практически членом семьи. В конце года он носил этот сейф из одного союза в другой, из Союза филателистов в шахматный клуб, из объединения по организации карнавальных празднеств в страховое общество, из клуба игроков в кегли в похоронное бюро. Он ставил на стол полную кассу и говорил: «Все денежки здесь, целехоньки». Поскольку круглый год членам всех этих обществ выдавались ссуды под небольшие проценты на краткий срок, то в день проверки сложно было выяснить, кто из членов всех этих союзов уже вернул свою ссуду, а у кого ссуда была еще на руках, не представлялось возможным выяснить также, кто заплатил взносы, а кто нет, и уж совсем невероятно было узнать, у какого союза какая сумма должна остаться на конец года. «Вы сами должны все записывать. У меня на это времени нет», – говорил кассир и делопроизводитель, показывал каждому союзу полную кассу всех союзов вместе, все этим и удовлетворялись, ведь деньги-то были на месте. Вот так деньги, с одной стороны, были у граждан, а с другой – находились в кассе. На чем держится вся эта система, не понимал и сам добряк Герман, который считал, что как доверенное лицо он совершенно честен. Но до тех пор, пока все эти союзы и объединения не догадались устроить совместное общее собрание, что было абсолютно нереально, система действовала, ко всеобщему удовольствию.
Если добряка Германа спрашивали, почему он носится целыми днями как белка в колесе, почему он так усердно занят делом, он отвечал: «Потому что хочу стать настоящим бюргером». Что он под этим понимал, было не совсем понятно, наверное, он мечтал о маленьком собственном домике и хотел быть рантье с репутацией эдакого короля-патрона, перед которым все снимают шляпу. Он и жениться не хотел, пока не достигнет всего этого, – дело прежде всего, – но все его предприятия не покрывали его расходов. Когда он по вечерам изображал порядочного бюргера и, подойдя к чьему-то столику, исполнял персональное пожелание посетителя, все это заканчивалось просто-напросто небольшими чаевыми; когда ему, как торговому агенту, удавалось продать три английские булавки на пфенниг и он скреплял успешную сделку, приложившись к ручке хозяйки, все это было, конечно, очень изящно, но абсолютно не к месту, он ведь все равно не разбирался в тонкостях приличий. На похороны своего отца он наконец-то оделся, как положено, в свой черный костюм, но зато для поддержания репутации нацепил на шею все свои карнавальные ордена, которых было немало, ибо он не раз играл на своей скрипочке на разнообразных дамских вечерах и в мужских клубах. И вот когда он, возвращаясь с похорон, переступал порог своего жилища, неся в почтальонской сумке урну с прахом собственного отца, а на шее у него звякали шутовские карнавальные ордена, он воистину представлял собою воплощенную нелепицу, которую и именовали «стильным попугайчиком».








