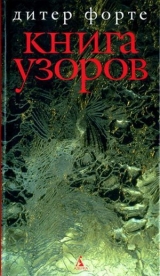
Текст книги "Книга узоров"
Автор книги: Дитер Форте
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
25
Жан Поль, Жак и Жанно собрались ночью в одном из подсобных помещений мануфактуры, где трафаретчики обычно переносили узор на трафареты, которые служили образцами для расположения нитей на станке. Сотни этих так называемых миз-ан-карт, на которые с помощью маленьких крестиков были нанесены сложные узоры, висели здесь по стекам. Лишь множество трафаретов, соединенных воедино, образовывали узор. На каждом трафарете изображена была только какая-нибудь одна деталь орнамента, цветка, какой-нибудь оттенок цвета. Только опытный ткач мог составить из всех этих деталей осмысленный узор.
Потом, уже в старости, Жанно опишет в письме к потомкам этот короткий разговор. Ле-пэр молча вошел в помещение и с серьезным видом, словно именно он по-прежнему возглавлял фирму, придирчиво осмотрел новые трафареты и, как в прежние времена, высказал свои соображения по поводу узоров. Потом внезапно поднял глаза и сказал усталым, глухим голосом: «Что касается меня, то здесь все просто, я ведь стар. Я останусь в Лионе. Своей вере я не изменю. Если по этой причине меня откажутся хоронить на кладбище – что ж, земля везде одна. Но вся семья должна покинуть этот город. Здесь царствует могильщик».
Жан Поль, глава фирмы, который должен был принять окончательное решение, тоже считал, что в этом городе у них нет будущего. Лион потеряет свою монополию как столица шелка. Их приглашают в Нидерланды и в Бранденбург. Свобода вероисповедания, освобождение от налогов, привилегии при организации производства шелка. Правда, бежать для них означает полностью потерять свою мануфактуру и в течение нескольких десятилетий создавать ее заново в чужой стране. Кроме того, бегство карается смертной казнью, границы охраняются драгунами, и первые пойманные ткачи-шелкопрядильщики уже попали на галеры.
Жак, банкир, для которого религия мало что значила, сказал, что, мол, почему бы одному добропорядочному гугеноту и не перейти пока для проформы в другую веру, разумеется с тем прицелом, чтобы, согласно существующим юридическим нормам, сохранить на время мастерские, а потом, во благовременье, спокойно ликвидировать их, проведя капиталы через Женеву или Амстердам.
– И где же все это время будет находиться семья? – поинтересовался Жан Поль.
– В Швейцарии, – ответил Жак. – Женева, Лозанна, Невшатель – города, где говорят по-французски, города, крайне заинтересованные в производстве шелка. Кто знает, вдруг все изменится к лучшему, и тогда можно будет вернуться назад.
Ле-пэр, хмурясь, резко сказал, что не желает, чтобы среди членов семьи были вероотступники. Либо мы все говорим – да, либо – нет. На карту поставлена не только вера, речь идет о свободе мыслить и жить.
Жак сказал, что, мол, это еще вопрос, не является ли вера просто средством для достижения цели. Ведь гугеноты не только ткут самые лучшие шелковые ткани, в их руках находятся все банки, они решают, кому выделять кредиты, именно в их типографиях выпускаются книги и журналы, формирующие общественное мнение, на их стороне ученые. Если в любой деревне вам Понадобился врач, аптекарь, нотариус, не сомневайтесь – все они гугеноты. Это все те же игры, что и с евреями. Опять, как и всегда, предрассудки бунтуют против разума, ненависть и зависть – против терпимости. На костер каждого, кто не похож на нас, а уж мы приберем к рукам их дома, фабрики и банки, запретим их книги, а поскольку совершить такое можно только именем Господа, то вера для них – желанный гость.
Ле-пэр, который никогда не ввязывался в долгие дискуссии, встал, поставил на место стул и направился к выходу, сказав, что его позиция ясна и ему остается надеяться, что к той же ясности придет и вся семья. С этими словами он покинул комнату.
Жан Поль еще раз всех оглядел, а потом сказал:
– Завтра ночью. Вся семья и все ткачи, которые захотят уйти с нами. Никто никаких вещей с собой не берет. Порога мастерских никто больше не переступает. О деньгах и векселях позаботится Жак. Жанно отвечает за трафареты. Я беру с собой Книгу Узоров и самые важные образцы тканей. Когда забрезжит утро, все должны быть уже за пределами города.
Вот так случилось, что в октябре 1685 года семейство Фонтана покинуло Лион.
26
В том году, когда благодаря молитвам, обращенным к Святой Богородице Деве Марии, их сын чудесным образом исцелился от загадочной болезни, Йозеф и Мария Лукаш совершили не менее чудесное паломничество, они отправились из прусской Польши через австрийскую Польшу в польские земли, принадлежащие России. Они собирались совершить столь дальнее паломничество к образу Девы Марии, исполняя обет, взятый на себя у постели больного сына, а попутно решили навестить брата Марии, который служил священником в Кракове. Они выехали из польских земель, где жили, и проехали через земли короля Пруссии, императора Австро-Венгрии и русского царя.
Странное это было путешествие, ведь хотя все люди, которые встречались им на пути, явно были поляками и говорили по-польски, все равно для того, чтобы выправить необходимые для проезда бумаги и исполнить формальности, необходимые для перехода границы, обязательно требовалось знать по меньшей мере немецкий и русский.
Немецкий язык Йозеф и Мария Лукаш знали, но русским не владели вовсе, и пропали бы окончательно, если бы не помощь сведущего в языках еврея из русской Польши, который вез с собой церковную утварь. Документами ему служила коллекция икон, а валютой – четки всевозможных видов. Дважды их хватали как шпионов, потому что они не могли ответить на непонятные вопросы неизвестно откуда взявшихся чиновников, требования которых были неясны, было ясно одно – они существуют. И только потому, что еврей-переводчик успешно заговаривал чиновникам зубы, подкрепляя свои речи заискивающими взглядами, иконами, четками и разнообразными священными клятвами, призывая на помощь всех своих родственников во всех коленах, Йозеф и Мария смогли продолжить свое христианское паломничество к образу Святой Марии. Потому что иначе эти чиновники, воспринимавшие все польское как государственную измену, с легкостью могли превратить такое вот паломничество – в зависимости от позиции их властей – либо в тюремное заключение в прусской тюрьме, либо в галицийский лагерь, либо в ссылку за Урал. Поэтому передвигались они словно в каком-то лабиринте, то ехали на телеге, то шли пешком по пыльным сельским дорогам, напрямую через заброшенные поля, под палящим солнцем и дождем, поворачивали назад, если пограничная станция в этом месте была закрыта и никого не пропускали, стороной обходили деревни, где было полно солдат, старались избегать тех пограничных пунктов, где еврею в прошлый раз досаждали таможенники, и зачастую уже не понимали, где они находятся; спали и ели у крестьян, а те бранили паломников, которые тащатся невесть куда безо всякой пользы, с восходом солнца были уже в пути, шли днем и ночью, проходили по местам, где еврей надеялся подзаработать, ворчали, когда шли кружным путем, а еврей утверждал, что этот путь и есть самый краткий. Они шли через затерянные в глуши деревни, которые прятались под прижавшимися к земле крышами и которые издали можно было распознать только по столбам дыма, поднимавшегося из труб, через городишки, где рыночные площади были полны разноголосой ругани между поляками, русскими, немцами, богемцами, словаками, венграми, украинцами, литовцами и евреями, но отнюдь не были полны товаром. Одну тощую кобылу продавали там по нескольку раз, и каждый считал, что совершил выгодную сделку, но никто ничего не выигрывал. Несколько дней подряд они путешествовали в компании семьи циркачей, которая вела с собой медведя-танцора и сварливую обезьяну. Сын шел по канату, а отец в этовремя ударял в литавры и пританцовывал, и колокольчики у него на ногах звенели, медведь кружился, обезьяна прыгала через палочку, а женщина гадала крестьянкам на картах.
Когда они, пробравшись среди польских, русских и австрийских флагов и многочисленных портретов правителей и миновав Краков, где не нашли брата Марии, потому что он, хотя и был священником, попал в тюрьму за участие в каком-то польском заговоре, – так вот, когда они наконец-то достигли цели своего паломничества – города Ченстохау, как называли его немцы, Ченстохов, как говорили русские, Ченстохова, как говорили поляки, и стали прощаться со своим проводником, обещая поставить за него свечку, еврей ухмыльнулся и сказал, что он за свою жизнь перевел через границу уже множество паломников, и если каждый зажжет за него свечку, то можно запалить настоящий адский огонь – уж больно времена подходящие. Он с присущей ему подчеркнутой вежливостью отвесил им низкий поклон, улыбнулся своей беспомощной улыбкой и поспешно исчез.
Монастырь Ясна Гора располагался на горе и на протяжении столетий оставался неприступной крепостью, чего нельзя было сказать об окружающих землях. Но и эта крепость в конце концов пала, однако монастырь был еще цел, и ежедневно его заполоняли тысячи паломников, а над их головами сиял темный, почерневший, почти уже неразличимый, но вечно сущий образ Черной Мадонны Ченстоховской. Икона эта была происхождения неизвестного, писана на кипарисовой доске. Одни шепотом сообщали, что она из Византии, другие говорили, мол, из Сиены. Йозеф и Мария не знали этих мест, они не могли представить себе ни Византию, ни Сиену, не знали они и кипарисового дерева, они лишь смотрели на прекрасное лицо Черной Мадонны и молились. Среди всей этой суматохи, среди всей безбрежности жизни, в этом лабиринте длиной в жизнь с его извилистыми ходами, по которым ты идешь исполненный надежды, но никогда не находишь выхода, но по которым идти приходится, в этом безнадежном человеческом столпотворении, где людей несет куда-то как беспомощных котят в половодье, лицо Мадонны было чем-то единственно незыблемым, единственной точкой опоры.
Когда Йозеф и Мария вернулись домой, в свою деревню, и все непрестанно спрашивали их, как выглядит икона, Йозеф взял уголек и нарисовал образ на куске древесной коры. К великому удивлению самого Йозефа, это ни с того ни с сего получилось так хорошо, что священник купил у него изображение. Йозеф на этом не успокоился, он стал рисовать Мадонну углем теперь уже на деревянных досках, он расцвечивал образ коричневыми и золотыми красками, а крестьяне покупали эти иконы, и так постепенно он сделался иконописцем и стал известен на всю округу. По вечерам он сидел на лавке у печки, рисовал углем на досках и пел. Голос у него был сильный, слышный на всю деревню, да все и любили слушать, как он поет. Йозеф, уже испытавший на своей шкуре, как много на свете беспорядка, стал счастливым человеком, он пел и писал свои картины до самой смерти.
27
Колеса крестьянской телеги глубоко увязали в разъезженных колеях и еще глубже вдавливали в грязь упавшие с воза рулоны ткани и брошенную утварь. На дороге валялся ткацкий станок, который опрокинулся вместе с не выдержавшей тяжести легкой повозкой, а лошади, запутавшиеся в упряжи, кося налившимися кровью глазами, высоко взбрыкивали, пытаясь освободиться. Женщина с распущенными волосами, которые мокрыми прядями падали ей на лицо, бегала вокруг и во тьме выкрикивала чьи-то имена. Маленький ребенок с раздутым животом и безумно бегающими глазами неподвижно сидел у дороги на тележном колесе и тихонько поскуливал. Мужчина упал с телеги, в которую запряжены были быки, лежал придавленный тяжелыми колесами и кричал, женщина зажимала ему рот рукой, обессиленных быков хлестали до крови, они все равно не двигались с места. Оборванные местные крестьяне безмолвными тенями следовали за обозом беженцев, ступая по кромке дороги с обеих сторон, подбирали выброшенные или оброненные вещи тех, кто рвался вперед, отбирали себе то, что могло пригодиться, дрались из-за дорогих шелковых платьев, грабили увязшие в грязи повозки, требовали за одну упряжку быков по десять, двадцать, пятьдесят золотых. Вдали внезапно раздавались крики людей, которых подкараулили драгуны, там шла резня. И потом снова только сдавленные стоны, проклятья, молчаливая борьба людей, пробивающихся вперед.
Когда повозка семейства Фонтана, дернувшись в последний раз, застряла окончательно, а лошади бессмысленно задергались, вставая на дыбы, все выскочили из нее. Они оставили этот путь, который вел к неизбежной смерти, и побежали, прихватив лишь то, что могли унести с собой, следуя только своему инстинкту, в ближайший, чернеющий перед ними лес, туда, где была твердая земля, где идти было легче, а грабителям и драгунам не так легко было их догнать. Светила луна, равнодушным светом озаряя ветви елей, сияющие звезды подсказывали направление. Пропасти и горные потоки внушали им страх, еловые ветки хлестали по лицу, тяжелая мокрая одежда липла к телу. Они спотыкались и падали, а потом вставали и шли дальше. Наплевать на боль, наплевать на страх, каждый шаг вперед означал надежду на спасение. Когда забрезжило утро, они наткнулись на стог сена, тонувший в тумане. Когда туман под лучами холодного солнца рассеялся, перед ними открылась синяя гладь Женевского озера.
28
Нести гроб стало тяжелее, воздух пропитан был сыростью, они шли по колено в воде. Халупа, самый сильный из них, первым опустил гроб. Вода на отмели за ночь прибыла, подмыв твердую тропу к кладбищу, прежний короткий путь исчез, топь разлилась, твердая земля отступила.
– Когда мы хоронили Добржинского, тропа была еще цела, – сказал Витек.
Он был кузнец и тоже отличался недюжинной силой. Траурная процессия, которая шла за ними, уже отступила назад, на деревенскую дорогу. Оттуда люди возбужденно махали им руками.
– Двадцать лет ничего с ней не случалось, – сказал Халупа и уселся на гроб.
Януш, по прозвищу Жердь, который запыхался больше всех, угостил товарищей водкой, которую всегда имел при себе. Они пили медленно, то и дело поглядывая на топь и надеясь, что тропа где-нибудь станет видна, но никакой тропы не было, одна только мутная, дымящаяся на жарком солнце вода.
Старый Лукаш, который лежал там, в гробу, уже ничего этого не видел. Что-то кричала с дороги траурная толпа, но ничего было не разобрать. Халупа, который всегда умел расположиться с удобством, вытянулся на гробу всей своей стопудовой тушей и подремывал. Гроб все глубже уходил в трясину. Халупа был тугодум, он думал долго, но всегда попадал в самую точку, и поэтому, если что важное решить надо было, все ждали, что он скажет. Все следили за его лицом, а он скорчил одну глубокомысленную гримасу, потом другую и наконец изрек:
– Лукаш варил свое пиво. И табак у него был свой – сам сажал. Он четверых детей на свет произвел. И жену его Господь упокоил. Дети все живы. Так что наш Лукаш прожил жизнь как положено. Зачем нашему Лукашу гроб?
Кашек тоже думал. Голова у него склонялась то на один бок, то на другой, наконец и он разродился мыслью:
– Так ведь он уж там лежит, в гробу-то, а без гроба – это ведь грех будет смертный, поди.
– С гробом мы дальше не пройдем, – сказал Януш.
Они еще подумали, и опять глотнули все из бутылки, которую протянул Януш.
Витек предложил компромисс:
– На Лукаше саван справный, все как надо, он и без гроба хорош будет, давайте гроб-то бросим, тогда сдюжим, а там, на полпути к кладбищу, тропа авось всплывет.
Халупа, который, растянувшись на гробу, рассматривал блеклое небо, безмятежно отметил:
– Гроб-то, кажись, тонет.
– Кто его знает, может, тропа дальше под воду уходит, – сказал Януш, который был трусоват, – тогда ждать нечего, торопиться надо.
Халупа сказал:
– Ну чего, умер так и умер, да и земля везде одна, Бог с ним, с Лукашем, давайте лучше гроб вытащим.
– Он что, без христианского погребения останется? – спросил Витек.
– Вот тропа из-под воды покажется, тогда и Лукаш всплывет, – сказал Кашек, – а в болоте он хорошо сохранится, ничего с ним не сделается. Вот тогда и похороним его честь по чести. У мертвого времени навалом, у Лукаша его и раньше хватало.
Они закивали, соглашаясь, Халупа поднялся с гроба, они перекрестились, подняли крышку, и старый Лукаш внезапно вновь увидел солнечный свет. Они вынули у него из рук образ Черной Мадонны Ченстоховской, который тот пожелал взять с собой в могилу, достали самого Лукаша из гроба и бережно опустили тело в воду, прислонив голову к какому-то толстому корню, причем в этот момент в горле у старого Лукаша что-то странно булькнуло. После этого они потащили обе половинки гроба по илистой воде назад, к твердой дороге. Все как один понимали, что выбраться отсюда без гроба, за который они держались и который держал их на плаву, им бы ни за что не удалось.
Поскольку они по ошибке притащили с собой и образ Мадонны, написанный еще отцом старого Лукаша, – ведь на самом-то деле они собирались положить образ ему на живот, но черт попутал, и образ оказался в гробу – и поскольку траурная процессия так и стояла на дороге, все в черных платьях, они порешили отправиться все вместе дальним обходным путем на кладбище и без священника, который воспротивился нечестивому деянию, положить образ в вырытую могилу и похоронить Лукаша в его отсутствие.
У могилы они добрый час скорбели, было произнесено много речей, ибо каждый хотел сказать слово и поделиться своим мнением по данному печальному поводу. Затем все развеселились, а когда вечером, распевая песни и поддерживая друг друга под локоток, они добрались наконец до деревни, могильщик не смог, как положено, засыпать могилу, потому что в ней спьяну улегся толстый Халупа и храпел вовсю. Могильщик, прибегнув к помощи Януша, которого тоже уже нельзя было назвать трезвым, попытался вытащить Халупу из могилы, но Януш тоже свалился в могилу и пожелал улечься спать рядом с Халупой. Могильщик махнул рукой, вытащил из могилы Януша и повел его к себе домой, где они еще как следует выпили. Они долго и подробно рассуждали о том, грех ли это, если могила не засыпана, или не грех, но в конце концов пришли к утешительному выводу, что если самого тела там нет, то какая разница, засыпана могила или нет, – пред Господом они чисты.
Но дело-то все в том, что на следующее утро этот самый Лукаш в длинном саване и с образом Мадонны в руках стоял посреди деревни, а толстый Халупа лежал с выпученными глазами в могиле мертвый.
Старый Лукаш, полежав на отмели в теплой воде, в прямом смысле слова восстал из мертвых и, находясь в сомнамбулическом состоянии, двинулся в путь. Он прошел по полузатопленной тропе и очутился на кладбище, где в какой-то могиле обнаружил Халупу, который спал, держа в руках принадлежащий ему образ Мадонны. Он вынул из рук у Халупы образ, а Халупа при этом закричал диким голосом. Потом Лукаш пошел по дороге и вернулся в деревню, и теперь ему было холодно.
Все решили, что свершилось чудо. Хотя епископ грозился отлучить от Церкви всю деревню, Лукаша почитали как святого, а тот образ Мадонны стали считать чудотворным. Когда три месяца спустя Лукаш умер окончательно – причем его на всякий случай еще три дня не хоронили, – то не было человека счастливее его.
Раз в год, в тот день, когда он умер и тут же воскрес, целая процессия верующих посещала его могилу, и с каждым годом становилось все больше людей, которые, побывав там, возвращались в свои деревни с новыми силами. Знай это Лукаш, он был бы еще стократ счастливее, ведь не часто удается подарить миру чудо, и разве это не самое большее, что может сделать человек, – подарить миру чудо, свое, особенное, которое ни с чем не спутаешь, чудо на веки вечные, – вот о чем подумал бы тогда Лукаш. Да это и так все знали, все, кто в него верил, все, в кого это чудо вливало новые силы и заставляло гордо поднимать голову. Благодаря Лукашу они знали, что смерть не столь неотвратима, как им рассказывали, что можно восстать из могилы, из глубокой темной ночи, и жить дальше.
29
Основной поток беженцев устремлялся через Лозанну, Берн и Цюрих в Шаффхаузен, поток поменьше – через Ивердон, Невшатель, Биенн в Базель. В города и деревни непрерывно прибывали люди, их кормили и поили, пускали переночевать, но оставаться здесь им не разрешалось. Другими словами, им помогали, но недоумевали, не зная, что с ними делать. Бесконечные потоки растерянных людей тянулись мимо озер, вдоль цепи Юрских гор, разделялись на рукава, перекрещивались, кружили по стране. Голодные, отчаявшиеся, оборванные люди, одержимые поиском новой родины.
Семейство Фонтана тоже терпело бедствия, их одежда обтрепалась, и вместе с ткачами, которые остались им верны и поехали с ними, они беспомощно метались в поисках прямой дороги в Базель, где у Жана Поля были деловые связи, где жили знакомые владельцы шелковых фабрик и заказчики. У Жака имелось там несколько знакомых банкиров, Жанно во время своих путешествий не раз бывал в этом городе, там была и община гугенотов. Они перебрались через сырые и мрачные ущелья, в которых текла река Бирс, и сердца их переполнились счастьем, когда перед ними открылась наконец долина Рейна и показались башни Базельского собора.
В Базеле у них впервые появилось чувство, что они обрели пристанище. Жан Поль прежде всего отправился в ратушу, и его включили в список рефюжье, то есть преследуемых за веру. Далее он прямиком двинулся на шелковый двор, который располагался совсем недалеко и чьи внушительные строения привольно расположились на самом берегу Рейна. Здесь Жан Поль надеялся найти кого-нибудь из старых знакомых. Он сразу же наткнулся на Эммануэля Хоффмана, который немедленно позаботился не только о ночлеге для всей семьи Фонтана, но и о необходимом отдыхе после долгих мытарств. Он распорядился о том, чтобы эти усталые, доведенные до крайности люди, бессильно сидевшие на главной площади Базеля, были обеспечены всем необходимым. Из тех ткачей, которые покинули Лион вместе с Фонтана, остались теперь немногие, зато в пути прибились к ним люди со стороны, и все вместе они составляли пеструю толпу случайных людей, жалкие остатки некогда столь славной фирмы Фонтана.
На следующий день Хоффман повел Жана Поля на свою мануфактуру на берегу реки Бирзиг, где он именно в этом году, году великого бегства ткачей, когда произошел разгром шелкового производства в Лионе, основал новейшее производство шелка, которому, как он утверждал, принадлежит будущее. С таинственным видом и с нескрываемой гордостью он показал Жану Полю новый станок, который здесь получил название «ленточной мельницы», – на этом автоматическом ткацком станке можно было ткать одновременно шестнадцать шелковых полотен. Он был сконструирован так ловко, что ткачи вообще больше не требовались, достаточно было обученных подсобных рабочих, которые соединяли порванные нити основы и заменяли негодные катушки. Настоящее чудо техники. Хоффман тайком вывез эту ткацкую машину из Голландии в Базель, а до тех пор она была известна только в Кельне, Страсбурге, Эльберфельде, Бармене и Изерлоне, так что его поступок можно было назвать подвигом. Не иначе.
– Вы там, в своем Лионе, по-прежнему выпускаете тяжелые шелковые ткани, но все эти ваши дорогостоящие узоры, и бархат, и парча – это ведь для королевских дворов, для князей, кардиналов, для граждан богатых. А она… – и он с восторгом указал на стрекочущую машину, – способна обслужить всех и каждого, да и сырье подойдет дешевое. Достаточно самой простой пряжи, эта машина может работать сутками и выпускать под присмотром сельских галантерейщиков шестнадцать полос ткани разного цвета. Ведь такую может себе позволить всякий. А если переменится мода, машина подстроится под новые запросы буквально за один день. Мы больше не работаем по частным заказам. Мы выпускаем товар для рынка.
– Ну, такую ткань всякий сможет сделать, – сказал Жан Поль.
– Такой ткацкий станок стоит дорого. Мы эти станки сдаем в аренду, они остаются в нашей собственности. Мы устанавливаем их в деревнях вокруг Базеля, поставляем туда пряжу, говорим, какие узоры надо ткать, а потом забираем готовую продукцию. Создание новых видов тканей, планирование производства, сбыт – все это делается здесь, в Базеле.
Они вернулись в живописно расположенный дом Хоффмана и поднялись в комнаты второго этажа, стены которых были затянуты шелком. Отсюда открывался вид на Рейн.
Жан Поль спросил:
– А как обстоит дело в Цюрихе?
Хоффман ответил:
– Там ткут исключительно тафту и камчатные ткани. Производят их за городом, а продавать можно только городским шелковым королям, кроме того, приходится раскрывать все производственные секреты. Если при этом у цюрихских мастеров качество не хуже нашего, то вам придется ехать дальше. – Хоффман пожал плечами. – Все заполонили рефюжье, и ведь в основном это ткачи-шелкопрядильщики. А что, если все они теперь останутся здесь, будут ткать свой шелк, продавать его? До чего тесен оказался мир.
Жан Поль сказал:
– Но мы-то очень хорошие ткачи.
Хоффман ответил:
– И вы очень горды, к вам не подступишься, ведь ваш главный девиз – резисте. Сопротивляться. Что ж, достойная позиция, но в деловой жизни… не знаю…
Жан Поль сказал:
– У нас есть еще и второе качество, оно называется пасьянс гугенотов. Наше терпение. Сопротивление и терпение.
Он посмотрел из окна на пристань, где какое-то грузовое судно принимало на борт группу рефюжье, чтобы доставить их вниз по Рейну в немецкие земли.
Он был не прочь остаться в Базеле. Свободный город, множество торговцев шелком, в долине Рейна можно было попытаться выращивать тутовые деревья, но только Фонтана не были ткачами-ленточниками. В изрядно потрепанной Книге Узоров, с которой они до сих пор не расставались, хотя пользоваться ею было уже почти невозможно, хранились образцы редкостных тканей с классическим узором.
Судно отчалило, медленно вырулило на середину реки, устремилось вниз по полноводному течению реки и быстро скрылось из глаз людей, следивших за ним с пристани.
Сопротивление и терпение! Ведь они бежали со Словом Господним на устах. Неужели же оно могло увести их с пути истинного?








