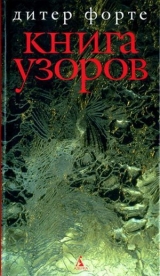
Текст книги "Книга узоров"
Автор книги: Дитер Форте
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 22 страниц)
Свадебное угощение вышло небывалым: ни в сказке сказать, ни пером описать. Поскольку каждый понимал закуску по-своему, поскольку Мария хотела продемонстрировать, на что она способна, а Густав с Вильгельминой тоже решили не упасть лицом в грязь, родился свадебный стол, по сравнению с которым чудесное кормление хлебами, про которое говорится в Библии, было жалкой комедией, весь дом мог бы не один день питаться всеми этими яствами, Густав потом целый год расплачивался с долгами, потому что он решил своего не упустить и заказал в магазине Мюлензипен самые лучшие, выдержанные вина.
Элизабет придумала отметить сначала заключение свадебного контракта – кто его знает, а вдруг что-нибудь сорвется, молодые в реке утонут или церковь сгорит, – поэтому тут же подала кофе и торты, это было единственное, за что она отвечала во время праздника, ей было поручено сварить крепкий кофе и испечь большие торты, которые она щедро украсила взбитыми сливками. Правда, и здесь возникли некоторые трения, потому что Густав, орудуя рожком со взбитыми сливками, изобразил на темно-красной поверхности торта с вишнями серп и молот, а Мария в свою очередь украсила шоколадный торт сливочным силуэтом Девы Марии Богоматери Ченстоховской, но ей пришлось объяснять всем, кто это, ведь эту икону здесь никто не знал. Далее сама свадьба должна была состояться в церкви Святого Иосифа.
Церковь Святого Иосифа на площади Святого Иосифа, куда вела улица Святого Иосифа, стояла, храня свое неприметное триединство, всего в нескольких десятках метров от Кельнерштрассе, главной артерии района, и недалеко от рынка Обербилк, который был сердцем района, – следовательно, церковь могла считаться душой района, местным Ватиканом. Отсюда, как от площади Святого Петра в Риме, разбегались в разные стороны улицы и переулки и уже одними своими названиями обозначали границу. К улице Круппа вела маленькая улочка Ван-дер-Верффа, названная так в честь придворного художника курфюрста Яна Веллема, заботливые городские власти наверняка решили, что немножко культуры этому кварталу не повредит, и, поскольку сей голландец был к тому же автором проекта Роттердамской биржи, выбор названия для улицы не казался таким уж глупым, он, по крайней мере, способствовал развитию мыслительной деятельности, рабочие то и дело в недоумении останавливались около таблички с названием и пускались в глубокомысленные рассуждения, пытаясь догадаться, что же это за неведомый фабрикант, которого столь великодушно увековечили бок о бок с Круппом.
Едва приметная дорожка вела от площади Святого Иосифа, минуя фабрики и жилые дома, к дому, где располагалась епархия Русской православной церкви, а рядом с нею – монастырь милосердных сестер, которые, видя в стрельчатом окне епархии икону с изображением Богоматери, чувствовали по крайней мере духовное единение с православными. Целыми днями сестры милосердия, словно белые голубицы, сновали туда-сюда в своих белых крылатых чепцах, украдкой бросая смиренный взгляд на православную Марию, и спешили в больницу Святого Иосифа, где ухаживали за престарелыми, больными и новорожденными.
Окруженная фабричными стенами из желтого кирпича, темная каменная церковь была частью фабричной архитектуры жилого района, и дети удивлялись, почему из башни, похожей на богато украшенную фабричную трубу, никогда не идет дым. Но главной ценностью, безусловно, была лужайка перед церковью, на которой мирно кустилась зеленая травка. Газон был разделен на две половины, отчего казался больше, и любители природы могли прогуляться по тропинке между ними и вдобавок обойти весь газон вокруг, получалась самая настоящая прогулка по парку. Кроме того, газон, эти жалкие несколько квадратных метров, был обнесен прочной железной решеткой, и люди могли подолгу с удивлением разглядывать травинки, словно это были диковинные животные в зоопарке. Можно было с чистой совестью утверждать, что травинок здесь было меньше, чем прутьев в решетке, но все равно такую драгоценность стоило надежно охранять, дети прижимали носы к решетке, просовывали сквозь нее руки, гладили траву и удивлялись, что она такая мягкая, прямо-таки льнет к рукам, не то что камень или железо. А по утрам в воскресенье появлялся священник и приглашал всех на службу, и коммунисты говорили, что газон перед церковью – это происки церковников.
Надо сказать, что церковь Святого Иосифа была особым приходом, она соответствовала своей среде, она ведь выросла из нее. Рим был далеко, кельнский кардинал сюда не наведывался, поэтому церковные правила здесь толковали в соответствии со здравым смыслом. День покровителя церкви, Святого Иосифа, должен был, согласно христианскому календарю, отмечаться 19 марта, так установил Рим, но святого с чистой совестью объявили рабочим человеком, и День покровителя праздновали теперь 1 Мая, в День солидарности трудящихся. Рабочие, которые выходили на запрещенную демонстрацию, выступая за свои запрещенные цели, спасаясь от полицейских дубинок, бежали на площадь Святого Иосифа, где всегда можно было сделать вид, что ты пришел праздновать День покровителя церкви.
В этот день бело-желтые церковные флаги соединялись с красными флагами коммунистов и черными флагами анархистов, а Союз атеистов и Общество свободы духа со своими плакатами «Бог умер» и «Долой Церковь!» тоже находили себе приют под сенью Единоспасающей, ибо Святой Иосиф был покровителем всех спасающихся бегством. Священник окроплял собравшихся святой водой, сопровождая действо громогласной латынью, ловко, плавно и великодушно наделяя благодатью и полицейских, у которых вода капала с фуражек, а сами блюстители порядка выглядели так, словно у них градом катятся слезы; церковь напоминала торжественно украшенный алтарь, как во время Крестного хода в честь Праздника тела Христова, всюду красные транспаранты, на которых большими буквами были написаны требования рабочих о справедливости на земле, – они так и стояли, прислоненные ко входу, пока полиция не удалялась.
За день до свадьбы Мария с ужасом обнаружила, что у Фридриха и вправду нет ни одного приличного костюма, а тот, в котором он ходил постоянно, был куплен по случаю у кого-то из друзей, и, небрежно натягивая его, он говорил: «Ну что, не так уж он и плох». Ну не было у него хорошего костюма, подумаешь, что тут такого, это лишнее, зачем нужен хороший костюм? «Он нужен для венчания в церкви», – сказала Мария и дала ему денег. Фридрих отправился в путь, но добраться ему удалось только до ближайшей рюмочной, где постоянно сидели боксеры да велосипедисты, обмывая победы и поражения, – здесь у Фридриха была куча друзей, и деньги улетучились в один момент. Мария снова снабдила его деньгами, на этот раз он отправился в город окольными путями, «и не вводи меня во искушение», поэтому до старой части города добрался благополучно, но там его опять поджидала толпа друзей, «только по пиву – и все». Пошатываясь из стороны в сторону, он к ночи едва доплелся домой, оправдываясь, что всего-то по кружечке выпивал, но со всеми, ведь кругом – закадычные друзья, которым не откажешь, так что деньги опять исчезли.
Мария, которая в этот момент, распалясь, спорила с Густавом из-за того, как должна выглядеть кухня, – ей хотелось, чтобы там все блестело и сияло, а Густав предпочитал разложить все кругом как попало и оставить до завтра, – увидев Фридриха, крикнула: «Доставай костюм где хочешь. Если завтра утром ты не будешь стоять на пороге церкви в приличном костюме, никакой свадьбы не будет». Густав пробормотал что-то вроде: «Вот что значит якшаться с попами» – и после этого долго вытирал красные капли с лица, потому что Мария в сердцах шмякнула большую поварешку в котел с борщом.
Фридрих развернулся кругом и чеканным шагом промаршировал в забегаловку штурмовиков, где у него тоже было полно друзей, там вошли в его положение и дали на время мундир штурмовика, в который он там же и облачился. В мундире он и переночевал, не снимая его, на диванчике у одного из приятелей, а утром, ровно в десять, явился в своем коричневом наряде к церкви Святого Иосифа и сказал Марии, которая уже ждала его там: «Вот мой новый костюм». В ответ Мария влепила ему такую затрещину, что бедный священник, который в этот момент как раз показался на пороге, перепугался и спросил, не это ли новобрачные. Фридрих, которому понятие «неловкая ситуация» было неведомо, тут же ответил: «Да», а Мария резко сказала: «Нет».
Положение спас добряк Герман, который артистическим прыжком вскочил на мотоцикл и через несколько минут уже вернулся, неся свой собственный черный костюм. Фридрих переоделся прямо в ризнице, священник дал ему еще и манишку, костюм и манишка не очень-то гармонировали друг с другом, но в целом Фридрих выглядел теперь вполне сносно. Так или иначе, Мария готова была взять назад свое «нет» и вместе с Фридрихом войти в церковь, хотя Фэн тихонько нашептывала им на ухо: «Может, погодим с венчанием, а то Густав сидит дома с пистолетом наготове».
В церкви уже обосновалась гельзенкирхенская родня, молчаливая черная стайка людей, которые уныло и мрачно смотрели прямо перед собой; была там и сестра Марии Гертруд, которая после свадьбы намеревалась остаться в Дюссельдорфе и уже успела подозрительно близко сойтись с добряком Германом, а он в своем стремлении стать наконец добропорядочным буржуа уже близок был к тому, чтобы совершить решительный шаг, ведь он теперь, что называется, осел и все свои многочисленные делишки обделывал, сидя за окошечком почтового отделения. Элизабет не упустила возможности блеснуть в обществе и явилась в красном шелковом платье с глубоким декольте и в шляпе величиной с тележное колесо, на которой красовалась вызывающая шляпная булавка. Фэн была одета в черное платье, которое поочередно надевали все женщины их дома, когда шли на крестины, свадьбу, серебряную свадьбу или похороны, никто не знал, кому оно, собственно, принадлежит, оно постоянно переходило из рук в руки, его подгоняли по фигуре и украшали соответственно случаю, на свадьбу – белым цветком, на похороны – траурной вуалью, и в таком виде, испещренное следами от швов из-за многочисленных подгонок то на полную, то на худую фигуру, было самым подходящим нарядом на любой случай. Мария, единственный человек, который принимал церковный обряд венчания всерьез, была в изящном темно-синем шелковом платье, слегка украшенном брюссельскими кружевами; прямая и сосредоточенная, стояла она в золотом сиянии алтарного света, ее темный силуэт напоминал облик Мадонны, она привлекала к себе все взоры и была центром всей церемонии.
Когда новобрачные, неся в руках картонку, в которую священник уложил мундир штурмовика, переступили порог гостиной, то увидели Густава, стоявшего посреди комнаты с пистолетом в руке, прямо под хрустальной люстрой. Он поднял пистолет, целясь во Фридриха и прищурив глаз, чтобы не промахнуться, Мария замерла, каждую секунду ожидая выстрела, Фэн, которая была в курсе всего спектакля и знала, что Густав не собирается стрелять во Фридриха, но должен хоть раз выстрелить, чтобы поддержать свое реноме среди жителей Обербилка, спокойно подошла к Густаву, толкнула его руку вместе с пистолетом вверх, палец нажал на крючок, раздался выстрел, пуля угодила в люстру, отчего во всем доме случилось короткое замыкание и погас свет, Густав испугался больше всех, он сгорбился, стоя под градом хрустальных осколков, яростно швырнул пистолет о стену, наткнулся на стул, шина на его больной ноге сломалась, и теперь он, совершенно беспомощный, стоял на одной ноге, а из раны текла кровь.
Во всем доме выстрел восприняли как свадебный салют, как сигнал к началу свадебного пиршества, все двери квартир были распахнуты, всюду толпились люди, починяя перегоревшие провода, добряк Герман схватил скрипку, его брат уже раздвинул мехи аккордеона, призывно сверкнули перламутровые клавиши, добряк Герман, с чувством прижав пальцы к струнам, провел по ним смычком, его брат буквально слился с аккордеоном, корпус которого мгновенно раздулся вдвое, короче говоря, праздник начался, и его было уже не остановить.
Поскольку Фридрих танцевать не умел, Мария, мгновенно выйдя из своего оцепенения, подхватила ничего не понимающую сестру Гертруд, и сестры закружились в буйном танце, стряхивая с себя пережитый испуг, прямо перед густой толпой людей, которые протискивались в комнаты, желая быть свидетелями происходящего, не важно, что это будет: смерть или свадьба.
На лестничных площадках тоже было полно людей, одни шли наверх, другие вниз, они заходили по ошибке в чужие квартиры, угощались там чашечкой кофе, а потом снова отправлялись на поиски праздничного стола, но никак не могли туда попасть, потому что встречным потоком их все время относило назад, а другие, наоборот, не могли никак выбраться из квартиры Густава, поток людей все время заталкивал их обратно. Биг Бен, который взялся следить за порядком, ведь сказано же было, что свадьба будет праздноваться «в узком семейном кругу», не мог справиться с потоком, и его все время относило стремниной то туда, то сюда. Кальмеской, проповедник Соломона, ухватился за дверной косяк и долго удерживался в этом положении с табличкой на груди, где написано было изречение этого дня: «Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них»; но в конце концов его тоже смыло общим потоком, поучительную табличку оторвало от проповедника бурной волной, изречение дня затанцевало поверх голов гостей, а сам проповедник потонул во всеобщем потопе. И только пан Козловский, привыкший перекрывать любой гомон своим зычным призывом: «Пиво для простого народа!» – уверенно пробивал себе дорогу, словно Моисей, неуклонно стремящийся к Красному морю, а за его спиной волны толпы вновь смыкались.
Вильгельмина, которая с годами сделалась значительно обширнее, возвышалась среди холодных закусок, как когда-тo за своим прилавком, дела у нее хватало, потому что теперь уже собрались все. Полицейский Шмитц-Гранжан О'Фаолэн подходил к ней дважды, первый раз совершенно официально, в мундире, чтобы поздравить от имени полицейского участка, второй раз – тоже в мундире, но уже в частном порядке, чтобы отдать должное напиткам. Вампомочь, как всегда, жаловался, что цены на гробы опять подскочили, и с ужасом сообщал о том, что в моду все больше входят похороны в море, на корабле. Отец Абрахам делился своими планами и рассказывал, что в ближайшее время напишет комментарий к законодательству, который упразднит все законы. Оба на всякий случай попросили бабушку Тинес погадать им по руке, чтобы узнать, от чего предостеречь молодоженов. Обронски и Болье написали и разучили свадебную пьесу, которую, не обращая ни на кого внимания, исполнили от начала до конца, и всеобщая суматоха их не смущала – как-никак, они были профессионалами.
Даже Густав снизошел до свадебной речи, начав с Андромеды и Плеяд, Кассиопеи и Магеллановых облаков, потом были упомянуты Геркулес, Цефей, Персей и Пегас, за ними – Лира и Щит, Корабль Аргонавтов и Волосы Вероники, от Северной и Южной Короны он перешел к Большой Медведице, потом – к Малой, за Медведицами последовали Псы, это была глубокомысленная речь о звездных системах и неподвижных звездах, о вечных законах и неумолимых орбитах, о механике звезд, которые вдалеке от земного шара ткут на небе свои неизменные узоры, видимые лишь тем, кто и днем смотрит на мир открытыми глазами, кому не приходится дожидаться наступления ночи. Кое-кто из гостей стал смутно припоминать, что, кажется, уже не раз слышал похожий рассказ в планетарии, где Густав вел свои популярные экскурсии.
Заика Залем Баренбеек, который по утрам продавал цветы на рынке, а по вечерам показывал фокусы, приложил немало усилий, чтобы с цветами и подарками протиснуться к новобрачным. Всему городу было знакомо его знаменитое «Глади-глади-гладиолусы» и «хри-хри-хризантемы», а сам он прекрасно знал цену своему заиканию: люди охотно покупали у него цветы, потому что им всегда нравится смеяться над недостатками других, «ту-ту-тупые ку-ку-курицы», – говорил Залем Баренбеек и, подмигивая, показывал глазами на свою кожаную суму, куда складывал дневную выручку. Его отец путешествовал по всему свету на парусных судах и научил его фокусам, которые собрал в разных странах мира, он раскрыл ему даже тайну индийской веревочки, и теперь по вечерам он показывал все эти фокусы на праздниках, юбилеях, посиделках и в клубах, и перед публикой его язык становился послушнее, он без запинки произносил: «Уважаемые дамы и господа!» – и потом два часа кряду все говорил, говорил – бегло и четко, каким-то ненатурально высоким голосом, а потом, за сценой, после выступления, снова начинал заикаться.
Приехал и Михаэль, двоюродный брат Марии, который по-прежнему, как он выразился, «занимался черной работой», но теперь уже не под землей, а исключительно на земле. Он женился на вдове трубочиста с четырьмя детьми, жил в Брюсселе, совсем забыл немецкий и почти ничего не мог сказать по-польски, зато кое-как говорил по-французски и общался со своей женой на какой-то невообразимой смеси языков, а жена была снова на шестом месяце, она всем приветливо кивала и в крайних случаях переходила на фламандский.
Из Базеля явился Жанно, он теперь был хозяином магазина бижутерии на Фрайештрассе; его жена, весь вид которой явно говорил о том, что Жанно женился на деньгах, но эти «деньги» являли собой абсолютную беспомощность, – итак, жена, маленькая серая мышка, скованная по рукам и ногам хорошим воспитанием и робкой предупредительностью, говорила всем только одно: «Экскюзе, мне не хотелось бы вам помешать».
Гельзенкирхенцы отвоевали себе целый угол, в котором обосновались, почтенные, радостные, но какие-то трагически торжественные и значительные, как, впрочем, и всегда. Обилие друзей и знакомых было не по ним, в Гельзенкирхене свадьба считалась делом сугубо семейным, все, кто не входил в семейный клан, какими бы близкими друзьями они ни были, на свадьбу не допускались. Никогда семейная крепость не бывала так сильна, тверда и неприступна, как на свадьбах, крестинах и похоронах. А то, что происходило здесь, напоминало карнавал, и Марии еще доведется дожить до своей Пепельной среды.
Тем временем многие, совершенно не обращая внимания на свадебный разгул, карабкались вверх по лестницам, цепляясь за перила, забирались на чердак и, открыв люки на крышу, наблюдали за тем, что происходит внизу, на улице, кричали, махали кому-то, те, что внизу, ничего не понимали: это был тот самый момент, когда бойцы союза «Рот Фронт» призвали к сопротивлению, а штурмовики начали бить стекла, – развернулась открытая схватка, которой все давно опасались.
Перед расплывчатой панорамой Дюссельдорфа в комнате Густава суетился фотограф, самый знаменитый на всей Кельнерштрассе, единственный, кто явился на свадьбу во фраке, он тщетно пытался добиться порядка, который необходим был для свадебного фото, хватая каждого, кто пробегал мимо и кто имел хоть какое-то отношение к жениху или к невесте, тащил его за рукав, сколько хватало сил, туда, где стоял на высоком штативе его фотографический ящик, покрытый черной тканью, указывал каждому его место, строго наказывая не шевелиться, ловил следующего, ставил его рядом, но, пока он ловил за ворот третьего, первые два уже убегали, и все начиналось сначала, а он, умудренный горьким опытом, пытался создать новую композицию, но все снова разбегались, или же в рядах начинались свары, поскольку прежние стояльцы, сходив за пивом, возвращались и начинали бороться за свои законные места, на которые был теперь поставлен кто-то другой.
И в тот самый момент, когда фотографу удалось добиться максимально возможного порядка среди всего этого беспорядка, в тот момент, когда хаос, как пестрая картинка в калейдоскопе, на секунду замер, остановился, начал излучать завершенность, надежность и веру в вечные семейные ценности, а фотограф с облегчением взялся за спусковой тросик, – в этот момент появился заика с полным ужаса лицом, он попытался что-то сказать, но губы его не слушались, слова не хотели слетать с языка, и пока глаза всех стоящих перед фотоаппаратом все сосредоточеннее смотрели на губы заики, пока беспечность превращалась в любопытство, смех – в боязливое замешательство, передавшееся им от заики, все тело которого корчилось и ежилось от чудовищного усилия что-то сказать, выдавить из себя слова, и он уже почти задыхался от застрявших в горле, спотыкающихся слов, а люди, вместо того чтобы смотреть в объектив, уже не отрываясь смотрели на заику, судорожно замерев в парализующей их тишине, – в этот момент заика, наконец сделав последнее усилие, закричал своим ненатуральным, высоким голосом фокусника: «Уважаемые дамы и господа! Господин советник медицины доктор Леви повесился». Фотограф вздрогнул, дернул тросик, и фотографический аппарат запечатлел картину, на которой группа людей с полными ужаса глазами смотрит на что-то невидимое за его спиной, словно каждый из них в этот момент увидел будущее.








