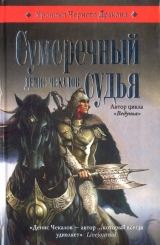
Текст книги "Сумеречный судья"
Автор книги: Денис Чекалов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
– Зденек, – произнес Элдарион. – Мы ведь с тобой всегда хорошо понимали друг друга, верно?
Прозвучало так, словно Лишку не станут избивать.
Тот был настолько наивен, чтобы поверить.
– Мне нужнарукопись, Зденек, – продолжал Элдарион. – Хочу, чтобы ты это понял.
Он постоял немного, повернувшись к Лишке спиной.
– У меня много времени, – сообщил демон. – Чертовски.
– Я не знаю, где рукопись, – произнес маркиз. – Правда, не знаю.
– Может, это и так, – согласился Элдарион.
Дэйбрил ухмыльнулся.
– Тогда потом я перед тобой извинюсь. Ты пойми, Зденек. Мне мало твоего слова. Я должен быть уверен.Начинайте, ребята.
Дергар отошел в сторону.
14
Бурый болотный имп в форме привратника подлетел к нашему экипажу и раскрыл передо мной дверцу.
Вечер наносил на небо легкие штрихи сумерек. Здесь рано начинало темнеть; словно сама природа хотела создать неустойчивое, романтическое настроение для жизни и смерти поэта.
Когда громыхание лифта замерло, нас встретила тишина.
В холле издательства никого не было; только старый гном, с обвислыми усами, как у моржа в детском комиксе. Он читал книгу, аккуратно обернутую в газету.
На стенах висели портреты знаменитых писателей – Гоблина Скарабейки, Мертонда Дингла и Джонатарна Хиггинса; если подойти к картине, и посмотреть в глаза автору, как он сразу же начинал читать вслух, густо и с выражением, – правда, не свои книги, а соседа; при этом поглядывал на того с ухмылкою и словно говорил:
«Экую же чушь ты написал, парень!»
В центре холла поднимался фонтан с волшебной водой; стоило отпить из нее, и тебя начинало тошнить стихами. Выходили, порой, весьма неплохие; жаль только, что все права на них сразу отходили издательству.
– Не вижу стаи писателей, которые бы осаждали офис с рукописями в зубах, – произнес я.
Френки осматривала пустующий холл с видом богини войны, которая недоумевает – отчего земля еще не усеяна трупами павших.
– Пока что ему не приходили бить морду, – констатировала она. – Даже мебель не сломана.
Стоило подойти к двери и протянуть руку, как створка отворилась сама. Орк, закрывший собой проход, выглядел куда более неприступным, чем запертые засовы.
– Офис закрыт, – сказал он.
– Вижу, – подтвердил я. – Тобой.
Френки проворковала:
– Думаю, я продам вам идею одной книги! – сообщила она.
– Какой? – поинтересовался охранник.
Он спрашивал так серьезно, словно на самом деле поверил, будто девушка принесла ему синопсис. Конечно, орк никогда раньше ее не видел, но принять Френки за литераторшу…
– Она называется «Почему Аркаша ест только кашу», – пояснила демонесса.
Я постарался сделать вид, что не знаю эту девушку.
– И почему? – крайне заинтересованно спросил охранник.
– Потому, что ему выбили зубы!
Орк приходил в себя так долго, что я испугался – не хватил ли его инсульт.
– Это плохой сюжет для детской книжки, – наконец сообщил громила. – Знаете ли, в них не должно быть насилия.
– О, это будет книжка для взрослых, – пообещала девушка. – Оченьдля взрослых. Может быть, ее даже станут продавать в специализированных магазинах.
– Я люблю такие, – сообщил охранник. – Но вот читать не очень.
– Не расстраивайся, – ласково улыбнулась девушка. – Ты увидишь все своими глазами. В первой главе избивают одного кретина, который стоял в дверях.
– Зря он это сделал, – согласился охранник.
15
Дэйбрил Элдарион обернулся с таким недоумением, словно его корабль потонул, а он понял это лишь в тот момент, когда рыбы стали стучаться в иллюминатор.
– Что происходит? – спросил дергар.
Френки вынула из кобуры револьвер и приставила к голове издателя.
– Вопрос, – сказала она. – Сколько друзей поэзии умрет на этой неделе?
Два огра у стены играли в обои. Ими был Зденек Лишка, и третий громила старался приклеить его к штукатурке. По всей видимости, забыл про раствор, и потому только зря обивал кулаки о живот маркиза.
Когда мы появились, эти трое прервали свое занятие. Лишка же продолжал делать то, что и прежде; испытывал боль.
– Вот значит, как создаются книги! – протянула Френки.
– Я раньше думал, – произнес я. – Книги делаются так: пришел поэт, легко разжал уста, и сразу запел вдохновенный простак – пожалуйста! А оказывается – прежде чем начнет петься, долго ходят, разомлев от брожения, и тихо барахтается в тине сердца глупая вобла воображения.
Элдарион склонил голову.
– Плохие стихи, – констатировал он. – Размер не соблюден, рифма не клеится. И причем здесь вобла? Непонятно. Надо еще редактировать и редактировать.
– Издатели все такие образованные? – спросила Френки.
Три огра, что размазывали Лишку по стенке, теперь стояли, не двигаясь; неподвижные, как напечатанные буквы, но в любой момент готовые объединиться и обрести смысл слова.
Револьвер, приставленный к голове Дэйбрила, гораздо больше беспокоил охранников, чем его самого. Здравый смысл подсказывал, что должно быть наоборот; но вера способна творить чудеса.
Элдарион не верил,что его могут застрелить – вот так, среди белого дня, в собственном офисе, и на глазах телохранителей. Строго говоря, в этом он сильно ошибался.
Охранники же считали – если сделанная ими ошибка заставит Френки спустить курок, их ждет суровое наказание от Элдариона.
Даже если дергара к тому времени убьют.
– Сейчас поясню, – негромко произнес я.
Вращающееся кресло, стоящее в центре комнаты, привлекло мое внимание, и я сел в него.
– За эти сутки погибло уже двое. Мою партнершу расстраивает, что ни одного не убила она сама.
– Врезать ему? – спросил охранник, который украшал физиономию Лишки расплывчатыми пятнами кровоподтеков, в стиле сюрреализма.
Черт, а ведь парень мог стать художником…
Думаю, он имел при этом в виду, что еще раз ударит Зденека; не мог же огр всерьез полагать, что я позволю ему приблизиться.
– Не будь дураком, – ответил Элдарион, и маленькие глазки дергара скосились на револьвер, приставленный к голове.
Значит, он все-таки видел пушку… Это внушало мне тихую радость.
Если быть точным, глаза демона не были маленькими; но какие-то обрюзгшие, заплывшие кожей, так что выглядели раза в два меньше.
– Зачем быть таким требовательным, – примирительно произнес я. – Твой помощник тот, кем был рожден. Он не сможет измениться.
По всей видимости, Элдарион думал, что от его головы уберут револьвер.
Это было одной из мириада иллюзий, которым суждено рассеяться с утренним туманом.
– Послушайте, – произнес он. – Так дела не делают. Вы что, чокнутые? Вламываетесь тут, суете мне пушку под нос.
– А он адекватно оценивает происходящее, – сказал я. – Я вообще-то эльф очень незлобивый.
Я задумался.
– В школе и университете меня все любили, – продолжал я. – Сам удивляюсь – отчего это… Но сегодня я уже дважды наталкиваюсь на твоих книжных червей. И они ведут себя – как бы это сказать, чтобы не обидеть твой слух? По-скотски.
Я снял со стола Элдариона несколько документов; это оказались подписанные контракты.
– И тогда я решил, – продолжал я. – Что стоит заглянуть к тебе и предупредить. Мне нравится предупреждать людей. Они потом все равно делают то, чего им не велели… Приятно смотреть, как сами лезут головой в прессовальный станок.
В контрактах не оказалось ничего интересного. Поэтому я разорвал их и выбросил на пол.
– Ты чего? – закричал Элдарион.
– А вот перебивать нехорошо, – погрозил я пальцем. – Видно, ты еще не издал ни одного сборника правил этикета. Если. Твои книжные червяки. Еще раз побеспокоят кого-нибудь. Пусть даже будут громко включать музыку, мешая соседям спать. Приду и вышибу тебе мозги.
Я добродушно улыбнулся.
– Все понятно, или повторить?
– Вы с ума сошли! – воскликнул Элдарион.
Я встал, для чего мне пришлось немного потоптать разорванные контракты. Подошел к трем оркам, что пластали по стенке Лишку, и раздвинул их, как шторы.
– Давай, приятель, – произнес я, подхватывая маркиза. – Хватит на сегодня поэзии.
Дэйбрил не шелохнулся.
Сложно двигаться, когда в голову направлено дуло револьвера, а мозги шевелятся достаточно быстро, чтобы понять – внутри черепа им будет гораздо уютнее, чем снаружи.
И все же он зафонтанировал энергией. Его тело задрожало, словно дергар наступил на оголенный провод, лицо покрылось краской.
– Кем вы себя считаете? – закричал Элдарион.
Я помедлил.
– Хороший вопрос, – признал я, и продолжал транспортировать Лишку к дверям. – Иногда я сам себя спрашиваю: Майкл, кто ты, черт возьми, такой?
– Вы не знаете, кто я, – говорил Дэйбрил. – Претор не арестовал вас только потому, что я попросил. Да, я! У меня есть в этом городе кое-какое влияние, и в других тоже. Если вы хоть пальцем меня тронете – гнить вам в подземелье, пока хоббит на горе зубом не цыкнет.
16
Рассеянный свет стелился по больничной палате.
– Ваш друг скоро придет в себя, – произнес врач, заглядывая в медицинскую карту. – Ему еще повезло.
– Спасибо, доктор, – ответил я. – Но этот гном нам не друг.
Лекарь поднял на меня глаза, и его взгляд забился между лицом и стеклами очков-половинок. Он полагал, что не-друзей проще отвозить в простую больницу, а не в дорогую частную клинику.
Или сразу сгружать возле крематория.
Однако эскулап получал достаточно, чтобы навесить на губы замок тактичности. Доктор вышел из палаты так, словно этот уход был главной целью его появления.
Френки осматривала палату с видом архангела Гавриила.
– Здесь довольно прилично, – сообщила она. – Но не все на уровне.
– Зденеку Лишке наверняка будет неуютно, – произнес я. – Когда придет в себя. Он привык к грязным мансардам и запаху алкоголя; как бы с ним ни случилось шока от чистоты.
Гном, лежавший на кровати, пошевелился. Это причинило ему боль; а боль помогла полностью прийти в себя.
– Где я? – спросил Лишка.
– На небесах, – ответил я. – И вам придется заплатить за все свои преступления.
Я не стал подходить близко к кровати; Френки взяла стул и поставила его возле постели больного. Девушка склонилась над Зденеком.
– Вы помните, что произошло? – спросила демонесса.
– Смутно… – ответил гном.
Френки носит платья с такими глубокими декольте, что Марианская впадина по сравнению с ними – лишь незначительная щербинка. Теперь вырез оказался перед самыми глазами Лишки.
Мне пришло в голову, что такое потрясение способно перечеркнуть все усилия медиков, и уложить любителя поэзии прямо в гроб. Но я не стал вмешиваться; нельзя лишать человека шанса умереть от счастья.
– Теперь все позади, – ласково произнесла Френки. – Элдарион больше не осмелится тронуть вас.
Глаза Лишки лихорадочно заблестели.
– Вы не поверили мне. Когда я сказал, что Серхио убили. Подумали, у меня не все дома.
– Тогда все указывало на самоубийство, – ответила Френки.
– Как и сейчас, – вполголоса пробормотал я.
– Вы не понимаете, – говорил Лишка. – Вы видели только то, что вам хотели показать. Посмотрите на фотографии, – те, что напечатали все газеты. Серхио на кровати, с револьвером в руке. Выглядит, словно сцена из кино.
Он закашлялся.
– Я приехал сразу после того, как… как его нашли. Все было перевернуто. Сам он скорчился на полу. Оружие валялось в другом конце комнаты.
– Кто изменил положение тела? – спросил я.
– Фотографы… Те, что пришли потом. Я не знаю, кто были эти люди! Я даже не понял, откуда они взялись. В мансарде все переставили. Забрали улики. Серхио убили, но теперь я не смогу этого доказать.
Я положил пальцы на плечо Френки, и коротко пробарабанил.
– Извините нас, – произнесла девушка.
Она встала и подошла к окну следом за мной.
– Надеюсь, ты не приняла всерьез его слова?
– По-твоему, он лгал?
– Нет – он не лжет нам. И на самом деле верит в то, что говорит. Но себя обманывает, и создает целую теорию заговора. Так человек может вообразить, что девушка его любит, только потому, что та ему не врезала.
– То есть, тело Серхио никто не трогал?
– Люди верят в то, во что хотят верить. Факты вгоняются молотком в заранее заготовленную схему. Если причин для глупости недостаточно, человек придумает их.
– Но что произошло на самом деле?
– Может быть множество объяснений. Самое правдоподобное из них – это были люди Элдариона.
– Зачем книгоиздателю уничтожать улики?
– Не улики, Френки. Представь себе. Великий поэт. У тысяч экзальтированных любителей стихов его имя ассоциируется с чем-то прекрасным и возвышенным.
Лишка не слушал нас; он вновь наполовину погрузился в сон.
– Теперь представь, что его нашли застрелившимся – грязный, в измятой одежде, скорчившийся, повсюду мусор. Можно ли помещать в газетах такуюфотографию? Говорить людям правду об их кумире?
– Наверное, нет.
– Элдарион постарался сделать смерть Серхио красивой. Да, в каком-то отношении Лишка прав. Гибель Багдади связана с большим обманом – но не из-за убийства. Это всего лишь продолжение той лжи, что сопровождала его на протяжении всей жизни.
17
Гном находился в том состоянии, когда явь смешана со сном, и грани реальности перетекают одна в другую, то вспыхивая яркими огнями, то затухая, как звезды, гаснущие с приходом утра. Может быть, ему казалось, что в эти полуразмытые мгновения он вновь общается со своим погибшим другом.
Френки вновь присела возле больничной кровати. То ли глаза Лишки, наполовину прикрытые, уловили движение, то ли раненый ощутил само присутствие девушки. Веки маркиза дрогнули, он посмотрел на демонессу.
– Можете говорить? – спросила Френки.
Лишка кивнул.
– Расскажите мне о Багдади. Каким он был?
Я покачал головой.
Человеку может стать дурно в самолете; для того, чтобы плохо не стало его соседям, придуманы бумажные пакетики.
Но еще никто не выдумал способа, как спасти окружающих от мутного потока воспоминаний.
– Необыкновенный человек…
В голосе Лишки звучала такая истовая, внутренняя убежденность, словно он говорил о воплощении божества. Есть люди, у которых не хватает смелости для того, чтобы жить. Поэтому им необходимо нечто, к чему они могли бы присосаться. Так рыба-прилипала паразитирует возле акулы.
Багдади был всем для Зденека. Маркиз жил не просто подле него; он жил им.Серхио стал его смыслом, его религией.
– Я… Я не могу объяснить этого словами, – говорил тот. – Надо было знать его, говорить с ним… Слышать, как он читает стихи.
Глаза гнома закатились, словно он находился на седьмом небе от счастья.
Я понял, что Зденек вряд ли в состоянии сам ответить на вопрос Френки – рассказать о Серхио Багдади.
Для этого необходимо сделать шаг назад, отделиться от умершего поэта. Нет; для маркиза это было невозможно. Так же, как человек не в силах объективно описать самого себя, разложить по параграфам и пробиркам. Лишка мог говорить о Багдади только отрывочно; набросками, этюдами, в смешанном потоке сознания и ощущений.
– Он много пил? – спросил я.
Лишка нахмурился. Словно я показал ему трещину на совершенной эльдарской вазе; и он не мог ни принять существование этого изъяна, ни отрицать его.
– Хорошо, – произнесла Френки. – Не надо об этом. Расскажите, что произошло тем вечером, когда вашего друга нашли мертвым.
Взгляд Лишки замутился; он возвращался в тот день, и заново переживал его.
– Это было омерзительно, – произнес он. – Просто омерзительно…
– Почему?
– Все они столпились вокруг Серхио. Как стервятники. Журналисты. Фотографы. Люсинда. Диана. Диана вела себя хуже всех…
– Хуже всех?
– Да; кричала, что Серхио любил ее одну, а остальных только презирал и называл прихлебателями. Это было неправдой; все там было неправдой, все так гадко… Эти люди переставляли в комнате вещи, фотографировали, а я ничего не мог сделать. Я никогда ничего не мог сделать… И Серхио лежал на кровати, мертвый…
Глаза Лишки закрылись, взгляд потух; голова вздрогнула, и бледное лицо отвернулось от нас, последним, уже не осознаваемым движением.
– Снотворное начало действовать, – произнесла Френки. – Вряд ли он мог сказать что-то еще полезное.
– Мог, – заверил девушку я. – Такие люди, как Лишка, хуже любого журналиста. Домашние шпионы, они вызнают все сокровенные тайны поэта, а потом, сморкаясь и сопляясь, публикуют эту грязь в дневниковых записках. Но все же хорошо, что он уснул; не знаю, выдержал бы я и дальше мутный поток воспоминаний.
– Какой ты циничный, Майкл.
18
Когда мы вышли из здания больницы, Френки все еще покачивала головой, не в силах прийти в себя от открывшихся ей литературных глубин.
– Лишка тоже поэт, – заметил я. – И неплохой. Но всегда ощущал себя в тени Багдади. Даже после смерти Серхио Зденек не сможет занять то место в поэтическом мире, которое мог бы. Навсегда останется тенью создателя «Моих слов радуге».
Садовая аллея распушивалась вокруг нас шарами подстриженных кустов.
– Нет, Майкл, – произнесла Френки. – Все же поэзия – это не для меня.
– Разве девушкам не нравится, когда им пишут стихи?
– Я люблю, когда мне делают кое-что другое. А ты когда-нибудь сочинял?
– Да, – ответил я. – Однажды написал для – кажется, десяти дам сразу.
Френки смерила меня взглядом, не зная, шучу я или говорю правду.
– Пора навестить мансарду Багдади, – предложил я. – Надеюсь, аура поэзии не успела развеяться.
– Мне казалось, ты не веришь, что его убили.
– Это так. Но тот, кто зарезал Диану Вервье, был явно вдохновлен зрелищем застрелившегося поэта. Как писал Кант, созерцание шедевра подталкивает к созданию нового…
Место, обозначенное как стоянка ландо, на сей раз использовали не совсем по назначению. Три огра занимались тем, о чем обычно говорят – подпирали стену. Однако, поскольку ни одной поблизости не было, они всего лишь наполовину скрючились в положении стоя, похожие на три вопросительных знака, или же на червей, извивающихся на невидимых крючках.
У меня отчего-то создалось впечатление, что они собирались предложить нам отвечать на эти вопросы.
Пустой экипаж стоял поблизости; но вот форейтора нигде не было видно. Я сомневался, чтобы кто-нибудь из трех огров, которые делали на стоянке ничего, мог оказаться кучером. Скорее, им место за рулем парового катка, размазывающего мирных жителей по асфальту.
– Экипаж свободен? – спросила Франсуаз, когда мы подошли ближе.
Один из парней попытался разогнуться; но он слишком долго провел в таком состоянии. От прямохождения уже отвык.
– Для тебя да, детка, – сказал он. – Хочешь, прокатимся?
– Отвали, – приказал первому огру тот, что стоял чуть поодаль.
Такие манеры редко встретишь в человеке, чье лицо годится лишь на изготовление половых тряпок. Поэтому у меня не возникло каких-либо иллюзий. Он приказал отвалить своему подельнику только для того, чтобы подвалить самому.
– Нам нужно всего лишь ландо, – произнес я.
– Мне решать, что тебе нужно, – отрезал главный вопросительный знак. – Придурок.
– Рад познакомиться, – согласился я. – Меня зовут Майкл. Простите, что не подаю вам руки. Ваша наверняка грязная.
– Ты мне не умничай, – ответил человек. – Вы те, что накатили на Элдариона?
– Да, – ответил я. – Френки – вот она.
Девушка улыбнулась и помахала в воздухе пальчиками.
– Не умничай, я сказал, – повторил парень. – Я Фаруг. Когда у таких людей, как Элдарион, возникают проблемы, они идут ко мне.
– Вот как? – насмешливо спросила Френки. – Ты – главный в этом городе чаек?
– Может, и нет, – отвечал вопросительный знак. – Но я крутой. И я объясню вам, почему нельзя наезжать на Элдариона.
– Крутой, – задумчиво произнесла Френки. – Это когда яйца пять минут варятся?
– Ну, – ответил он. – Наверное.
– Это был такой хороший день, – печально произнес я. – Вечерело. Мы разговаривали о поэзии и о Канте. Разве необходимо все это портить?
– Необходимо, – твердо ответил вопросительный знак.
– Ладно, – решительно произнесла Френки. – Парень с вареными яйцами. Уходи и передай Элдариону, чтобы забыл о рукописи Багдади. Пусть издает гоблинские народные сказки. За них никому не придется платить гонорары.
– У меня вареные яйца? – удивился ее собеседник.
Очевидно, нить разговора от него все-таки ускользнула.
Меня всегда удивляло – насколько непонятливыми бывают люди.
– Фаруг! – закричал третий человек, до сего времени хранивший молчание.
Правда, неподвижность сохранять ему не удавалось; он вертелся на месте так, словно ему в пятую точку вонзили рыболовный крючок. И время от времени подергивали за леску.
– Дай я порежу эту стерву!
– Нет, – обреченно произнес я. – Зачем. Зачем было это делать?
– Давай, – кратко распорядился Фаруг.
Третий вопросительный знак бросился вперед. В его руке появилось нечто, что можно было издалека принять за шестой палец. На самом деле, это оказался нож – не очень длинный, с выемкой на лезвии и утяжеленной рукояткой-кастетом.
– Милая штучка, – похвалила Френки.
Девушка не двигалась, пока парень мчался на нее. На всякий случай, я отошел подальше – пятна крови не идут моему серому костюму.
Френки протянула ладонь, перехватила запястье парня и вывернула его.
Он бежал так стремительно, что сам вогнал нож глубоко себе в живот.
Демонесса опустила руку, заставляя делать то же самое кисть парня, с зажатым в ней ножом. В теле вопросительного знака открылось широкое отверстие, не предусмотренное природой. Последняя здесь дала маху – дыра в животе очень пригодилась бедняге. Из нее здорово вываливались внутренности.
– Ой, – виновато сказала девушка.
Она отступила в сторону так ловко, что ни одна капля крови не попала на ее одежду.
– Вот что бывает, когда мальчики играют с острыми предметами! Разве мама тебя не учила, что так делать нехорошо?
– Ты!
Парень попробовал закричать, но у него возникли проблемы с уровнем громкости.
Сложно изрыгать слова, когда твой желудок роняет кишки.
– Фаруг, она меня ранила…
Двое его товарищей начали отступать. По всей видимостью, они собирались бежать за помощью; миль этак за сто, или еще дальше.
– Нет, бедняжка, – проворковала девушка. – Я тебя не ранила. Я тебя убила. Только ты еще этого не знаешь.
Парень с распоротым животом прошел насколько шагов – то ли по инерции, то ли надеялся, что сможет куда-то прийти.
– Здесь неподалеку больница, – подсказала Франсуаз. – Может, они и помогут тебе… Прожить еще минут пять.
Парень рухнул на асфальт, погребя под собой гору вывороченных внутренностей.
– Что же, Майкл, – девушка пожала плечами. – Похоже, нам придется искать ландо в другом месте.
19
– Красивый дом, – заметила Френки, поднимая голову. – Может, ты был неправ, представляя мансарду Багдади в виде грязного чердака.
– Я всегда прав, Френки, – ответил я. – Только правда часто прячется за изящным фасадом. Погляди на себя. Кто бы мог подумать, что под внешностью красотки скрывается такая стерва.
– Надо мне в глаза заглянуть, – пояснила девушка.
Дом был выстроен еще в конце прошлого века; в те времена красоте и изяществу в мелочах уделяли такое же внимание, как сегодня спортивным новостям. По краям фасада тянулись декоративные башенки из сверкающего металла, и флюгера в форме соколов украшали их.
– Понимаю, почему Багдади выбрал этот дом, – сказала Франсуаз.
– Вишенка, – произнес я. – Тебя так же просто восхитить, как провинциалку в большом городе. Серхио поселился здесь, так как квартплата была маленькой.
Серая кошка переходила нам дорогу; Френки посмотрела на нее, и та, мяукнув, испуганно нырнула в кусты.
– Не терпится смешать его с грязью? – спросила девушка.
– Нет… Но я не люблю, когда толпа начинает расхваливать тех, кто этого недостоин.
Дом разлапливался четырехугольником, – похожий на гигантского неуклюжего краба, выбравшегося на берег. Темный провал арки вел во внутренний дворик; день склонял голову к вечеру, и здесь уже царил полумрак.
– В таких зданиях красивым бывает только фасад, – заметил я. – Это как внешность человека и его душа.
Арочный проход закончился, раскрывшись над нашими головами четырехугольником неба.
– Да, – произнесла Френки, осматриваясь. – Я видела подземелья, которые выглядели привлекательнее.
Вокруг копошились люди.
Двор походил на старое, заброшенное помещение склада, где там и здесь разбросаны забитые ящики; и сами они уже не помнят, что находится в них.
– Ты говорила о тюрьме, Френки, – заметил я. – Разве все эти люди не живут в своей собственной?
– Они свободны, – коротко ответила девушка. – Нам сюда.
– Разве? – спросил я. – Думаешь, у них есть шанс выбирать, где им жить и чем заниматься? Здешние стены – такие же кандалы. Но узник надеется, что когда-нибудь окажется на воле; а эти? Даже не мечтают выбраться из душного дворика, и вдохнуть иной воздух, кроме пропитанного запахом неисправных газовых горелок и дешевой еды.
– Человек всегда свободен, – ответила девушка.
Подойдя к двери, на мгновение она остановилась, не решаясь дотрагиваться руками; потом пнула ногой. Створка открывалась на себя; но от удара качнулась и приотворилась.
– Только когда человек смиряется с положением раба, он им становится.
– Это происходит очень быстро, – заверил я.
Лестница походила на кишку какого-то чудовищного морского змея, в недра которого мы попали. И пахло здесь так же.
– Известно, что самые прекрасные из цветов лучше растут в навозе, – заметил я. – Не думал, что к стихам это тоже относится.
Мансарда, в которой жил Серхио Багдади, и где он вышибил свои поэтические мозги, находилась под одним из фигурных флюгеров. Потолок был настолько низок, что приходилось нагибать голову.
– Как здесь можно жить? – процедила девушка.
– Тот, кто привык склоняться перед жизнью, – ответил я. – Проводит ее в согнутом состоянии. «Если же мы верны чертежу, головой достаем до звезд».
Мне не хотелось верить, что Серхио мог оказаться иным. Я представлял его спившимся, больным человеком, который проводил дни то в окружении прихлебателей, то, в горячечном бреду, строчил странные стихотворения.
Однако картина, представшая нашим взорам, оказалась чересчур отвратительной даже для меня.
Мансарда не была опечатана; да и зачем, если смерть поэта все считали самоубийством. Видимо, вещи, которые принадлежали Багдади и могли иметь в связи с этим хоть какую-то ценность, тоже покинули тусклое, неприветливое помещение. Все, что осталось – мебель, какие-то книги, в запачканных обложках и вовсе без них; засаленные подушки; зеркала и занавеси; пыль.
– Осторожнее, Френки, – предупредил я. – Здесь могут быть клопы или клейвосские уховертки.
Именно так представляешь себе притон самого опустившегося наркомана; ничего прекрасного, ничего возвышенного – только грязь и еще раз грязь.
Я сложил руки на груди.
– Что-то не хочется проводить здесь обыск, – сказала Френки.
– Знаешь, – негромко произнес я. – Все же я сказал неправду. Багдади мне неприятен не потому, что когда-то, в школе, меня заставляли учить наизусть стихи.
– Тебе хотелось верить? – спросила Френки.
Я взглянул на нее, удивившись, как она поняла мои чувства.
– Да, – сказал я. – В то, что достойно веры. Но я так этого и не нашел.
20
Шаркающие шаги за дверью шепнули, что к порогу кто-то подходит; когда дверь тихо отворилась, заставив вздрогнуть лохмотья, навешанные на крючок для одежды, – в проеме появился человек.
Он тоже был согнут, как приходилось сгибаться всем, кто находился в этой мансарде; но жесткий накат плеч говорил о том, что ему уже никогда не распрямиться. Мозолистые руки, с полусжатыми пальцами, выдавали в нем человека, привыкшего много работать с землей.
– Пришли посмотреть? – спросил незнакомец.
Глаза у него были маленькими и живыми.
– Да, – ответила Френки.
– Нет, – сказал я.
Он заморгал – с интересом. Ему могло быть и сорок, и шестьдесят.
– Вы знали Диану Вервье? – спросил я.
Не дожидаясь ответа, продолжил.
– Ее убили сегодня днем. Мы ищем того, кто это сделал. Поэтому мы здесь.
По тону человека можно было понять – он успел составить о нас неблагоприятное мнение, и теперь рад, что оно оказалось ошибочным.
– Я подумал, вы пришли просто поглазеть, – произнес старик. – Как все эти ненормальные. После того, что здесь прошлым вечером произошло, они так и ходят. Будто им делать нечего.
Он почесал в затылке.
– Нехорошо это, – подытожил незнакомец. – Не по-людски. Раз умер человек, надо его в покое оставить.
Спохватился, что так и не назвал себя.
– Я Риин, этажом ниже живу. Совсем под этим чердаком. Лора – она женой поэту была – просила за квартиркой его присмотреть. Вещей-то ценных тут не осталось, да и не было их вовек. Но все же надо, чтобы кто-нибудь приглядывал.
– Чем вы занимаетесь? – спросила Френки.
Человек засмеялся.
– Я свое уже отработал, – сказал он. – Давно уже. Теперь вот, в земле копаюсь. Яблонки развожу.
Слова старика звучали спокойно, почти отстраненно. Так он мог бы обращаться к себе самому; не дожидаясь ни ответного слова, ни даже кивка собеседника. Я понял, что Риин часто разговаривал так, частью с самим собой, частью – с огромным миром, что окружал его.
И никогда не ждал ответа.
Это была тихая гордость, неброская. Не та, что пестрит яркими огнями, рассказывая о себе каждому проходящему мимо. Спокойная, как и он весь, погруженная в саму себя. Ничто из происходящего в мире не в силах ее поколебать; никакие слова не могли опровергнуть.
Он противопоставлял свои стариковские яблонки – так вот, без мягкого знака – тому образу жизни и тем занятиям, которым предавались Серхио Багдади и его окружение в тусклой мансарде с низким потолком.
– Вы знали Диану Вервье? – спросил я.
– Видел несколько раз… Вообще-то я мало знался с теми людьми, что к Серхио приходили. Нехорошие они были. Недобрые.
Старик замолчал; он привык вот так затихать, надолго опускаясь на дно своих размышлений; ибо обычно не было собеседника, который ждал продолжения его слов.
– Злые? – спросила Френки.
Моя партнерша могла представлять себе тех, кто посещал мансарду поэта, какими угодно – восторженными, как Лишка, и циничными, как Люсинда; отравляющими тело наркотиками и губящими душу нездоровым бездельем. Но злыми?
– Не злые, – возразил Риин. – Недобрые.
Френки взглянула на него хмуро и неодобрительно.
Девушка всегда так смотрит на людей, когда не может понять, что они пытаются сказать или сделать.
– Серхио слабый был, – произнес старик. – Больной. Ему бы лечиться. Но куды лечиться-то – с такими друзьями.
Последнее слово он произнес неодобрительно.
– Лишка этот. Другом себя называл. А разве сделал что? Я-то видел – не нравилось ему, что Серхио пьет так много. И те, что у Серхио сидели по вечерам, Лишке тоже не по душе были.
– Маркиз вам об этом говорил? – спросил я.
– Пару раз… Спускался, было, ко мне, тоже пьяненький – однакоже не так, как прочие напивались. Меру знал. Но я так скажу – не только в этом дело. Чужим он себя там порой чувствовал, в мансарде. Знал, что Серхио пить нельзя, что талант свой губит. Но поперек другим ничего сказать не решался.
– Считаете, у Багдади был талант? – спросил я.
– Когда-то… Я его ранние стихи читал. Хорошие. Добрые… За душу брали.
Старик замолчал, глядя куда-то сквозь пространство. Улыбки не было на его лице; но тень улыбки. И глаза, живые, тоже начали светиться чем-то – словно смотрел он на свои яблонки, и тихо радовался тому, как они растут.







