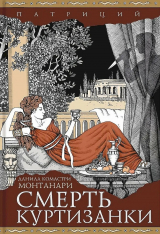
Текст книги "Смерть куртизанки"
Автор книги: Данила Комастри Монтанари
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
XVI
ШЕСТОЙ ДЕНЬ ПЕРЕД ИЮЛЬСКИМИ ИДАМИ
Большой зал был освещён как днём. В массивных серебряных и бронзовых канделябрах горели ароматические свечи, их сладкий, густой запах опьянял и слегка кружил голову.
Триклинии, инкрустированные ониксом и розовым нефритом, были покрыты мягкими подушками в драгоценных шелках, привезённых из далёкой Индии и стоивших многих человеческих жизней.
Вокруг роскошно накрытого стола с самого утра кружили редкостной красоты рабыни, следившие за приготовлениями к празднику.
Золотистые кудри блондинки из Британии контрастировали с чёрными как смоль волосами стройной эфиопки, узкие глаза сиамки – с огромными, подведёнными бистром[65]65
Краска чёрного цвета из древесной сажи, смешанной с растворимым в воде растительным клеем; также использовалась европейскими художниками XV–XVIII веков при рисовании пером и кистью.
[Закрыть] глазами египтянки.
Казалось, самые прекрасные и изящные женщины собрались здесь со всех концов света, чтобы показать богатство и хороший вкус господина.
Красота их чувственных фигур подчёркивала изысканную обстановку дома Аврелия и дополняла коллекцию собранных в зале произведений искусства.
Среди редких керамических изделий и ювелирных шедевров выделялась статуя Афродиты в человеческий рост, которая стояла в конце зала. Эту скульптуру Аврелий приобрёл на аукционе в Пергамо после ожесточённой борьбы под звон золотых монет.
Всё, что утончённый сенатор коллекционировал в течение долгих лет, сейчас было выставлено в большом зале, чтобы радовать его во время последнего званого ужина.
На винной полке среди ароматных цветочных венков, в изобилии украшавших зал, красовались амфоры из прозрачного стекла, наполненные фалернским, эрбулийским, мамертинским и другими дорогими винами.
Несколько удручённые сотрапезники, расположившиеся на триклиниях, ожидали начала празднества.
В зале никто не разговаривал, слышались только мелодии систр и кифар, на которых играли музыканты, скрытые за ширмами из резного дерева.
Сервилий и Помпония, сидящие возле незанятого места хозяина дома, мрачно осматривали других приглашённых, бросая на них недобрые взгляды.
Руфо сидел прямо, не шелохнувшись, словно статуя античного героя или же памятник самому себе, навсегда застывший в строгой, жреческой позе.
Как и предвидел Аврелий, несмотря на траур, никто из семьи Руфо не отказался от долга почтить присутствием смерть истинного римлянина – ни Марция, выпрямившаяся в своём кресле возле отца, ни Гай, растерянный, нервно сжимавший пальцы, бросавший на сестру тревожные взгляды, которые, казалось, умоляли о помощи.
На отдельном триклинии без тени смущения и беспокойства возлежала великолепная и надменная Лоллия Антонина в расшитой золотом тоге.
Кастор усердно обхаживал гостей, стараясь занять время в ожидании прибытия господина, которое, казалось, тянулось нескончаемо долго.
В конце стола неловко ютились на больших скамьях скромная прачка и плотник из Субуры. Они с большой неохотой приняли приглашение в дом язычника, который к тому же собирался принять смерть от собственной руки, и невольно задавались вопросом, зачем их позвали на этот роскошный ужин, но не решались высказать это вслух.
Напряжение усиливалось. Наконец из центральной двери появился Аврелий, невозмутимый и гордый. Белоснежная льняная, расшитая серебром тога тонкими складками ниспадала к мягким сандалиям. И никаких драгоценностей – только перстень с крупным резным рубином для печати на завещании.
За Аврелием, словно зверь на поводке, следовала Псека в короткой облегающей тунике из леопардовой шкуры, которая подчёркивала её варварский, дикий вид. При её появлении шёпот в зале затих и наступила глубокая тишина.
– Приветствую вас, друзья! Благодарю, что пришли ко мне в гости!
Неторопливым шагом Аврелий прошёл к своему месту на главном триклинии, а рабыня с кошачьей повадкой уселась у его ног. Сервилий и его жена озабоченно переглянулись.
– Как вы знаете, я пригласил вас сюда, чтобы сказать вам последнее «Прощайте!». А поскольку я хочу расстаться с жизнью так же весело, как прожил её, сгоните печаль с ваших лиц, друзья мои, и давайте пировать! Но сначала, как хозяин дома, я должен по традиции совершить возлияние в честь бессмертных богов, которые вскоре примут меня в своё царство теней. Приветствую тебя, бог Тартара и новопреставленных, тебе посвящаю я свой званый ужин! – произнёс Аврелий и пролил на пол несколько капель фалернского вина, которое ему подал виночерпий. – А теперь примемся за еду, друзья, чтобы потом не говорили, будто Аврелий Стаций пришёл к лодке Харона голодным! – заключил он и с улыбкой обратился к первому блюду. – А серьёзные проблемы оставим на потом.
Один за другим гости неохотно последовали его примеру.
На полу скопилось уже немало объедков, когда беседу, которая поддерживалась только живостью хозяина дома, неожиданно прервал Энний, до этого момента хмуро молчавший.
– Ты в самом деле собираешься вскрыть себе вены, когда закончится ужин? – спросил он, с пылкой непосредственностью затронув деликатную тему, которой никто не решался коснуться.
– Конечно, – спокойно ответил Аврелий.
– Не делай этого, заклинаю тебя. Не прерывай свою жизнь с таким лёгким сердцем после этой… – Энний замолчал, подыскивая слово, и никак не мог найти его, – …после этой шутки, – завершил он наконец, внимательно глядя на патриция. – Подожди суда, и если обвинение окажется неизбежным, то приготовься к смерти в одиночестве и размышлениях. Смерть – это серьёзно.
– Нет, Энний. В ней нет ничего ни серьёзного, ни страшного. Я не увижу смерть в лицо: никто не может увидеть её. Пока я жив, смерти нет. А когда она появится здесь, меня уже не станет. Так говорил один мудрый грек много лет тому назад.
– Вижу, благородный Аврелий, что Эпикур очень хорошо научил тебя общаться со смертью и несколько меньше, наверное, с женщинами, – скрывая за улыбкой обиду, заметила Лоллия. – Тебе так важно умереть с честью, умереть римлянином?
– Да, благородная Лоллия. Смерть неизбежна, а сегодня – последний день, который даровали мне бессмертные боги. А поскольку я должен умереть невиновным и теперь уже никто не в силах изменить мою участь, я хочу, чтобы хотя бы вы, мои друзья, знали правду.
Наступила полная тишина. Все взгляды устремились на него.
– Да, потому что я знаю правду об этих преступлениях. Знаю, кто убил твоего мужа, Марция, и твою сестру, юная Клелия, – уверенно, с лёгкой иронией произнёс он.
– Но как… – взволнованно воскликнул Сервилий.
– К сожалению, знать правду – это одно, а доказать её – совсем другое. И в подтверждение тому, что я расскажу вам, у меня есть только одно шаткое доказательство, которое не примет ни один суд, – свидетельство этой маленькой рабыни, которая видела человека, убившего распутницу Коринну двадцать дней тому назад на Авентинском холме.
Клелия глухо вскрикнула, а Марция задрожала и попыталась взять себя в руки. Псека, оказавшись внезапно в центре внимания, вытаращила свои огромные глаза и хотела было что-то сказать, но господин жестом велел ей молчать.
– Ты знаешь, кто убил Цецилию? – отважился спросить плотник, в котором любовь к прекрасной куртизанке превысила благоговение перед почтенным собранием.
– Да, знаю, Энний. И всё равно мне придётся умереть из-за преступления, которого я не совершал. Не за убийство твоей возлюбленной, которое уже никого не интересует, а за убийство римского гражданина, зятя сенатора Руфо, в чём меня обвиняют. И всё же оба преступления тесно связаны между собой, и убийца в обоих случаях один и тот же. Более того, второе убийство – это следствие первого, как если бы, приведя в действие какой-то адский механизм, убийца не смог остановить его. Власти потратили совсем немного времени на расследование смерти заурядной распутницы, но именно с неё нужно начинать, чтобы понять, почему убили Квинтилия. Первое убийство, по сути, устроило всех…
– Как ты можешь так говорить? – возмущённо вскричала Клелия.
Другие сотрапезники молчали, ожидая, что ещё скажет Аврелий. Но он медлил, с олимпийским спокойствием изучая лица гостей.
Энний был явно испуган.
В глазах Клелии отражались презрение и обида. Марция и Гай затаили дыхание, подавляя гнев. Руфо, этот старый лев, словно надел каменную маску, но глаза его, подобно ядовитым иглам, сверлили оратора.
Во взгляде Лоллии, твёрдом и притворно равнодушном, Аврелий угадывал некую озабоченность. Беспокоилась ли она о нём хоть немного? Или её больше тревожила судьба Руфо, любовника?
Помпония, Сервилий и Кастор ловили каждое его слово, словно в ожидании чуда фокусника. Аврелий хлопнул в ладоши, музыканты тотчас умолкли и, покинув свою нишу, исчезли в глубине дома.
И наконец Аврелий продолжил:
– Да, смерть Коринны, можно сказать, спасла положение, потому что была выгодна каждому из вас по различным причинам…
– Но не мне! – в гневе вскричал Энний, которого не смогли остановить ни уважение к собранию, ни простая осторожность.
– Тебе тоже, Энний. Тебе – добродетельному христианину, отличному работнику и честному человеку, по-настоящему любившему её. Но именно потому, что ты любил эту женщину слишком крепко, тебе выгодна эта смерть!
И тотчас стремительно поднялась со скамьи Клелия, загородив собою плотника, который уже готов был наброситься на циничного патриция.
– Да, и тебе тоже, – спокойно продолжал Аврелий, – ты видел, как скромная дочь прачечника, на которой ты надеялся жениться, стала куртизанкой и продавалась богатым старикам за шелка и драгоценности; ты видел, как низко она падает и в то же время поднимается слишком высоко, чтобы ты мог достичь её. Твоя любовь, твоя преданность не в силах были удержать её. Она изменяла тебе, и, несмотря на это, ты не мог отказаться от неё. Вместо того чтобы презирать, ты только ещё больше жаждал её. Ради неё ты нарушил заповеди твоего бога, из-за неё чувствовал себя ничтожеством и продавал душу дьяволу. И спрашивал себя, почему должен терзать своё сердце, отдавая его в хищные руки проститутки.
– Это неправда! – яростно вскричал Энний, крупные слёзы катились по его щекам.
– Правда, Энний. И кто бы стал упрекать тебя, если бы в порыве гнева или отчаяния ты убил её, когда она сказала, что всё кончено, что твоему страстному обожанию предпочитает звонкие монеты старика, отвратительного мужа Лоллии?
Патрицианка гордо вскинула голову и съязвила:
– А теперь, благородный Аврелий, ты скажешь, будто Коринну убила я, приревновав к Страбону!
– Я никогда не позволил бы себе, прекраснейшая Лоллия, приписать тебе такую нелепую причину. Мы все знаем, что бедная Коринна была дорога тебе, потому что облегчала – за плату, конечно – выполнение неприятного супружеского долга, освобождая тебя для других интересных дел… – ответил Аврелий, выразительно взглянув на невозмутимого Руфо. – Однако внимание! Не исключено, что у тебя были и другие причины освободиться от неё. Например, чтобы выгородить одного важного человека…
– Если намекаешь на меня, Аврелий, то знай, что я не встречаюсь с Лоллией по меньшей мере уже два года! – с раздражением произнёс Руфо.
– И всё равно нашей знатной матроне было бы нетрудно убить распутницу! Она знала её, может даже, наняла специально, чтобы та развлекала её мужа. Конечно, предположение не слишком убедительное, но горничные Коринны уверяют, что она навещала её…
– Рабы и плебеи! – с презрением фыркнула Лоллия. – Их слова ничего не стоят! Особенно этой девчонки, даже если ты утверждаешь, будто она видела убийцу…
– Будь это так, – снова заговорил Руфо, – хозяин дома, пригласивший нас, мог бы открыть нам имя убийцы и положить конец этой недостойной комедии. Если бы я знал, Аврелий, что меня здесь ожидает, то ни за что не пришёл бы сюда. Я был глупцом, когда поверил, будто ты хочешь умереть как римлянин, прожив жизнь как хитрая собака. – Старик с презрением огляделся. – Я допустил ошибку: достоинство обретают не после смерти, но при жизни. Думаю, ты вовсе не собирался вскрывать себе вены; более того, подозреваю, что просто стараешься схитрить и отодвинуть как можно дальше единственный правдивый момент в твоём жалком существовании, который мог бы сделать тебе честь как мужчине и как римлянину. Поэтому поторопись, Аврелий, ни я, ни мои дети не намерены долго ждать. Или, может быть, ты и меня собираешься обвинить в убийстве дешёвой проститутки и моего зятя?
– А почему бы и нет, благородный Руфо? Твоя суровость не спасает тебя от некоторых обвинений, напротив, делает одним из наиболее вероятных участников этого события. Но ты ошибаешься, если думаешь, будто я хочу сказать, что ты убил Коринну в пылу неудержимой страсти. А вот ради защиты своих принципов ты мог бы сделать это совершенно хладнокровно.
Старик посмотрел на него без всякой обиды.
– Действительно, существует немало веских причин для убийства. Я, конечно, убил бы, не поколебавшись, если бы счёл это необходимым. Разве не то же самое делают каждый день солдаты на войне? Разве не это призваны делать судьи в наших судах ради общего блага? Когда ветка отсыхает, мы отрубаем её. Когда рука заражена и гангрена может распространиться на всё тело, мы ампутируем руку. Позволь сказать, что я не считаю преждевременный конец куртизанки и даже моего зятя невосполнимой утратой для общества. Слишком много шума поднялось вокруг их смерти. Прежде придавали больше значения не тому, как умер человек, а как он жил.
– Ну конечно, Руфо, мне нетрудно представить тебя в роли сурового Брута[66]66
Брут, Марк Юний – основатель Римской республики. За монархический заговор присудил к смерти двух собственных сыновей наравне с другими заговорщиками и приказал ликторам исполнить приказ.
[Закрыть], который казнит своих детей, виновных в том, что те не исполнили солдатский долг, или в роли отца целомудренной Вирджинии, вонзающего кинжал в грудь дочери, лишь бы избавить её от позорного рабства. Да, ты увлечён великими примерами древности, и я остерегусь обвинять тебя в низких чувствах. Но даже ты не всегда был лишён плотских желаний, – продолжал Аврелий.
– А ты хотел бы, Аврелий, чтобы римский сенатор вёл себя как весталка или отказался бы от своего мужского достоинства, кастрируя себя, подобно жрецам Кибелы[67]67
Кибела – богиня, олицетворявшая плодородие и женское начало. Её жрецы часто по собственной воле становились кастратами, отвергая свою мужскую силу, принося ее в жертву Кибеле. Молодые люди, желавшие стать жрецами Кибелы, прямо во время праздника богини оскопляли себя на глазах у зрителей, пришедших поглазеть на ритуальное шествие, по красочности походившее на современные гей-парады. Впоследствии римские власти, осознав пагубность подобных религиозных практик – многие оскопившие себя юноши умирали, – постарались ограничить служителей культа.
[Закрыть]? – возразил строгий патриций.
– Вот именно, благородный Руфо, вот именно! В этом, конечно же, никто не может обвинить тебя, – согласился Аврелий, бросив взгляд на прекрасную Лоллию. – Поскольку моя речь не ущемляет твою честь, прошу тебя набраться терпения и выслушать её. Я буду осуждён, и если уж не могу доказать свою невиновность, то позволь мне хотя бы открыть до конца печальную историю, в которую ты тоже волей-неволей вовлечён, и поставить точку в этой, как ты считаешь, комедии.
Кивнув в знак согласия, Руфо предложил ему продолжать.
– У меня есть ещё одна история, которую я хочу рассказать вам. История несчастливой и безответной любви.
– Я люблю только Иисуса Христа! – вскричала Клелия, хотя никто ни о чём её не спрашивал.
– Зато твой драгоценный Энний, к сожалению, всегда предпочитал твоему чистому, целомудренному обожанию вызывающую красоту твоей сестры!
– Ты, негодяй! Бог накажет тебя за твои богохульные слова!
– Я не страшусь бессмертных богов, которые и так уже наказали меня, позволив обвинить меня в том, в чём я не виноват. Значит, я могу продолжать, не опасаясь, что меня испепелят молнии Зевса или твоего Христа.
Аврелий посмотрел прямо в глаза девушки, и она опустила их.
– Моя бедная Клелия, ты завидовала Коринне с самого детства, не отрицай этого. Знаю, что ты всячески подавляла в себе это чувство, считая своим долгом любить сестру и прощать её, но так и не смогла этого сделать. Она была красивее тебя, пренебрегала вашей работой, сваливала её на тебя и лишь позволяла любить себя человеку, которого ты обожала. Ты могла подарить Эннию радости семейного очага и добродетельного счастья, но он предпочёл бегать за грешницей Коринной. Нет, не терзай себя за то, что ненавидела её: твоё чувство понятно, оно человечное.
– Но не христианское… – прошептала Клелия, опустив голову, и достойно, без слёз, заговорила: – Это верно, я ненавидела её, хотя и знала, что не должна так поступать. Ненавидела и надеялась, что Бог накажет её за распутную жизнь, за то, что она сделала с Эннием. Я думала: это будет ужасно, если она заболеет какой-нибудь страшной болезнью, ведь тогда он не захочет и смотреть на неё. Но она только становилась всё красивее и преуспевала в грехе, тогда как я лишь губила себя ожиданием. Когда я узнала, что её убили, первое, о чём подумала: это справедливо, таким и должен быть её конец. Потом вспомнила, как мы росли в детстве, и не могу простить себя за эти мысли.
– Клелия! – произнёс плотник и хотел было взять её за руку, но так и не решился к ней прикоснуться.
– Но это ты ударом кинжала убила сестру, которая отняла у тебя любимого мужчину, да или нет, отвечай! – строго спросил Аврелий.
– Я лишь желала ей смерти, но тем самым всё равно что убила, теперь Бог накажет меня! – воскликнула Клелия и отчаянно разрыдалась. Энний смотрел на неё, не говоря ни слова.
– Если эта женщина ненавидела сестру, значит, вполне возможно, что и убила её! – визгливым голосом вдруг закричал Гай. – И кроме того, только она сама говорит о своей невиновности. А чего стоят слова жалкой распутной женщины, входящей к тому же в мерзкую христианскую секту, которая на подозрении даже у императора!
– Мой сын прав, Аврелий, – заметил Руфо. – Я тоже не стал бы доверять словам какой-то последовательницы Христа; всем известно, что эта новая секта держит в секрете свои отвратительные и кровавые обряды. К тому же их пророк был казнён как смутьян.
При этих словах Клелия подняла голову и, оскорбившись за свою веру, нашла мужество ответить самому уважаемому гостю собрания.
– Всё, что тебе известно о нашем учении, и то, о чём говоришь сейчас, не соответствует истине, благородный Руфо, – с достоинством произнесла она. – Мы не совершаем позорных или противоречащих законам Рима поступков. Да, наши службы предназначены только для наших братьев и сестёр во Христе, но то же самое происходит и во многих других верованиях, у их служителей тоже есть свои таинства, у Митры и Изиды, например.
– Все эти ритуалы годятся только для восточных рабов! – взорвался сенатор. – Для развратных египтян или для обрезанных евреев. А ты, случайно, не еврейка?
– Нет. Я – дочь вольноотпущенника из твоего клана, благородный Руфо.
– В таком случае ты должна приносить пожертвования нашим ларам[68]68
Лары – у древних римлян обожествлённые души предков, которые защищали дом, семью, её имущество и все её дела. В каждом доме имелся небольшой алтарь, посвящённый ларам. Кроме них, существовали ещё семейные божества-покровители – пенаты.
[Закрыть] вместо того, чтобы бездельничать и болтать всякую ерунду о какой-то восточной вере! – строго заключил сенатор.
– Дискуссия о религиях, конечно, очень интересна, – вмешался Аврелий, – но она уводит нас от нашего разговора. Прошу вас, друзья, отложите ваши споры. Я не слишком полагаюсь на помощь бессмертных богов, как бы они ни назывались, и не надеюсь продолжить в другом мире мою жизнь, которая близится к концу. Время идёт, поэтому позвольте довести до вас мои соображения.
В зале воцарилась уважительная тишина.
И Аврелий обратился к Марции. Она до сих пор ещё не произнесла ни слова.
– Хотя ты овдовела совсем недавно, Марция, всё-таки вынужден упомянуть и тебя, – решительно заговорил он. – В самом деле, вполне возможно, что Клелия убила свою сестру, но в таком случае как объяснить убийство твоего мужа и ловушку, в которую меня завлекло письмо, написанное, как я думал, твоей рукой?
Руфо побледнел от возмущения:
– Как ты мог подумать, что моя дочь назначит тебе свидание? Или ты полагаешь, будто имеешь дело с одной из твоих грязных потаскух?
– Имеются серьёзные причины, Руфо, из-за которых даже самой целомудренной матроне бывает нужно встретиться с посторонним человеком вдали от семьи, к тому же иногда чересчур бдительной, – резко ответил Аврелий. – Скажи-ка мне теперь, благородная Марция, ты написала вот это письмо? – и он протянул ей послание, которое вовлекло его в беду.
– Нет, я никогда не видела его, сенатор.
– А другое, в котором назначила мне свидание у храма Эскулапия вечером после ужина в твоём доме?
– То письмо писала я. Не отрицаю. Это верно, я приходила к храму и говорила с тобой…
– Марция! – вскипел потрясённый отец.
– Я посчитала необходимым рассказать Аврелию о своих подозрениях о Квинтилии, когда узнала, что он интересуется смертью Коринны, – спокойно объяснила молодая женщина.
– Выходит, ты втайне встречался с моей дочерью, грязный развратник! – заорал взбешённый Руфо, и только вмешательство тучного, но проворного Сервилия спасло Аврелия от ярости сенатора.
– Успокойся, ничто из того, о чём говорится здесь, не выйдет за пределы этой комнаты. Я не стану умирать, пока не вскрою правду, будь уверен, и, уж конечно, меня не остановит позор твоей дочери, которая, между прочим, вела себя безукоризненно. Да, мы встретились с Марцией, но только для того, чтобы поговорить об убийстве.
– Это верно, отец.
– Ты должна была спросить у меня разрешения! – несколько успокоившись, проворчал Руфо.
– Марция, ты ненавидела своего мужа, нет смысла скрывать это, и к тому же подозревала, что он убийца. Или, во всяком случае, хотела, чтобы я в это поверил. Признаюсь, что из всех, кто связан с этой печальной историей, ты очень долго казалась мне самым вероятным убийцей. И в самом деле, тебя трудно было бы осудить, если, устав от издевательств мужа, ты вдруг восстала бы и освободилась от него, перерезав ему горло.
– Как ты мог такое подумать?
– Я так подумал, и совершенно серьёзно, благородная Марция. Достаточно было посмотреть на жертвы этого преступления. Коринна, твоя соперница, и муж, которого ты ненавидела. Однако затем новые сведения заставили меня изменить своё мнение, и теперь я уверен, что не ты совершила эти два убийства.
– Новые сведения? – спросила Помпония, которая до этого момента была на редкость молчалива. – И что же тебе стало известно?
Её любопытство на этот раз объяснялось тревогой за Аврелия.
– Неприглядная и печальная история, герой которой – испорченный и болезненно ранимый юноша. Молодой человек, ещё только начавший взрослую жизнь, но уже полагающий, что не подвержен людским слабостям. Презирает женщин и плотскую любовь, считает себя поэтом и философом. Воспитан в величайшей строгости чересчур суровым отцом и недавно надел мужскую тогу, будучи отягощён багажом твёрдых принципов, который не в силах выдержать его слабые плечи.
Руфо на мгновение закрыл глаза. Он с трудом переносил унизительный, безжалостный намёк на его единственного сына. Потом вдруг тяжело вздохнул, словно решил вытерпеть всё, даже самое невыносимое.
– Юноша, в высшей степени избалованный матерью, слабый, беспомощный, бездарный человек. В его голове перепутались героические максимы стоиков с чувственным опьянением греческой поэзией, которую он читает тайком от отца. Но это опьянение ему не удаётся испытать ни с одной женщиной, и тогда он начинает думать, будто выше этих искушений.
Гай густо покраснел. Правая рука, в которой он держал кубок с вином, заметно дрожала. Марция подошла к нему и осторожно отобрала у него вино.
– Отец, мы и дальше должны слушать этого человека, который поливает грязью моего брата? – тихо спросила она.
Старый Руфо оставался невозмутимым, словно дочь обращалась не к нему, а наследник, носящий его имя, едва не терял сознание.
– Но потом неожиданно для молодого эстета всё меняется, – невзирая ни на что, продолжал Аврелий. – В его доме появляется человек, совершенно непохожий ни на мудрых философов, ни на суровых солдат, и он вынужден постоянно общаться с ним. Это грязный извращенец. Он уже пытался вовлечь в свои оргии жену, но не сумел. Для него не существует никаких этических норм. Он без колебания растрачивает приданое жены и состояние уже почти разорившегося свёкра.
Но ему скучно, и его снедает сильнейшая неприязнь к строгому отцу семейства, который ждёт, что он ещё ответит за все свои распутства. И тогда он решает взяться за сына – с ним справиться намного легче.
Гай впился в Аврелия безумными глазами и повторял про себя: «Это не так, это не так!»
– Что могло сильнее ранить свёкра, – невозмутимо продолжал патриций, – как не превращение его сына в гомосексуалиста, в раба своих желаний? Скажи мне, Гай, как он окрутил тебя, как соблазнил?
Юноша упрямо мотал головой, категорически всё отрицая.
– И Квинтилий делает беспомощного Гая своим любовником. Он соблазняет его, заставляет совершить то, что для настоящего римлянина, чтящего древние традиции, считается позорным преступлением. Он пачкает его тело и крадёт у него душу. Гай полностью подчиняется ему, а коварный зять только смеётся над его угрызениями совести.
Руфо смотрел на Аврелия испепеляющим взглядом. Гай продолжал всё отрицать, беспомощно, по-детски раскачивая головой.
– Чтобы не было свидетелей, они встречались в доме куртизанки, которая охотно предоставляла им своё гнёздышко для любовных утех. С величайшей осторожностью, разумеется. Но однажды ваша покровительница пригрозила, что заговорит, верно, Гай? Я знаю, потому что она призналась в этом Эннию. Она сказала ему, что скоро у неё будет много, очень много денег. Они нужны ей, потому что она хочет покончить с распутной жизнью и начать всё сначала подальше от Рима. Чем она угрожала? Что расскажет о твоих отношениях с Квинтилием отцу – человеку, который убил бы тебя, как убил своих детей Брут, если бы только узнал об этом? Вот тогда тебе и пришлось убить и Коринну, и своего зятя-любовника. Ведь Квинтилий хотел одним ударом освободиться и от тебя, и от твоего отца, чтобы развестись с Марцией и получить остатки состояния семьи. Квинтилий хотел поговорить с твоим отцом и посмотреть на него, когда станет описывать твои с ним любовные утехи. Возможно, ему даже не столько хотелось получить деньги, сколько помучить человека, который держал его в зависимости. Униженный и сгорающий от стыда, Руфо доставил бы ему больше радости, чем возможность положить в карман жалкую плату за своё молчание. Ты не мог позволить ему этого, верно? Твоя сестра пыталась защитить тебя, отстранив меня от этого дела, но напрасно. Она видела всё! – категорически заявил Аврелий, указывая на маленькую рабыню, которая сидела возле его триклиния. – Смелее, Псека, расскажи, как следует, со всеми подробностями, чем занимались Гай и Квинтилий в комнате Коринны!
Гай высвободился из объятий крепко державшей его Марии и и вскочил с криком:
– Это неправда! Он любил меня! И я любил его! Всё было совсем не так, как ты говоришь! Я не мог убить его! Я бы скорее умер, чем поднял на него руку! Он не был извращенцем, он по-настоящему дорожил мной! Он делал это не для того, чтобы ранить моего отца, а для меня, потому что любил меня!
Гай в растерянности огляделся, ища поддержки у окружающих, но все опускали глаза, избегая его взгляда. Наконец он повернулся к отцу, который, окаменев, с отвращением смотрел на него.
– Отец, Квинтилий любил меня. Я в этом уверен! Наши чувства были благородными.
Глаза Руфо сощурились до узких щёлочек, в которых не было и следа жалости.
– Я любил его, отец! В Греции это было бы разрешено. И в Риме теперь многие считают, что это наивысшая форма любви. Как можно предпочесть такой любви женщину, глупую самку, подлую и продажную? Только между двумя мужчинами, схожими по воспитанию, характеру и взглядам, может родиться подлинное чувство. У нас так и было…
Руфо молчал, бесстрастно глядя куда-то вдаль, поверх головы сына.
– Я не убивал его, отец, клянусь! Он был слишком дорог мне!
– Знаю, – холодно произнёс старик. Он помолчал и твёрдо произнёс: – Я сделал это вместо тебя. Если бы это совершил ты, тебе пришлось бы искупить вину.
– Отец! – Гай в рыданиях рухнул наземь.
Фурий Руфо, невозмутимый и величественный, словно бог, готовый метнуть свою молнию, продолжал в полнейшем спокойствии:
– Это я убил твоего любовника. Потому что он превратил тебя в человека, недостойного называться римлянином. Я убил и ту жадную проститутку, потому что она грозила разоблачить вас. Я избавился и от её грязной сводни, которая явилась ко мне, требуя денег за своё молчание. И когда я бросил её в Тибр, то побоялся, что заражу священные воды этой реки. Но одного я не сделал и горько стыжусь этого: я не нашёл в себе мужества убить сына – выродка и бесчестье моего рода.
– Убей меня, отец, прошу тебя, убей здесь на глазах у всех! Без твоего уважения и любви Квинтилия я не смогу дальше жить!
– Нет, ты будешь жить, потому что я осуждаю тебя на это. Знай же, что человек, к которому ты питал благородное чувство, приходил ко мне и со смехом описывал твою одержимость и твои мерзости. Так оплакивай его, если хочешь! Ты недостоинумеретькакримлянин! Тыбудешьжить и выполнишь хотя бы остаток своего долга перед предками. Будешь жить и отправишься на войну искать смерти, чтобы никто не узнал, что ты был жалким изнеженным мальчишкой. Нет, я запрещаю тебе, запрещаю – понимаешь? – лишать себя жизни из-за этого ничтожества! Только когда выполнишь свой долг по отношению ко мне и Риму, можешь умереть, да и то если хватит мужества.
Потом он обратился к Марции:
– Дочь моя, я никогда не доверял тебе, полагая, что ты подвержена слишком многим слабостям. Теперь понимаю, что именно ты – моя истинная наследница, обладающая силой Порции и благочестием Корнелии[69]69
Корнелия – одна из благороднейших римлянок, дочь Сципиона Африканского Старшего, жена Семпрония Гракха, мать Гракхов. Однажды, когда её спросили, где её украшения, она отвечала, указывая на сыновей: «Вот моё украшение!» После смерти мужа, которому она родила двенадцать детей, целиком посвятила себя их воспитанию и даже отказалась ради этого от руки царя Птолемея Египетского.
[Закрыть].
В зале стояла глубокая тишина. Никто не решался вымолвить ни слова.
– Зови своего раба, Аврелий, хочу продиктовать завещание.
– Отец, прости меня! – застонал рыдающий Гай.
– Уведи его, Марция. Смерть избавит меня от лицезрения его, – сказал старик, отвернулся от сына и, приподняв край тоги, заслонился, чтобы не видеть того, кто перестал для него существовать. – Пиши! – приказал он рабу, обмакнувшему стило в чернила.
В полнейшей тишине, прерываемой лишь стенаниями Гая, голос Руфо звучал властно и уверенно.
– Я, Марк Фурий Руфо, в прошлом командир двенадцатого легиона, римский сенатор, публично признаюсь перед свидетелями, которые подпишут вместе со мной этот документ, что я убил своего зятя Квинтилия Джеллия за то, что, будучи позорным извращенцем, он неоднократно, хоть и безуспешно пытался совратить моего единственного сына Гая Руфо и побудить его к действиям, несовместимым со званием римского гражданина.
Поскольку мой сын не мог дольше терпеть настойчивые домогательства зятя, он обратился ко мне с просьбой о помощи. Хорошо зная, насколько законы Рима отошли от суровых обычаев предков, и не сомневаясь, что презренный Квинтилий избежит справедливого наказания, я приговорил его к смерти и казнил собственноручно.
Точно так же я убил вольноотпущенницу Цецилию, то есть Коринну, и её сводню Гекубу, соучастниц моего зятя в его позорных планах.
Этим заявлением я снимаю с сенатора Публия Аврелия Стация подозрения в тройном убийстве и кладу конец моим дням, поручая моих детей милости императора.
Фурий Руфо решительно обмакнул в чернила свою печать и приложил её к папирусу.
Все смотрели на него в потрясении.
– Вы слышали, что я продиктовал. Поклянитесь мне, что эта, и только эта, версия событий будет вынесена отсюда. В противном случае смерть четырёх человек окажется напрасной.








